Александр Петрович Казанцев. Пунктир воспоминаний
Повесть
о часах, переведенных
на семьдесят пять лет назад
(автобиографическая повесть)
---------------------------------------------------------------------
Книга: А.П.Казанцев. "Льды возвращаются"
Издательство "Молодая гвардия", Москва, 1981
OCR & SpellCheck: Zmiy (zpdd@chat.ru), 25 декабря 2001
---------------------------------------------------------------------
Содержание:
1. Туманное детство и дерзкая юность
2. Инженерная влюбленность и изобретательский жар
3. Нежданная фантастика
4. Шаг за океан
5. Институт имени Жюля Верна
6. "Вице-король Штирии"
7. Хиросима и тунгусская тайга
8. По Африке и вокруг Африки
9. Пути воплощения
10. Огонь идей, гипотез жженье
11. Модель грядущего
12. Сонеты
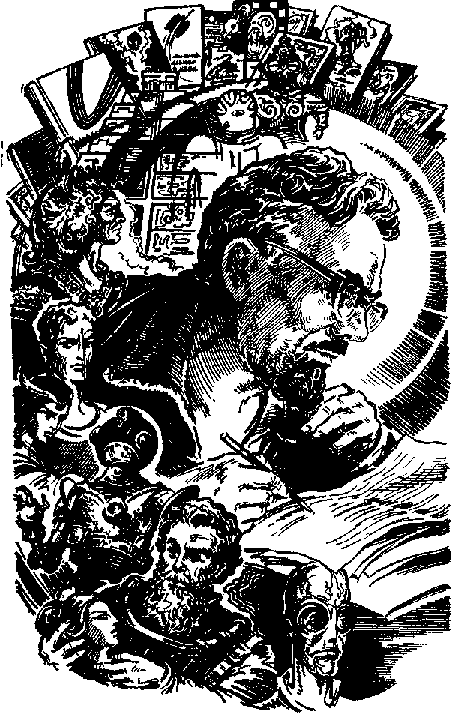 В игре стремнин воображенья
Поток бурливый напоен
Огнем идей, гипотез жженьем
И тайной будущих времен
В игре стремнин воображенья
Поток бурливый напоен
Огнем идей, гипотез жженьем
И тайной будущих времен
1. ТУМАННОЕ ДЕТСТВО И ДЕРЗКАЯ ЮНОСТЬ
Как быть, если память на прошлое плоха, имена и лица давних лет
стерлись, словно их заслонила устремленная в грядущее фантазия? Может быть,
решиться на воспоминания пунктиром?
Родился 2 сентября 1906 года в Акмолинске, ныне Целинограде. Родной
город покинул шести лет. Тем ценнее внимание Целиноградского областного
краеведческого музея, который недавно вспомнил о своем земляке. Увы, не
слишком весело, когда тебе грозит честь стать "музейным экспонатом" - это
мягко напоминает о возрасте, о котором частенько забываешь!
Что я помню об Акмолинске? Двухэтажный дом на площади, большую комнату
с отгороженной перилами лестницей в нижний этаж. И еще гигантские шаги. Лечу
все выше и выше, и у меня захватывает дух. Родился страх высоты...
Ровные бескрайние степи, как море, смыкаются с небом у горизонта.
Лошади тащат кибитку в Петропавловск, куда перебирается наша семья по
приказу деспотического деда, разгневанного на отца. Юрты на дороге, табуны
лошадей, вкусный, бьющий в нос кумыс, гостеприимные хозяева, с которыми
отец, Петр Григорьевич, говорит на их языке.
Петропавловск. Крайний дом на Пушкинской улице, обитель туманного
детства. Обрывки воспоминаний, вырванные картины... Верховая езда,
спортивные снаряды, трапеция, акробатические трюки, увлечение цирковой
борьбой (спорт на всю жизнь остался мне близким, а для старшего брата
Виктора - специальностью).
И вдруг нелепое желание написать роман "Восстание в Индии", о которой,
конечно же, не имел ни малейшего понятия! Не сохранились детские тетрадки с
каракулями девятилетнего ребенка, наивно повествующего об английском
колониальном иге. Прошло четверть века, когда я снова взялся за романы...
В одиннадцать лет первый класс реального училища. Учителя в мундирах.
Инспектор училища Балычев, прививший любовь к математике, развитую потом
частной учительницей, сухонькой старушкой Верой Петровной. Пышнобородый поп
доказывал: "Никто не может находиться на кафедре, коли я стою на ней. Так же
не быть никому на месте бога единого". И он победно смотрел на ошеломленную
такой логикой короткостриженую паству.
Всплывает в легком тумане детства жемчужина Казахстана - местечко
Боровое, ныне курорт. Когда едешь по степи, вдруг среди голой равнины чудом
возникает горная страна с хрустальными озерами, густыми пахучими лесами,
живописными скалами и легендами, пещерами разбойников и прочими дурманящими
мальчишеские головы вещами: Окджетпес ("Стрела не достанет"), Сфинкс, Пещера
Кинесары...
В реальном училище довелось мне проучиться лишь в двух классах.
Империалистическая война - и здание училища занял госпиталь. Мы с братом
дружили со Стасиком Татуром (спустя шестьдесят лет высокий и седой отставной
кавалерийский офицер, участник второй мировой войны Станислав Татур отыскал
друга детства на III Всеевропейском конгрессе научных фантастов в Познани).
Втроем ходили мы на частные уроки к толстому немцу Ивану Карловичу и на
уроки... польского языка (со Стасиком за компанию!). Татуры собирались в
Польшу, я же козырял своим дедом Казимиром Курдавновским, блестящим
гусарским полковником и революционером, сосланным в Сибирь за участие в
восстании 1863 года. К столетию восстания меня запрашивали из народной
Польши: что я знаю о своем деде-революционере? Я ничего не знал. Видел
только портрет. Гордый взгляд, пышные усы, гусарский ментик, отороченный
мехом. Моей матери Магдалине Казимировне, когда он умер в Екатеринбурге,
исполнилось всего четыре года. Ничего не знал я и по-польски, запомнил лишь
одно слово, которым учитель всегда заканчивал урок, - "кропка" (точка!).
Впрочем, когда через двадцать лет в какой-то нью-йоркской лавочке
хозяин-поляк обратился к иностранцу не по-английски, мне показалось, что он
заговорил на родном славянском языке.
В Петропавловске утвердилась Советская власть. Перед тем у нас во
флигеле квартировали офицеры. Помню фамилию одного из них - Ерухимович.
Оказывается, мои родители потом прятали его от колчаковцев. Никому из
белогвардейцев и в голову не приходило, что красный комиссар (об этом я
узнал много позже!) скрывается у таких людей. Ведь отец был доверенным
частной торговой фирмы своего отца, Григория Ивановича, властного
седобородого старика, которого все мы смертельно боялись. Но эпизод с
красным комиссаром не был случайностью. Отец, мобилизованный колчаковцами,
перешел на сторону Красной Армии. В боях потерял все пальцы на руках -
отморозил, когда лежал, раненный, в снегу. Он никогда не признавал себя
инвалидом, активно работал и к концу дней, в глубокой старости, гордился
тем, что его называют первым общественником города Бабушкина (ныне одного из
районов столицы). Мать, учительница музыки, в последние годы жизни была
награждена орденом Ленина.
Еще в реальном училище вдруг выяснилось, что я ничего как следует не
вижу, не могу читать и никакие очки мне не помогают. Поехали в Томск к
профессорам. Останавливались у известного томского адвоката, К счастью,
зрение ослабло на нервной почве - болезнь прошла столь же неожиданно, как и
появилась, правда, при несколько курьезных обстоятельствах. На обратном пути
наш пассажирский поезд врезался в товарный, оставленный в тупике. Паровоз и
почтовый вагон свалились с насыпи под откос. Тамбуры первого пассажирского
вагона смялись гармошкой, и это смягчило удар. Я слетел с третьей (багажной)
полки так удачно, что даже не ушибся - свалился на толстую тетю. Женщина
улеглась спать на полу в проходе между нижними диванами. Могло ли ей прийти
в голову, что она послужит мне не только спортивным матом, но и лечебным
аппаратом, возвращающим зрение. Словом, я уподобился в детстве тому
человеку, который, упав с лошади, вдруг заговорил на древнегреческом языке,
которого никогда не слышал. Верно, у меня тоже что-то встряхнулось в мозгу и
вернуло его в нормальное состояние.
Пока отец воевал против колчаковцев, семья наша оказалась в Омске.
Фронт прокатился далеко на восток. Пришлось нам с братом "искать службу с
пайками", хотя мне было всего тринадцать, а ему пятнадцать лет. Осенью 1919
года я поступил на курсы машинописи и стенографии. Кончив их, устроился
работать "машинисткой" (?!) в омский губздрав. Этой своей службе я обязан
безукоризненной грамотностью: ведь писать деловые бумаги с ошибками и
постыдно и невозможно! Не обошлось без курьезов. Мужчины порой звонили в
машинописное бюро и принимали отвечавший им тоненький голосок за девичий.
Порой даже назначали свидание. Естественно, что "машинисточка" на них не
являлась. Разыгрывать же телефонных собеседников мальчишке доставляло
огромное удовольствие.
Стенография теперь начисто забыта, зато пишущая машинка до сих пор
верно мне служит и трещит "как пулемет", недаром моя мать была моей первой
учительницей музыки.
За работу в губздраве "юноша", так называл меня заведующий отделом,
получал, кроме пайка, еще несколько миллионов рублей в месяц... на них можно
было купить... пару коробков спичек. Зато "юноша" с гордостью исчислял свой
профсоюзный стаж с 1919 года!..
Отец вернулся из госпиталя. Ему требовались протезы для рук. Их никто
не производил. Человек деятельный, он организовал протезную мастерскую,
которой и стал заведовать. Однако протезы себе он так и не сделал, обходился
без них наилучшим образом.
Мы поселились в каменном одноэтажном здании мастерской. Пришла пора
подумать о дальнейшем образовании. Решили, что мы с братом поступим в
соседнее механико-строительное техническое училище. Брата к приемным
испытаниям готовил наш родственник Владимир Васильевич Балычев, бывший
инспектор реального училища. Я занимался сам. Точные науки всегда давались
мне легко. Геометрию прошел всю за одну неделю, и не только выучил, но и
влюбился в нее.
Экзамены мы с братом выдержали осенью 1920 года и из совслужащих снова
превратились в учеников. Техническое училище не только открыло передо мной
просторы техники, но и определило жизненный путь. И если брат, безгранично
преданный спорту, закончил потом Московский институт физкультуры и посвятил
себя любимой борьбе (он и сейчас мастер спорта СССР и член Всероссийской
судейской коллегии по борьбе), то я мечтал только об инженерстве. С
увлечением работал в мастерских училища, овладевая рабочими профессиями,
гордился собственноручно сделанными гаечными ключами и табуретками. Училище
тем временем преобразовали в техникум.
Спустя два года, в 1922 году, закончив два курса техникума и перейдя на
третий (что в те времена приравнивалось первому курсу вуза), я плавал по
Иртышу масленщиком-практикантом на пароходе "Петроград". И случилось так,
что соседнюю с практикантской каюту занимал почтенный пассажир, заведующий
главпрофобром. Он почему-то заинтересовался моей судьбой и стал убеждать в
том, что нет никакого смысла заканчивать техникум - он просто даст мне
направление главпрофобра в Томский технологический институт.
Мысленно представляю себе, как недавний масленщик с не отмытыми дочиста
руками и солидными бумагами главпрофобра в кармане покатил в знакомый ему
Томск. И там шестнадцатилетний паренек в распахнутой на груди рубахе и с
взлохмаченной головой явился к маститому томскому адвокату Петрову, у
которого останавливался в детстве с мамой. Конечно, семья адвоката встретила
незваного гостя настороженно. Мало он походил на сына Магдалины Казимировны,
которая привозила его к профессорам. Уж не убил ли этот бродяга полуслепого
мальчика? Не захватил ли его документы и рекомендательное письмо к адвокату?
Уж не собирается ли он ограбить богатую квартиру? Паренек не подозревал,
какое смятение вызвал он у томских знакомых своим появлением, и без всякой
задней мысли сел за пианино.
Шопен, седьмой его вальс, рассеял все сомнения! Конечно, это играл сын
Магдалины Казимировны, чудесной музыкантши. Пусть у паренька и не слишком
скромный взгляд, но надо ему помочь и устроить на квартиру к Кайманковой,
той самой, у которой сын от богатея-золотопромышленника Хворова.
Если посмотреть из теперешнего далека, то паренек и впрямь был дерзкий.
Опоздав к приемным испытаниям, он потрясал перед институтским начальством
главпрофобровским направлением "с производства". Начальство сомневалось.
Ведь претенденту на студенческую фуражку с молоточками (в ту пору их
носили!) всего шестнадцать, а не требуемые восемнадцать лет! Не говоря уже
об отсутствии законченного среднего образования! Впрочем, у кого оно тогда
было законченным! Империалистическая, а потом гражданская войны. Госпитали в
школьных зданиях!..
Все же настырного парня зачислили вольнослушателем, разрешили посещать
лекции, но никаких студенческих прав он не получил. Так открылись передо
мной институтские двери.
Теперь предстояло перевезти с вокзала багажишко. Хозяйка дала
полуразвалившуюся тачку. На пути из Томска-Первого под тяжестью чемодана и
книг она стала ломаться. Приходилось ее чинить, то и дело надевать слетавшее
колесо и снова толкать перед собой. В этой упорной борьбе с тачкой появилось
первое в моей жизни стихотворение:
С жизнью в бой вступай смелее,
Не отступай ты никогда,
Будь отчаянья сильнее -
И победишь ты, верь, всегда!
Эти наивные, полуребяческие строчки стали моим девизом на всю
последующую жизнь. В трудную минуту вспоминалась проклятущая тачка. И это
помогало!
Поселившись в доме, подаренном золотопромышленником хозяйке, в одной
комнате с ее сыном, которого надлежало учить арифметике, я стал жадно
слушать лекции в институте, бегая по уличным лестницам непременно через
ступеньку и обязательно перегоняя всех прохожих, издали намечая идущего
впереди.
Физика! Профессор Борис Петрович Вейнберг. Его ассистент, впоследствии
академик Кузнецов. Математика! Профессор Василий Иванович Шумилов. Бородатый
мужичок, промышлявший в трудные годы для прокорма семьи извозным промыслом.
Непревзойденный лектор! Вот кто приобщил меня к любимым наукам.
Очередная поломка "жизненной тачки" произошла в декабре 1922 года,
когда заканчивался триместр. Из центра указали, что всех вольнослушателей
надлежит или отчислить, или перевести в студенты. Можно было припомнить и
шестнадцать лет, и по два класса реального и технического училищ, даже
грозного деда, главу фирмы, не говоря уже об опоздании на приемные экзамены.
Словом, с институтом мне пришлось бы распрощаться, не будь профессоров
Вейнберга и Шумилова. Благодаря их заступничеству вольнослушатель стал
студентом, но... условно. Требовалось к концу года сдать МИНИМУМ для
перехода на второй курс. Тогда не сдавали всех предметов, как сейчас, а
набирали 75 процентов из нескольких по собственному выбору. Каждая
дисциплина оценивалась определенным числом очков.
К концу года мне удалось сдать экзамены и за первый, и даже частично за
второй курс.
Дальше все пошло гладко до пятого, последнего, курса. Здесь я застрял и
проучился вместо пяти семь с половиной лет! Проекты выполнял намеренно
повышенной трудности. И в диплом они вписывались с присвоением конструкции
имени автора.
Тогда еще жива была память о "вечных студентах", которые учились
сколько вздумается. Потому мне и удалось совмещать учебу с работой в летнее
время на производстве. Я поставил перед собой задачу: освоить те профессии,
с которыми мне как инженеру придется иметь дело. Ради этого я работал на
заводе "Машинострой", возникшем на базе института, и на многих заводах
Урала, Сормова, Москвы. Работал даже помощником механика Белорецкого
металлургического завода, будучи еще студентом, правда, законтрактованным
этим заводом.
Контрактация с выплатой повышенной стипендии оказалась как нельзя более
кстати, ибо к этому времени я успел обзавестись семьей: женой-однокурсницей
и дочкой Ниной. (Впоследствии она приняла инженерную эстафету родителей.)
В институте выкраивал время и для шахмат, стал даже чемпионом томских
вузов, участвовал в нескончаемых блицтурнирах (а-темпо, как тогда говорили)
в шахматном клубе. Он помещался на втором этаже старого дома. Там во дворе
под навесом стояла "избушка Кузьмича", небезызвестного загадочного старца,
принимавшего важных особ из Петербурга, чуть ли не самого императора
Александра Первого.
Молниеносные турниры играли без часов (их не было!) по общей команде
"белые, черные" через каждые пять секунд. Если опоздаешь с очередным ходом,
то противник имеет право делать следующий, не ожидая ответа на предыдущий.
Страсти разгорались. В стенной газете "Шах королю" поместили мои стихи,
кончавшиеся так:
Эй, маэстро, ходу, ходу!
Ты ведь тронул пешку - бей!
Эх, полить на них бы воду
Для охлаждения страстей!
Попробовал я тогда себя и в шахматной композиции. И даже занял
несколько призовых мест в первом конкурсе сибкрайшахсекции по задачам и
этюдам. Вернее сказать, другие произведения конкурентов оказались еще слабее
моих.
2. ИНЖЕНЕРНАЯ ВЛЮБЛЕННОСТЬ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ ЖАР
В январе 1930 года, закончив институт, я отправился на Белорецкий
металлургический завод, где сразу со школьной скамьи попал на должность
главного механика металлургического комбината. Таков был голод на
специалистов в первой пятилетке.
В те мои годы естественно влюбляться в девушек, ощущать себя Тристаном
или Ромео. Мне же привелось испытать влюбленность... в завод. Не мог я без
спазм в горле смотреть на полыхающее зарево мартенов, отраженное красочной
зарей в пруду, на факелы доменных печей. Любовался огненной змеей,
выскакивающей из валков и подхватываемой ловкими прокатчиками. Умилялся
розному гулу турбин и электрических генераторов. И все это подчинялось мне
как главному механику. Юный главный механик, несмотря на солидную должность,
как я вспоминаю себя теперь, не отличался степенностью, любил ходить по
заводскому двору по одному рельсу, без нужды забирался на крановые пути и,
превозмогая мучивший с детства страх высоты, шел, балансируя, как верхолаз,
по узким швеллерам. И обязательно бегом взлетал в небоскребную высь к
колошникам доменных печей. А когда дважды в одно и то же число мая (с
промежутком в год!) загорались у доменных печей склады с древесным углем,
безрассудно пробегал, накрывшись с головой мокрым балахоном, между огненными
стенами якобы для того, чтобы взглянуть на камнедробилки.
Именно там, на любимом заводе, была пройдена мной настоящая инженерная
школа. Институт дает понимание технических процессов, умение пользоваться
справочниками и технической литературой, а познавать на практике надо все
заново. И не только познавать, но и создавать.
Еще в институте числились за мной изобретательские "грехи". Профессор
А. В. Квасников преподавал у нас термодинамику и двигатели внутреннего
сгорания. Он и опубликовал мое студенческое изобретение - прибор термограф
для переноса индикаторных диаграмм из координат давлений и объемов в
координаты энтропии и абсолютных температур. Такой прибор мог помочь
распознавать неполадки в работе двигателя, незаметные на обычной
индикаторной диаграмме.
На заводе пришлось изобретать поневоле. Зимой 1930/31 года река Белая
(питавшая заводской пруд) промерзла до дна у одного из несчетных поворотов
узкоколейки, по которой бегали игрушечные вагончики и паровозики (в ту пору
единственная связь Белорецка с широкой колеей!). Уровень воды в пруде падал,
система охлаждения домен отказывала, в печах грозил образоваться "козел" из
твердого металла. Завод мог встать!..
Надвигалась катастрофа.
И тогда юному, неопытному, но одержимому изобретательским пылом
главному механику пришла в голову шальная мысль - охлаждать домны водой,
беря ее из замерзшего пруда, - перенести с электростанции мощный насос и
качать прямо из-подо льда.
В этом плане было больше жара, чем расчета. Насос перетащили на
плотину, опустили под лед всасывающий патрубок, но... поток воды скоро иссяк
- наскоро сделанная свинцовая прокладка всасывающего патрубка разболталась,
появился подсос воздуха, насос встал. Грозил встать и весь завод. Но
заслуженных упреков в горе-изобретательстве не было!.. Напротив! Каждый
стремился помочь в решении задачи.
Стали делать заново: мастерить модель, отливать прокладку из чугуна,
устанавливать патрубок накрепко, чтобы избежать подсоса воздуха во
всасывающей системе.
Десять дней и десять ночей мы не спали, превозмогая усталость,
разочарование, сон. И насос заработал, доменные печи удалось спасти! Но
какой ценой! Такое напряжение привелось мне испытать в жизни лишь еще один
раз, во время Великой Отечественной войны на Крымском фронте.
Трудно приходилось неопытному главному механику: ремонтный цех не
только изготовлял запасные части оборудования, действующего без
профилактического ремонта, но и выполнял первые почетные заказы соседнего
Магнитостроя. И случилось так, что я получил в один и тот же день грамоту
ЦИК АБССР за пуск сталепроволочного завода и выговор за опоздание ремонта
доменной печи.
Мой изобретательский жар не остывал. Вместе с другом, начальником
литейного цеха Н.З.Поддьяковым, удалось создать модель машины для
"геллиссоидального литья труб". О непрерывной разливке стали тогда еще не
слышали, а в этой машине в вертящемся кокиле металл должен был поступать
непрерывно, не только затвердевая у стенок, но и двигаясь вдоль них как бы
по винтовой линии. К сожалению, дальше макета дело не пошло. "Использовано"
изобретение было впоследствии лишь в научно-фантастическом романе "Мол
Северный".
Началась реконструкция завода, и мне пришлось отправиться в Москву по
скучному "увязочному" поводу.
В столицу я ехал к заместителю директора комбината Садыку Митхатовичу
Чанышеву, человеку поразительной энергии и методичности, спокойствия и
упорства, у которого стоило поучиться работать.
Чанышев вызвал так срочно, что в Москву предстояло лететь (!), что в те
годы было исключительным, почти невероятным событием. До Магнитогорска
добирался на попутной машине вместе с грузами для Магнитостроя. На Магнитке
висели плакаты с надписью: "До пуска первой доменной печи осталось
столько-то дней..." Переночевал я в доме приезжих и наутро вылетел в
Челябинск на маленьком самолете. Пассажир помещался позади пилота. Высунешь
непокрытую голову из кабины, и встречный яростный ветер так прилизывает
волосы, словно силится вырвать их с корнем, того и пяди облысеешь. А дальше
- из Челябинска в Москву - летел на одном из первых пассажирских самолетов
АНТ, двухмоторном. И после железнодорожного крушения в детстве привелось мне
снова попасть в катастрофу в Чувашии, над Волгой, недалеко от Чебоксар.
Отказал один из моторов. Но летчик умудрился посадить машину на яблони,
росшие по склону оврага. Они согнулись, спружинили, погасив посадочную
скорость как амортизаторы.
Когда перепуганные пассажиры выскочили из чудом не заклиненной двери
салона, то увидели, что хвост самолета застрял на краю оврага. Крылья,
согнув деревья, отломились, винты уткнулись в землю и разлетелись, моторы
сорвались... Словом, уцелела только та часть самолета, где находились мы и
летчики... Из пассажиров пострадал только один - ему порезало щеку
вылетевшим стеклом.
Летчики хмурились как тучи и даже не воспринимали нашей благодарности
за спасение жизни. Им предстояло отвечать перед судом за разбитую машину.
Мы сделали все от нас зависящее, чтобы их оправдали.
Я и попутчики воображали, что все теперь должны восхищаться нами,
счастливчиками. Однако до Чебоксар пришлось добираться с немалым трудом - на
подводах, пешком, на лодках, - и мы удивлялись спокойному равнодушию тех,
кто с недоверчивой ухмылкой выслушивал историю нашего спасения. От Чебоксар
до Москвы ехали уже поездом и не распространялись в пути о своем воздушном
злоключении.
В Москве, помимо дел, связанных с реконструкцией, увязок и технической
документации, выполнения заданий С.М.Чанышева, у меня было еще одно "тайное
дело", зревшее со студенческих времен. Еще под руководством профессора
Вейнберга занимаясь физикой, я изобретал способ передвижения вагона в трубе
с бегущим магнитным полем, в котором теоретически, как мне казалось, можно
достигнуть чуть ли не световой скорости. Так родилась идея "электрического
орудия", снаряд которого способен перелетать с континента на континент. В
Москву я привез модельку электрической пушки, сделанную моим другом и
помощником В.П.Васильевым.
Воспользовавшись отъездом в Ленинград С.М.Чанышева, со свойственной
тогдашнему моему возрасту наивностью я отправился в Наркомтяжпром, к
начальнику Управления военной промышленности Павлуновскому.
"Военное изобретение" оказалось паролем для немедленного приема и
показа в действии модели электропушки. Я включал ее в кабинете у письменного
стола вместо настольной лампы.
Снарядик лихо перелетал комнату, ударялся о стену. Его можно было
поднять с пола и снова им же выстрелить.
Дверь кабинета открылась, и на пороге появился коренастый человек в
длиннополой кавалерийской шинели. Кавказский тип лица, усы, проницательные
глаза. Он поздоровался с заметным грузинским акцентом. Я обомлел. Подумал,
что вошел сам Сталин! Но Павлуновский представил меня Григорию
Константиновичу Орджоникидзе. Нарком тяжелой промышленности попросил
продемонстрировать в действии модель электропушки. Я не только выполнил его
желание, стреляя маленькими снарядиками, но и показал апробированные
профессором Б.П.Вейнбергом расчеты возможной межконтинентальной СТРЕЛЬБЫ.
(Это в 1931 году!)
Товарищ Орджоникидзе стал расспрашивать, кем и где я работаю. Узнав,
что видит перед собой главного механика металлургического комбината, ничуть
не удивился. Улыбнувшись, заметил, что у меня там, наверное, довоенный
особняк? Я признался, что это почти так: три комнаты в четырехкомнатной
квартире.
Нарком распорядился предоставить мне отдельную четырехкомнатную
квартиру и лабораторию при подмосковном заводе имени Калинина. Не теряя
времени, он тут же отправил меня в своей машине к замнаркома обороны
товарищу Тухачевскому.
Орджоникидзе сразу оценил значение межконтинентальных снарядов, которые
ныне, спустя полвека, правда, уже не электрические, а реактивные
(межконтинентальные ракеты!), стали как бы стратегическим символом
современности.
Восторженный и растерянный, уселся я в открытый "линкольн" с
распластанной в беге гончей на радиаторе и едва понимал, о чем говорит
осведомленный обо всем на свете шофер. Он советовал изобретателю: когда тому
будет давать личную машину, брать только "линкольн". Забегая вперед, скажу,
что никакой машины мне никто не предлагал ни тогда, ни позже. Но я об этом
не думал, слишком потрясенный состоявшейся встречей.
Как в тумане, встает передо мной одно из зданий Наркомата обороны,
широкие коридоры, наконец, приемная замнаркома. Там в кресле сидел Буденный.
И он вежливо встал, легендарный командарм, поразив своей учтивостью молодого
инженера в самое сердце! Кто был я по сравнению с ним, героем гражданской
войны!
Тухачевский, сдержанный человек невысокого роста, с приятным
интеллигентным лицом, вышел из-за стола мне навстречу. В петличках военной
гимнастерки ромбы, на груди несколько орденов Красного Знамени. Впервые
увидел я их сразу столько! Вспомнилось, что в мои детские годы именно он,
Тухачевский, командуя Пятой армией, изгнал Колчака из Сибири.
Тухачевский попросил продемонстрировать модель. Вообще-то ее,
аляповатую, пожалуй, стыдно было показывать в Москве. Но, может быть, в этой
несовершенности, позволяющей все же представить, что будет на самом деле,
таилась ее особая" впечатляющая сила! Когда меня знакомили с Орджоникидзе, я
так волновался, что запутал провода. Тухачевский взялся помочь их распутать.
- Осторожно, Михаил Николаевич, - предупредил я. - Как бы вас не
ударило током.
- Уже ударило, - невозмутимо отозвался замнаркома, и ни один мускул не
дрогнул на его лице.
Потом мне не раз приходилось встречаться с Тухачевским на подмосковном
заводе, где директорствовал крутой и деятельный Мирзаханов. Михаил
Николаевич всегда поражал меня своей выдержкой, спокойствием, приветливостью
и ясностью мысли.
В своей оценке перспектив межконтинентальных снарядов Орджоникидзе и
Тухачевский оказались поразительно дальновидными. Другой разговор, что в ту
пору электрокатапульта, способная перебрасывать снаряды с материка на
материк, требовала электрических мощностей, которыми страна тогда еще не
располагала. Изобретение электроорудия пришлось, увы, не ко времени. И лишь
недавно в печати промелькнуло сообщение, что в Западной Германии собираются
осуществить проект гигантской электрокатапульты, способной разогнать снаряд
до космической скорости.
Но в начале тридцатых годов к осуществлению мечты приходилось идти
ощупью. Однажды в лабораторию электроорудий при заводе Мирзаханова приехал
горячий молодой армянин Андроник Гевондович Иосифьян, начальник лаборатории
одного из институтов. Оказывается, там занимались той же проблемой создания
электрического орудия.
С этого дня началась наша с ним дружба и совместная работа. Обе
лаборатории слили. И я перешел работать в ВЭИ.
Иосифьян был человеком непостижимой энергии, выдумки, кругозора. Буйная
ярость в запальчивости сочеталась в нем с душевной добротой,
принципиальность с товариществом. Неутомимый искатель и талантливый
организатор! Впоследствии и Герой Социалистического Труда, и заслуженный
деятель науки и техники, и академик Армянской академии наук, и ее
вице-президент, а также лауреат Ленинской и двух Государственных премий по
науке.
А тогда он только еще готовил свою докторскую диссертацию.
На защите его диссертации мне посчастливилось познакомиться с
академиком Глебом Максимилиановичем Кржижановским, соратником В. И. Ленина
по ГОЭЛРО и "крестным отцом" Иосифьяна в науке. Он председательствовал на
заседании ученого совета, когда А.Г.Иосифьяну присудили ученую степень
доктора технических наук. Потом он стал и профессором. Затем возглавил и
долгие годы руководил Всесоюзным научно-исследовательским институтом
электромеханики, к созданию которого я тоже имел отношение.
Тогда, в начале тридцатых годов, молодой ученый поддержал меня,
молодого изобретателя, сделал руководителем группы в своей лаборатории. В
этой группе работали еще два человека, дружбой с которыми в те годы горжусь
и ныне. Первый из них - инженер Калинин, сын Михаила Ивановича Калинина. Он
недолго проработал у нас. Потом мы встретились с ним через несколько лет в
Нью-Йорке, на международной выставке "Мир будущего", где американцы
почтительно величали его "сын президента".
Вторым к нам в группу включился инженер-изобретатель Пантелеймон
Кондратьевич Пономаренко. Одно из оборонных авторских свидетельств у нас с
ним общее. После моего ухода из института на другую работу он быстро
поднялся по партийной линии, стал первым секретарем ЦК Коммунистической
партии Белоруссии, а во время войны начальником Центрального штаба
партизанского движения.
А как же электроорудия? Зашла ли эта идея в тупик? Откуда взять
грандиозный импульс энергии для выброса межконтинентального снаряда? Пришла
в голову мысль о мгновенном разряде конденсатора огромной емкости. Таким
сверхаккумулятором, или, как теперь говорят, накопителем энергии, могли бы
стать конденсаторы с тонкослойной изоляцией академика А.Ф.Иоффе. И я
помчался к нему в Ленинград. Абрам Федорович как раз выступил тогда с
сенсационной теорией тонкослойной изоляции. Чем тоньше сделать изоляционный
слой, тем больше, по его мысли, электрическое напряжение способен он
выдержать. Лучше всего получить бы молекулярный слой! Запасенная в нем
энергия будет максимальной!
Вот то, что требуется! Но... академик Иоффе разочаровал меня,
изобретателя, хватающегося за "энергетическую соломинку". Выявилась
трагическая для наших надежд ошибка. Прочность изоляции - увы! - не
увеличивалась по мере утончения! Сверхаккумуляторы так и не родились!
Правда, вместо них Иоффе открыл полупроводники, с которых началась новая
эпоха в совсем другой области техники. Но об этом позже. Дли создания
электрических орудий необходим был новый уровень энерговооруженности,
завершение вслед за Днепрогэсом строительства других мощных электростанций и
фантастическое мгновенное переключение всей промышленной мощности на
электрическое орудие. Если это и было выполнимо, то лишь в будущем. А
пока...
А пока директор Ленинградского Дома ученых Израиль Соломонович Шапиро,
с которым я сблизился в Ленинграде, стал уговаривать меня поделиться своими
идеями с кинематографистами, принять участие во Всесоюзном конкурсе
научно-фантастических сценариев, проводимом Домами ученых Москвы и
Ленинграда совместно с киностудией Межрабпомфильма.
- Ваша фантазия обгоняет время, - убеждал он. - Почему бы вам не
попробовать себя в фантастике?
И он прислал стенографистку. Требовалось фантазировать при ней вслух на
любую тему, а потом перевести все это на язык сценария. Поначалу
стенографистка очень меня стесняла, связывала. Всегда поражаюсь писателям,
которые диктуют свои произведения. Помогла фантазия: позволила вообразить,
что вокруг никого нет, и говорить, говорить, говорить... Стенографистка
ушла, унося с собой набросок киносценария "Аренида" о том, как с помощью
электроорудий человечеству удалось разрушить падающий на Землю астероид
"Аренида".
Я вернулся на опытный завод, где ведал производством, и забыл о своем
первом фантастическом опусе. Но вот курьез! "Аренида" получила высшую премию
конкурса "Межрабпомфильма" и Домов ученых. Популярный режиссер и актер
Эггерт решил ставить фильм. Но, увы, Эггерт умер, и никто не взялся вместо
него за "Арениду".
Однако сценарий заботами И. С. Шапиро публиковался в центральной
печати, и Детиздат заинтересовался им. Редакторы Александр Николаевич
Абрамов и Кирилл Константинович Андреев предложили мне написать на ту же
тему (уже одному!) под их руководством роман.
Как измерить то легкомыслие или, мягко говоря, легкость, с какой их
предложение было мной принято! Мог ли я подозревать, какие рифы и айсберги
поджидают в этом трудном "плавании"? Мой "кораблик" из исписанной бумаги
непременно пошел бы ко дну, не будь жесткой творческой требовательности и
увлеченной дружеской помощи самоотверженного редактора Кирилла
Константиновича Андреева. Просмотрев первое мое писание, он признался, что
"никогда в жизни не видел ничего более беспомощного и более обещающего".
"Жизненная тачка" разваливалась. Помог мне старый девиз "быть отчаянья
сильнее", и, проявляя завидную настойчивость, я каждую среду привозил
Кириллу Константиновичу написанную по ночам новую главу и настороженными
глазами жадно следил за выражением его лица во время чтения. Потом
переделывал, переписывал, переосмысливал.
Когда первый вариант романа (а их было четырнадцать) был написан, в
газете "Правда" появилась статья первого секретаря ЦК комсомола товарища А.
Косарева о необходимости бороться с суевериями вроде распространения
безответственных слухов о столкновении Земли с другой планетой и гибели
всего живого. Оказывается, сценарием, опубликованным в "Ленинградской
правде", воспользовались сектанты, чтобы пугать паству близким концом света.
Роман мой рухнул, я сам не рискнул бы теперь его печатать. Результат -
нервное потрясение. Все майские дни 1938 года лежал с высокой температурой,
по-видимому, разжигавшей фантазию. "Если отказаться от столкновения Земли с
Аренидой, - полубредил я, - исчезнет памфлетная острота сюжета. От чего же
оттолкнуться, чтобы сохранить символическую всемирную опасность, устранить
которую способны электроорудия и сверхаккумуляторы?" Однако как в детстве
железнодорожная катастрофа вернула мне зрение, так и теперь новая встряска
способствовала озарению. Выход нашелся. Правда, роман пришлось переписать
заново, оберегая в нем все самое главное. "Аренида" стала островом, а
человечеству грозили не космические катаклизмы (столкновение планет), а
вызванный людьми же пожар атмосферы. "Аренида" загорелась и стала "Пылающим
островом".
Роман печатался изо дня в день в течение двух лет в "Пионерской
правде". И поныне радуют признания почтенных уже людей, что они в детстве
якобы зачитывались им и что роман навел их на мысль стать физиками,
химиками, инженерами.
Перед самой войной "Пылающий остров" вышел отдельной книгой в
Детиздате. Так появился новый писатель-фантаст. Но инженер продолжал в нем
жить. Надо признаться, что писателю приходилось бороться с самим собой, со
вторым своим "инженерным я", преодолевая строй инженерного мышления, строй,
прямо противоположный мироощущению художника. Ведь инженер идет от общего к
частному, от сборочного общего вида к рабочим чертежам. Художник же
воспринимает жизнь и воспроизводит ее через достоверные детали.
Многое в "Пылающем острове" подсказано чутьем и осмыслено лишь много
лет спустя, но главное было достигнуто - роман дошел до своего читателя. И
не только пионерского возраста. После окончания войны он печатался
ежедневными фельетонами в газете французских коммунистов "Юманите". В его
редакции в 1958 году автор встретился с издателем газеты Фажоном и главным
редактором Анри Стилем. Распили бутылку шампанского, извлеченную из сейфа.
Пришлось нарушить свой "сухой закон" и поднять тост: "За Париж!" - "За
социалистический Париж!" - поправили меня французские товарищи.
Сорок лет спустя после первой публикации роман вышел в новом варианте
специальным изданием в издательстве "Детская литература" "только для
библиотек". Основная же его фантастическая идея - использование
сверхпроводимости в электрических машинах и "накопителях энергии"
(сверхаккумуляторах) - стала уже технической задачей наших дней. В 1980 году
перед Первым мая позвонил один из главных конструкторов (которого я не знал)
и в качестве первомайского подарка сообщил, что некоторые идеи "Пылающего
острова" воплощены в жизнь в его КБ. Мог ли автор романа мечтать о большем?
Но вернемся на десятилетия назад, к тому времени, когда, закончив свой
первый роман, который еще никак не прозвучал, я уже тянулся ко второму
роману. Требовался замысел под стать "Пылающем острову", "глобальный", как
сказали бы теперь. То была пора великих свершений в Арктике, высадки
папанинцев на Северном полюсе, перелетов через Северный полюс Чкалова и
Громова. Как отражение этих ярких дел и возникла идея соединения
Европейского и Американского континентов по прямой линии через полюс. Но не
по воздуху, а подо льдом, на стометровой глубине подводным плавающим
туннелем. Тросы на якорях удерживали бы его от всплытия. Если создать в
туннеле вакуум, то поезда, не испытывая сопротивления, способны двигаться в
нем со скоростью тысяч километров в час, притом без затраты авиационного
горючего. Никакому реактивному топливу не выдержать конкуренции с дешевой
электрической тягой! Арктический мост представлялся новым средством связи
между континентами. Но чтобы написать такой роман, надо побывать в Америке!
Подобное желание начинающего фантаста выглядело в те годы по меньшей мере
утопией. Но... в 1939 году в Нью-Йорке отрывалась международная выставка. В
Москве готовилась экспозиция советского павильона. Объявили внутренний
конкурс на машины, автоматически демонстрирующие экспонаты. Я, начинающий
писатель, "тряхнул стариной" и принял в нем участие. Предложенная мной
конструкция понравилась. Советская часть Нью-йоркской международной выставки
попросила Мытищинский вагоностроительный завод, где я занимался новыми
тормозами для трамваев (перешел туда на работу из-за близости завода к
подмосковной квартире, чтобы выкроить время для литературы!),
откомандироровать меня для изготовления новых машин. Когда же понадобилось
отправить кого-то в Нью-Йорк для монтажа оборудования советского павильона,
то оказалось, что именно я в курсе всех, не только своих, дел и послать
удобнее всего меня. Для прохождения формальностей предстояло посетить
американское посольство на Манежной площади в доме с колоннами, рядом с
отелем "Националь" - ответить на щекотливые вопросы, ставящие под сомнение
даже временное пребывание в США: "Верите ли вы в бога?", "Состоите ли в
такой коммунистической организации, как профсоюзы?" Взглянув на советского
гражданина, собравшегося на Нью-йоркскую выставку, чиновник посольства
отобрал у него листок, заметив: "Ну, это вам заполнять не требуется". Так
всему персоналу советского павильона вопреки тогдашним иммиграционным
правилам, которые распространялись на любого въезжающего, разрешили посетить
Соединенные Штаты (а то не открылся бы советский павильон на выставке!).
Дух захватило, когда впервые в жизни я пересек советскую границу в
поезде Москва - Париж.
Париж, Париж! Он произвел неизгладимое впечатление. Камни мостовых как
страницы истории.
Он промелькнул, но я еще вернусь в него на обратном пути. А пока
поездом в порт Шербур.
Курьезным оказалось первое знакомство с рядовыми американцами. В купе
напротив нас, троих русских, в одиночестве сидела миловидная девушка, одетая
просто, но по моде. Я чуть-чуть говорил по-немецки, мои спутники так же
по-английски. Но все застенчиво молчали. Вдруг девушка резко встала, подошла
к окну и решительно опустила стекло. Донесся шум с парижского перрона. Она
же, засунув в рот четыре пальца, пронзительно свистнула, да так, что
заломило в ушах. Мы переглянулись. "Соловей-разбойница", нимало не смущаясь,
снова лихо засвистела. Потом высунулась в окно и замахала руками. Скоро в
купе вошел молодой человек и расцеловался с нашей свистуньей. Оказывается,
"его девушка" так вызывала его к своему вагону. Они совершали предсвадебное
путешествие, чтобы лучше узнать друг друга. В пути мы кое-как
переговаривались с этими простыми и милыми людьми. До чего же устарелыми
показались теперь наши чопорные представления о том, что принято и что не
принято в обществе!
Через Атлантический океан плыли на самом большом в ту пору океанском
лайнере "Куин Мэри". Впоследствии его превратили в плавучий госпиталь, и он
стоял со своими страдающими "пассажирами" в нью-йоркском порту. Во время
нашего рейса пассажиры тоже страдали, но не от ран, а от мерзкой морской
болезни. К счастью, мы ее не чувствовали и потому узнали, как обогащается
океанская компания. В стоимость билета входила и плата за питание во время
рейса. Однако с каждым днем по мере возрастания океанских волн народу в
ресторанных залах убывало. Нас обслуживал пожилой предупредительный стюарт,
который не получал за свою работу жалованья, а, напротив, платил за право
обслуживать пассажиров в расчете на чаевые.
Шторм разыгрался до одиннадцати баллов. По чистому совпадению океанская
волна окатила меня с головы до ног именно на одиннадцатом этаже палубы,
когда я любовался, как вздымаются океанские валы и как лайнер зарылся-таки
носом в "девятый вал", похожий на мраморную стену. Переодеваясь к обеду, я
уверял друзей, что количество баллов шторма определяется этажом, где тебя
достанет холодный душ. Все это не помешало нам поглощать еду в пустующем
ресторане с завидным аппетитом... Потерявшим аппетит пассажирам стоимость
питания не возвращалась. Зато свой промокший костюм я получил к вечеру - его
высушили и выгладили за счет компании!
В Нью-Йорке поражало все. Прежде всего "кирпичи в облаках". Верхние
этажи небоскребов исчезали в тумане. Улицы выглядели трехэтажными. Два этажа
пересечений магистралей, по третьему мчится "надземка", к счастью, уже
электрическая. Но не так давно здесь ходили паровозы - стены окрестных домов
все еще покрывала копоть.
Нас пригласили к советскому консулу. Он посоветовал по возможности не
отличаться от американцев. Надо вспомнить, что лишь недавно, после избрания
президентом Франклина Д.Рузвельта, Америка признала СССР, а газеты
по-прежнему упражнялись в измышлениях о советских людях, их обычаях и нашего
якобы варварства. Пришлось оставить консулу... свои кепки. Он сложил их
стопкой на столе, сказав:
- Кепки здесь носят только рабочие во время работы и обитатели Гарлема.
Также забрал он и наши "красные паспортины", чтобы мы их не потеряли,
заверив, что никакие документы нам на международной выставке не понадобятся.
Время подготовки к открытию советского павильона оказалось для меня
самым горячим. В Америку я ехал под впечатлением замечательной книги Ильфа и
Петрова "Одноэтажная Америка", которая развеивала миф о ее многоэтажности
(небоскребы стоят лишь в Нью-Йорке, Чикаго и некоторых других крупных
центрах), но подтверждала давнее мнение об американской деловитости,
практичности и обязательности.
Увы, всякая деловитость и обязательность у американцев исчезала, едва
дело касалось "нестандартных работ", требующих инициативы, как у нас
говорят, "смекалки русских мастеровых". Именно это и неприсуще славным
американским парням, угощавшим друг друга, да и меня заодно, дружескими
затрещинами. Выдумка и энтузиазм им чужды.
Квартировали мы с художником Вин Винычем (Вениамином Вениаминовичем) у
старого чеха, который, прожив здесь четверть века, продолжал называть город
Нев-Йорком (как пишется!). Когда мы приветствовали гостей хозяина словами
"Добрый вечер", нам отвечали "Вечер добрый" - принимали за чехов. То, что мы
русские, обнаруживалось порой самым неожиданным образом. Как-то мы зашли в
кафетерий выпить чаю. К столику подошел американец и по-русски попросил
разрешения сесть с нами. Мы удивились, как он, не слыша ни одного нашего
слова, узнал, что мы из России?
- А как же! - отозвался он. - Ведь вы положили чайные ложки в стаканы и
не вынули их, когда пьете. Так делают только русские.
После открытия международной выставки под девизом "МИР ЗАВТРА" я как
начинающий фантаст имел бесценную возможность познакомиться со всеми
павильонами и даже описать их в большом очерке "МИР БУДУЩЕГО".
Напечатанный после моего возращения домой даже раньше "Пылающего
острова", он и стал моей первой публикацией ("Новый мир", 1939, No12).
Корифеи советской литературы Федор Гладков и Леонид Леонов - главный
редактор "Нового мира" и его заместитель - пригласили меня в свой кабинет в
"Известиях" и сказали, что очерк имеет славного предшественника -
"Одноэтажную Америку", но что я не ударил-таки лицом в грязь. А потому
следует подумать теперь мне о романе. И были удивлены, узнав, что роман уже
написан, начинает печататься в "Пионерской правде" и готовится отдельным
изданием в Детиздате. И что после пребывания в Америке я уже сел за второй
роман. Возможно, они не одобрили такой скоропалительности, но впоследствии
именно Леонид Леонов вместе с С. Я. Маршаком рекомендовали меня в Союз
советских писателей.
В "Новом мире" я рассказал, как с территории выставки в грядущее была
отправлена "БОМБА ВРЕМЕНИ".
Я не присутствовал при "старте" "бомбы времени", но ясно представляю
себе, как огромный, похожий на современную ракету баллон, наполненный
нейтральным газом и образцами быта современных американцев, начиная с
цветастых подтяжек, телефонов, кинопроекторов и кинолент, модных костюмов и
избранных книг, альбомов фотографий, словом, всем-всем, кончая письмом
Эйнштейна потомкам, под звуки музыки торжественно опустили в шахту. Труднее
представить себе будущие раскопки Нью-Йорка. Узнают ли археологи грядущего,
какой подарок шлет им двадцатый век? Вырастут ли на месте современного
пригорода Нью-Йорка Фляшинга колоссы будущего Уранополиса или почтительные
потомки сохранят здесь заповедное место, не доставая раньше, чем через
загаданные пять тысяч лет, завещанное предками?
"Миру будущего"? Каков-то он будет?
На выставке "Мир завтра" был представлен преимущественно товарами,
которые предстояло завтра сбыть. И в павильонах стран и фирм без конца
показывались только что появившиеся телевизоры, новые холодильники,
стиральные машины и, конечно, автомобили, автомобили, автомобили...
Высокообразованные "рикши", владевшие несколькими языками, катали в
комфортабельных креслах на колесах имущих посетителей, чтобы те не уставали,
и давали пояснения на их родном языке. Словом, последнее слово рекламы.
В Нью-Йорке я смог познакомить некоторых американских инженеров с
задуманным мной проектом Арктического моста. Они заинтересовались
техническим решением, но сомневались (и не без основания!) в осуществимости
такого проекта при тогдашней политической обстановке. Забегая вперед, скажу:
я горжусь тем, что в советском журнале для американцев "Совиет лайф",
издающемся в Вашингтоне, в номере, посвященном шестидесятилетию Октября, в
обзоре событий тридцатых годов наряду с перелетом через Северный полюс
Чкалова и Громова, эпопеями челюскинцев и папанинцев, быть может
незаслуженно, помянут и "Арктический мост". О романе сказано, что в нем еще
в тридцатых годах поднимался вопрос о мосте дружбы между советским и
американским народами, которых разделяли отнюдь не их подлинные интересы. В
печати появилось также сообщение, что японцы приступают к строительству
подводного плавающего туннеля, правда, длиной не в две тысячами километров,
как в книге, а в 25, между островами Хонсю и Хоккайдо. Но все же идея
научно-фантастического романа давала всходы в жизни.
Вернулся я из Соединенных Штатов Америки летом 1939 года, накануне
начала второй мировой войны. По пути задержался на две недели в Париже, где
состоялись торжества по поводу 150-летия французской революции.
На завод в Мытищах я не вернулся - перешел целиком на литературную
работу. Стал членом группкома детских и юношеских писателей и даже был
избран в бюро вместе с Вадимом Кожевниковым и Николаем Богдановым
(председателем).
Переход мой из техники в литературу вызвал немало сомнений даже у самых
близких мне людей. Так Н.З.Поддьяков, однокашник по институту и соратник по
Белорецкому заводу, узнав, что я пишу роман, воскликнул:
- А.П. сошел с ума!..
Некоторые считали, что я зря оставил техническое поприще, на котором
успел зарекомендовать себя обещающим инженером. Такого взгляда много позже
придерживалась и моя старшая дочь Нина. Но ведь она стала соратницей И. В.
Курчатова и приучена была не фантазировать, а воплощать в жизнь то, что
казалось невыполнимым даже корифеям физики того времени. Недаром ее
наградили орденом Ленина.
Однако меня поддержали сыновья. Старший, Олег, ныне военный моряк,
капитан первого ранга, инженер, говорил:
- У отца то и дело появляются новые идеи. Для осуществления каждой
потребуется вся жизнь. А у него только одна. В романе же он может
представить реализованными их все и ждать всхода фантастических семян.
С ним соглашался и младший, Никита. Сам он отнюдь не случайно избрал
своей инженерной специальностью сверхпроводимость, с которой связан замысел
"Пылающего острова".
Выбор был сделан. Однако в самом начале моя профессиональная
литературная деятельность прервалась.
Началась Великая Отечественная война.
5. ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЖЮЛЯ ВЕРНА
Первые два дня войны я дописывал последние страницы романа "Арктический
мост" и успел сдать его директору Детиздата Дубровиной, уже надевшей форму
майора.
Сам я прошел войну от солдата до полковника, не совершив особых
подвигов, позволяющих отыскать "маршальский жезл в солдатском ранце". Было
все значительно проще (а может быть, сложнее?).
На третий день войны по направлению военкомата я явился в расположение
39-го запасного саперного батальона.
И как в промышленности (сразу же после студенческой скамьи), так и
теперь в армии меня ждали неожиданности.
Отмахал я пешком километров пятнадцать, так как на станции железной
дороги никто нас, призванных в армию, не встречал, ни автобусов, ни
грузовиков нам не подавал.
На крутом берегу реки, в сосновом бору я разыскал командира батальона,
старшего лейтенанта Зимина (потом я встречал его уже майором). Батальон
только еще формировался, помощников у комбата не было, где кому ночевать,
никто не знал. Зимин сам только что прибыл, надо думать, тоже пешком.
Неподалеку находился временный военный городок из фанерных домиков,
сооруженных в пору учений. Теперь они пустовали. Я проявил непрошеную
инициативу и повел за собой туда вновь прибывших.
На следующий день я даже вообразил, что моя находчивость оценена, ибо
старший лейтенант Зимин назначил меня помпотехом - помощником командира по
технике, хотя я считал, что числюсь рядовым, необученным. Но, конечно же, я
переоценил признание своих, с позволения сказать, "заслуг квартирьера".
Вероятно, все было решено много раньше (как и на Белорецком заводе!), еще в
Мытищинском военкомате. В батальоне мне выдали удостоверение как военному
инженеру III ранга: в первые тяжкие дни войны Красной Армии требовались
офицеры, разбирающиеся в технике.
Теперь в мои обязанности входило обеспечение не мирной работы
металлургического завода, а формирование механизированных саперных
автобатальонов, отправляющихся на фронт.
Но с автомашинами была беда! На мобилизационные пункты они поступали
совершенно разбитые, требующие большого ремонта. А ремонтных баз не было.
Выходи из положения как хочешь, хоть создавай свой авторемонтный завод!
Я и пошел этим путем. Построил пополнение, скомандовал инженерам
сделать десять шагов вперед, автомеханикам пять, слесарям и шоферам по три и
два шага - внушительная группа инициативных людей, умевших, если надо,
делать чудеса из ничего.
Моими помощниками стали воентехники И.Савочкин, Б.Печников, В.Зубков,
Я.Куцаков, Н.Кузнецов, политработники В.Жаров, А.Самчелеев. Они и составили
костяк военной части, получившей потом номер 5328. Рыская по Москве, эти
офицеры умудрялись находить столько запасных частей в покинутых или
отославших на фронт свои машины автохозяйствах, что стало возможным в лесу
под Москвой, близ Перловки, организовать настоящую авторемонтную базу, даже
использовать для нее небольшой местный заводик.
Саперные батальоны, снабженные "ожившими" автомашинами, отравлялись
прямо из Перловки на фронт.
Однажды шоферы пригнали с мобилизационного пункта разбитый
грузовик-вездеход ГАЗ-60. У него было три оси. На двух задних поверх обычных
шин натянута резиновая лента - гусеница.
Гусеничный ход привлек мое внимание. А что, если эту часть грузовика
превратить в почти готовую уже танкетку, загрузить ее взрывчаткой и
выпустить на вражеский танк? Но привод? Сделать его электрическим, ведь
Москву не сдадим, она останется со светом! Пусть такие танкетки выскакивают
из подворотен или переулков, управлять ими можно из окна соседнего дома.
Итак, электроэнергия! Но откуда взять редукторы, электрические моторы? Так
они же есть, существуют! Обыкновенные электрические дрели! Вместо сверл
пусть они вращают колеса, огибаемые гусеницами. Правда, за побежавшей
танкеткой потянется провод. О радиоуправлении тогда и мечтать не
приходилось. Ну и что же, что провод? Если танкетка мгновенно выскочит из
укрытия, перебить в уличном бою провод будет труднее, чем попасть в саму
танкетку.
Я созвал своих помощников. Сказано - сделано. Добыли электродрели,
соорудили саморазматывающиеся катушки наподобие текстильных шпулек. Для
маневрирования включали с удаленного пульта правую или левую гусеницы. Но
как регулировать скорость? Меняя напряжение! Автотрансформатора нет. Можно
взять двигатель трехфазного тока! Статор включить в сеть, а ротор
затормозить и снимать с него напряжение как со вторичной обмотки.
Поворачивая ротор рычагом, получишь любое напряжение от начального до
нулевого. Сделали все за считанные дни.
Я вызвал своего старого друга и соратника профессора Иосифьяна. Не
видел его со времени подготовки Нью-йоркской международной выставки, где он
соорудил макет магнитофугальной железной дороги с бегущим магнитным полем
(как в нашем электроорудии!). Иосифьян мигом примчался и организовал по всей
форме испытания нашей самоделки на импровизированном полигоне близ каких-то
лесных военных складов. Достали где-то огнемет.
Я поехал с докладом в Московский военный округ.
В назначенный день на опушку прибыла представительная комиссия. В нее,
помимо начальника инженерных войск Московского военного округа полковника
Третьякова, вошли нарком электропромышленности товарищ Кабанов, нарком
электростанций товарищ Летков, руководители аппарата ЦК партии, генералы...
Танкетка лихо бегала по большой опушке, условно поражая огнеметом цели.
Один из генералов едва спасся от неумело направленной огненной струи. Но в
претензии не был.
Это испытание неожиданно повернуло в новое русло всю мою последующую
жизнь. Профессора Иосифьяна назначили директором завода No627,
преобразованного потом в научно-исследовательский институт с тем же номером.
Я во главе специальной воинской части No 5328 был придан этому заводу, а
потом институту в качестве его главного инженера.
Так в горячие дни войны мы снова объединились с Иосифьяном. Офицеров
нашей части поставили начальниками цехов, конструкторских бюро, отдела
кадров, а бойцов - за станки и тиски. В короткий срок удалось наладить
выпуск танкеток-торпед для обороны Москвы. Начальник отдела военных
изобретений Главного военно-инженерного управления Красной Армии
подполковник Пигельницкий с ведома маршала инженерных войск КА товарища
Воробьева оказывал нам всемерную помощь.
К счастью, гитлеровские полчища были отброшены от Москвы, и сухопутные
электроторпеды "для поражения прорвавшихся на московские улицы вражеских
танков" не понадобились. Стали думать, как применить их в полевых условиях.
Электроторпеды можно разогнать и направить на дот, на огневую точку в
окопах, подготовить атаку или сорвать вражеский маневр. Понадобилось сделать
передвижные электростанции, поместив их внутри малых танков, переданных нам
для этой цели.
Так завод, преобразованный в научно-исследовательский институт,
впоследствии один из крупнейших научных центров электропромышленности, ВНИИ
электромеханики, начал действовать. Нам с Иосифьяном удалось привлечь много
активных изобретателей и ученых. Из них четверо стали после войны
академиками (в их числе А. С. Займовский и К. А. Андрианов). Изобретатели же
были представлены уже тогда заслуженным деятелем советской техники (а после
войны писателем-фантастом) В.Д.Охотниковым, доктором наук Г.И.Бабатом, тоже
потом проявившим себя в литературе. Пришли к нам Юрий Александрович
Долгушин, изобретатель и уже прославленный писатель-фантаст, автор
нашумевшего романа "Генератор чудес", мой соратник по Нью-йоркской выставке
изобретатель и эксперт по изобретениям 3.Л.Персиц и, наконец, Кирилл
Константинович Андреев, который возглавил в институте бюро технической
информации (редактор не только моего первого, но и нескольких последующих
романов!).
Можно и нужно было смело изобретать и тут же применять изобретенное
против врага. И мы старались помочь партизанам, снабжая их самыми необычными
средствами вооружения. Чтобы охарактеризовать общий строй мысли дерзких
искателей, нашедших здесь применение своей творческой энергии, могу
вспомнить шуточное название нашего завода-института - "институт имени Жюля
Верна".
Теперь, спустя столько лет, можно рассказать кое о чем, что удалось
тогда сделать. Ленинград был в блокаде. Снова мы встретились с Абрамом
Федоровичем Иоффе. На этот раз речь шла о реализации его открытий в области
полупроводников. Партизаны нуждались в бесперебойной связи.
Радиопередатчикам необходимо питание. Доставлять электробатарейки трудно.
Как обеспечить наших разведчиков в немецком тылу? Академик Иоффе предложил
создать у нас лабораторию под руководством его сотрудника Юрия Петровича
Маслоковца. Лаборатория приступила к работе Какие подозрения мог вызвать
"мирный" с виду чайник, намеренно помятый, закопченный? Но если в лесной
глухомани повесить его над костром и подключить к тайным клеммам провода, то
скрытые в дне полупроводники, нагреваясь, давали электрический ток. Для
зарядки аккумуляторов достаточно. Партизанская передающая радиостанция могла
действовать!
Вместе с походной радиостанцией А-7, которую нельзя было подслушать с
помощью радиоперехвата, потому что сигналы передавались не изменением
амплитуды, а частотной модуляцией, вместе с необычными запалами,
неразряжаемыми партизанскими минами, которые в принципе нельзя обезвредить,
и множеством других новинок мы поставляли свою продукцию партизанам и
войсковым подразделениям через нашего старого соратника, начальника вновь
созданного Центрального штаба партизанского движения П.К.Пономаренко.
Пришла пора применить и танкетки.
Спустя четверть века я имел возможность снова воочию увидеть такую
танкетку... в кино, в знаменитом французском фильме "Фантомас". Помните,
гангстеры в начале картины похищают ученого из секретной, за семью замками,
лаборатории? Его сажают в автофургон, откуда тут же выскакивает "наша
танкеточка"! Она мчится впереди автофургона, налетает на запертые тяжелые
ворота и взрывается вместе с ними, проложив путь гангстерам с их добычей.
Забавное зрелище, поданное с чисто французским юмором. Но сколько
трагических воспоминаний оно всколыхнуло!..
Ровная степь Керченского полуострова. Раскисшие в весенней распутице
дороги. На горизонте нефтяные баки Феодосии. Застывшей мертвой зыбью
выглядят пологие возвышенности. По одну сторону холма наши войска, по другую
- гитлеровцы. В укрытии легкий танк с передвижной электростанцией. Ею ведает
инженер Катков (в солдатской шинели). Боевым расчетам переданы две опытные
танкетки. Их должны выпустить на вражеские позиции. Помню бодрого высокого
грузина с тонкими усиками и сверкающим взглядом. Красавец! Уцелел ли? Он
четко рапортовал о готовности вести первую танкетку, освоив нехитрое
управление ею.
Танкетку перетащили в передний окоп ночью, когда в небе яркими дугами
взлетали немецкие осветительные ракеты
Маршал инженерных войск КА товарищ Воробьев направил нашу оперативную
группу сюда, на Крымский фронт, к начальнику инженерных войск фронта
генерал-полковнику Хренову. Оружие, созданное для защиты Москвы, переходит в
наступление. Из наблюдательного пункта через стереотрубу видно, как словно
из-под земли выскочила танкетка и, виляя на ходу (хитрость красавца
грузина!), стала приближаться к немецким окопам, откуда время от времени
строчил крупнокалиберный пулемет. Он тотчас стал бить по замеченной
движущейся цели. Вспыхнули, выдав себя, и другие огневые точки, будя в
грохоте переполоха предрассветную мглу. Хотелось все видеть своими глазами,
а не через стереотрубу. В азарте неосторожно высунулся из НП. Мне тотчас же
пробило пулей пилотку. Обнаружил я это много позже, но заштопывать памятную
дырку не стал.
Танкетка достигла вражеского окопа - не подбили, провода оказались
неуязвимыми! Взрыв у намеченной цели! Вторая танкетка уже мчится к ЗОТу и,
налетев на земляное укрепление, тоже взрывается. Испытание в боевой
обстановке удалось! Теперь можно выпустить на врага и все остальные
"торпеды", но...
Шла та самая весна 1942 года, когда гитлеровские войска готовили
наступление на Кавказ и Сталинград. Они боялись удара в тыл из Крыма, из
недавно отбитой у них Керчи. И потому перешли здесь в наступление. Время для
испытания танкеток выбрано явно неудачно! Нам приказали уходить со своей
техникой к проливу. Наша группа была разбита на две части: передовой отряд,
который взорвал в немецких укреплениях первые две танкетки, и резервный со
всей остальной техникой. Приказав своему помощнику Б. Печникову отходить на
легком танке, я спешил предупредить основную нашу группу о начавшемся
отступлении советских войск. Застал я ее в татарском селении Мамат. Там же
встретил полковника Павленко, военного корреспондента, замечательного
писателя. Признаться ему, что я тоже литератор, постеснялся. Для Павленко я
так и остался военным инженером, выполняющим особое боевое задание. Реальные
сухопутные торпеды наверняка интересовали его больше любых фантазий и
гипотез начинающего фантаста.
Отправив резервную группу под начальством политрука Самчелеева к
переправе через Керченский пролив, я кинулся на попутках навстречу ребятам,
отводившим от линии фронта подвижную электростанцию на легком танке. Но
прошел ливень, и попутный грузовик застрял в образовавшемся "озере". Я
выбрался из кузова и, увязая по колено в прикрытой слоем воды непролазной
грязи, отправился пешком. Отмахал в тот день сорок километров!
Немецкие самолеты бомбили селения. От "юнкерсов" то и дело отделялись
"точки". Я привычно бросался наземь - передо мной с грохотом вздымался
частокол черных дымных столбов. Вставал, снова шел. Наткнулся на маленькую
черную перчатку. Поднял... и ужаснулся. Одно дело взлетающие к небу фонтаны
огня, другое - держать не перчатку, а оторванную детскую кисть... Закопал ее
тут же.
С огромным трудом отыскал своих в какой-то приморской деревушке.
Рыбачки угощали жареными бычками и горестно смотрели на нас.
Объединились все мы у Керченских катакомб, где впоследствии укрылись
наши партизаны и постоянно держали гитлеровцев в напряжении. Помню низкие
своды выработок и характерный пыльный запах подземелья, узкие, кто знает как
далеко уходящие ходы древних каменоломен.
Здесь я нашел штаб фронта и получил приказ переправляться на Таманский
берег.
Жуткая переправа! Если в Ла-Манше у Дюнкерка трехсоттысячная армия
союзников, теснимая немцами, имела в своем распоряжении весь английский
торговый и военный флот, то возле Керчи при том же числе войск сновало лишь
несколько катеров. Неразбериха на причалах была отчаянная. Люди теряли
власть над собой. Никто не командовал. С воздуха сыпались бомбы, с высокого
берега стреляли из пулеметов по столпившимся массам людей.
И тогда я отважился взять на себя командование переправой. Любая
инициатива в боевых условиях объединяет. Мне и моим помощникам стали
беспрекословно подчиняться. На причалах установился кое-какой порядок. В
первую очередь отправляли через пролив раненых и персонал госпиталей.
Бомбы и снаряды сыпались на берег, укладывая людей на землю.
Поднимались уже не все. Наш политрук Самчелеев, считая все конченным,
отвергая даже мысль о возможном плане, застрелился. Один из бойцов, Паршин,
погиб от авиационной шариковой бомбы - немецкой новинки, - которую хотел
рассмотреть. Никогда не забыть майора с оторванными ногами. Он лежал в
пенной полосе прибоя и требовал меня к себе. Приказывал как старший по
званию пристрелить его. Я не мог, духу не хватило, велел отнести майора под
крутизну берега, послал к нему медсестру. Но что она могла сделать?
Сутки без сна переправлял я самостийно наши части на Таманский берег.
Некоторые бойцы и офицеры сколачивали плоты, пригоняли рыбацкие лодки. Сам
не видел, но мне рассказывали, будто группа выдумщиков умудрилась
переправиться на тот берег в "эмке", обвязав ее надутыми камерами и приделав
к колесам подобия плиц.
Наконец прибыл командир, уполномоченный навести здесь порядок.
Самозваному командованию моему пришел конец. Я получил приказ отправиться
вместе с ребятами с первым же катером. Ослушаться я не мог.
Когда наши ребята садились на катер, там люди дрались за место на
палубе, грозя друг другу оружием. Разыгрывались жуткие сцены, на исход
которых я уже не мог влиять. Я лишь считал своим долгом перейти на катер из
нашей группы последним. Но встать на палубе было уже некуда. Судно
кренилось, готовое отойти.
На берег, совсем близко, упала бомба, взметнулся фонтан дыма, ужасающе
грохнуло. Толпа, заполнявшая причал, шарахнулась в сторону моря. И меня
столкнули с причала. Барахтаясь в ледяной воде на достаточно глубоком месте,
я видел, как катер медленно отчаливал, его удаляющийся борт казался высоким,
отодвигаясь от меня. В полном обмундировании и вооружении я стремился
отплыть от катера к причалу. Спасти многозарядную винтовку, переданную мне
раненым бойцом, не смог. Но выплыть все же удалось. По ослизлым столбам я с
помощью дружески протянутых сверху рук забрался на причал. Холодный ветер
пронизывал до костей. Ребята мои были уже на пути к таманскому берегу.
Не сразу попал я к ним, не сразу оказался в другом мире. Не так уж
широк Керченский пролив - каких-нибудь двадцать пять километров, - но по ту
его сторону, когда я попал туда, "оглушила" тишина, звенели цикады и хрустел
песок под ногами.
Я разложил на солнце мокрое обмундирование, сушил документы.
Из Краснодара в Москву мы летели на транспортном самолете. Остерегаясь
близости фронта, летчик сделал крюк, пролетев над "тихой гаванью"
Сталинграда, где не началась еще героическая эпопея, переломившая хребет
германскому нацизму.
Никто из нас, уцелевших после вторичной потери Керчи, героями себя не
чувствовал. Даже удачное испытание в бою первых танкеток омрачалось тем, что
остальные так и не были использованы. Их пришлось подорвать на керченском
берегу.
Переправа! А сколько их было в те годы!..
Спустя почти сорок лет мы говорили о ней с Аркадием Федоровичем
Хреновым, генерал-полковником, Героем Советского Союза, одним из
руководителей комитета ветеранов. Он встретил меня у себя дома как родного и
рассказывал, рассказывал... вспомнил и о сухопутных торпедах, которые так
встревожили после Керчи гитлеровское командование и заинтересовали маршала
Малиновского. И снова о переправах...
- Так чего же больше - уничтожили или построили вы мостов? - спросил я,
зная о его походе от взломанной его войсками линии Маннергейма до Тихого
океана.
- Больше построил! - заверил он, все такой же бодрый, энергичный,
наполненный созидательной силой Великой Отечественной...
В Москве с удвоенной энергией мы принялись за решение первостепенных
задач оказания помощи фронту - знали теперь, что это такое!
Испытания на подмосковных полигонах шли одно за другим. Помню
болотистое место в излучине Москвы-реки за кольцевой железной дорогой. Не
мог я, фантаст, вообразить, что здесь когда-нибудь развернется замечательный
спортивный комплекс Лужников, что спустя сорок лет загорится здесь
принесенный из Олимпии огонь в дни Московской олимпиады. А пока не то в
луже, не то в озерке на этом месте плавал в изобретенной им резиновой
лодочке, выполненной заодно с резиновыми сапогами-ластами, Юрий
Александрович Долгушин. Взрывал на месте будущего стадиона свои чудо-запалы
Охотников. Из обыкновенной винтовки стреляли (а не бросали их!) гранатами.
Опробовали и многие другие виды вооружения.
В институт к нам приезжали передовые люди науки: ведь мы были чуть ли
не единственным действующим в Москве в условиях эвакуации
научно-исследовательским учреждением. Не говорю уже об академике А.Ф.Иоффе,
постоянно связанном с нами. Приезжал часто академик Аксель Иванович Берг.
Бывал и профессор Уваров, показывал чертежи первой газовой турбины. Тогда
еще мало кто предвидел, что вскоре она заменит поршневые двигатели авиации.
Положение на фронтах изменилось. Потерпев сокрушительное поражение под
Сталинградом, гитлеровцы, огрызаясь, отступали, все разрушая на временно
захваченных ими землях.
Мимо нашего института, расположенного в великолепном особняке бывшего
нефтяного магната на Садовом кольце, продефилировала нескончаемая колонна
немецких военнопленных. Много раз потом видел я в кино низенького генерала
от инфантерии, шагавшего впереди, и тянущуюся за ним серую массу обманутых
фюрером людей, для которых война, к их счастью, кончилась. Моечные машины,
завершая "парад крушения рейха", следовали за колонной, символически смывая
следы несостоявшихся победителей с московских мостовых.
Близился час победы, институту следовало подумать о новом
электрооборудовании, которое предстояло разработать и выпускать для
восстанавливаемой промышленности страны.
И снова получил я как офицер особое задание. С изумлением узнал, что
мне, инженер-майору, досрочно присвоено звание полковника (минуя
промежуточное звание инженера-подполковника!). Снова вспомнилась первая
пятилетка и незаслуженно высокая должность главного механика завода. И опять
так нужно было стране.
В новеньких полковничьих погонах с группой генерала Гамова выехал я
поездом через Румынию, перешедшую перед тем в лагерь антигитлеровской
коалиции, в дымящийся еще после боев Будапешт.
На улицах множество прохожих. На мостовых только военные машины.
Задержался у книжного лотка со свежим изданием на венгерском языке.
Поразился, увидев "Путешествие на Марс" Алексея Толстого ("Аэлита"!).
Так, в едком дыму войны, встретился снова с любимой своей фантастикой!
Когда-то вернусь к ней?
До Вены ехали на автомашинах. Вошли в город с первыми танками. На
площади перед отелем "Бристоль" наши автоматчики в развевающихся
плащ-палатках перебегали от здания к зданию, посылая короткие очереди по
невидимым целям. Нас поселили в "Бристоле".
Среди ночи подняли по тревоге. Пришлось покинуть комфортабельные
постели с накрахмаленным бельем. Район снова мог перейти в руки гитлеровцев.
Временно перебрались в другую гостиницу. Скоро гитлеровцев окончательно
выбили из Вены. Они теряли Австрию, терпели поражение в Чехословакии, в
Германии откатывались к Берлину.
В Вене мне вручили правительственный мандат как уполномоченному
Государственного Комитета Обороны, высшего органа Советской власти во время
войны. Мне вменялось в обязанность находиться при командующем 26-й армией
генерал-лейтенанте Гагине и вместе с приданной группой офицеров обеспечить
демонтаж в Штирии (Австрийские Альпы) оборудования предприятий концерна
Германа Геринга. До той поры я никак не подозревал, что первое в рейхе лицо
после Гитлера, кричавшего о "национальном социализме", на деле оказалось
столь сказочно разбогатевшим капиталистом (бандитски присваивал себе
капиталы и заводы!).
Задача демонтажа оборудования оказалась не из легких. Рабочих, кроме
немецких и венгерских военнопленных, в распоряжении уполномоченного ГОКО не
имелось, да и конвоя для них тоже. Пришлось выходить из положения, не
считаясь с нарушением обычных норм. И я представляю себе теперь со стороны,
как "русский оберет" (свирепый бородач, как о нем говорили) вызвал к себе
венгерского полковника и поручил ему (к его удивлению и даже радости - ведь
немцы вели себя с венграми заносчиво!) охрану всех военнопленных. Оружия не
полагалось, и венгр расставил свой конвой, "вооружив" его палками. Курьез,
но немцы страшно обиделись и поставили рядом с каждым венгерским солдатом
своего, тоже с палкой. Эксперимент удался, беглых не оказалось.
Как старшему по званию, мне привелось некоторое время быть комендантом
города Брука на Майне, где находилась штаб-квартира нашей группы.
Но как все-таки перевозить тяжелое оборудование? На чем перевозить?
Ведь ни вагонов, ни паровозов не имелось! Пришлось самолично распорядиться о
пуске в ход бездействующих паровозо- и вагоноремонтных заводов. Промышленные
объекты Штирии заработали. Австрийские рабочие обрадовались и даже шутливо
прозвали бородатого полковника "вице-королем Штирии".
Вскоре поезда, укомплектованные пригодными вагонами, появились на
территории заводов Геринга. Оборудование следовало демонтировать и
погрузить. Пришлось мне еще раз сыграть роль бородатого полковника и с самым
свирепым видом вызвать к себе трясущихся от страха геринговских
специалистов. Их глупо запугали нелепыми россказнями, будто они предстанут
перед самим переодетым маршалом Толбухиным. Чепуха, конечно! Я просто
предупредил инженеров, что все оборудование они должны только демонтировать.
Перепуганные инженеры удалились и с немецкой педантичностью, безукоризненно
выполнили "грозный приказ".
Но не надо думать, что в задачу нашей группы входил один лишь демонтаж
оборудования. Напротив!
Благодаря присутствию в нашей группе советских специалистов самой
высшей квалификации, таких, как подполковник Илья Коробов, из знатной
инженерной семьи Коробовых, или мой друг Николай Зосимович, нам удалось
совместно с австрийскими инженерами в кратчайший срок запустить паровозо- и
вагоноремонтные заводы Штирии, заложив тем основы возрождения австрийской
промышленности.
Выполнение всех этих задач требовало огромного напряжения, отказа от
сна и быстрого передвижения по альпийским дорогам Штирии. На трофейной
малолитражке "оппель-олимпия" я носился в Вену и обратно. Сидя за рулем, я
не слишком считался с дозволенными скоростями, тем более что на лобовом
стекле машины виднелся правительственный пропуск на право проезда, через все
контрольные пункты без предъявления документов. Вот за эти-то скорости я
однажды и поплатился.
Из штаба фронта приехал офицер и передал приказ явиться к начальнику
тыла генералу армии Петрову. Поехали мы с офицером-порученцем на этой самой
прыткой "олимпии". Казалось странным, почему мой попутчик так дотошно
расспрашивает об этой машине, с удивлением разглядывает самую обыкновенную
малолитражку. Понял я это, лишь представ, холодея, перед разгневанным
генералом армии. Он распекал злополучного полковника, не считаясь с его
правительственным мандатом, за то, что не мог догнать "оппель" на своем
прославленном "хорхе". Тщетно было убеждать генерала, что "олимпия" не в
состоянии развить скорость свыше ста шестидесяти километров в час (как он
утверждал!). Генералы не ошибаются! Тем более что имеют право отобрать
"провинившуюся" машину, "спешив" строптивого полковника.
Ехать обратно в 26-ю армию мне пришлось на попутных машинах.
Командующий армией генерал-лейтенант Гагин, узнав о случившемся, вызвал к
себе незадачливого гонщика, выслушал его, похохотал и тут же "наградил" за
лихость новой "олимпией", наказав: "Гоняй, шею не ломай и генералов не
перегоняй".
Гонять пришлось, иначе не успел бы... Но генералов старался не
перегонять.
Как-то старый друг по Томску и Белорецку подполковник Н.З.Поддьяков,
случайно оказавшийся в моей группе, принес найденное на территории
порученного ему завода в Капфенберге письмо на немецком языке, подписанное
генералом Schkuro. Шкуро? Кто во время гражданской войны не слышал этого
устрашающего имени? Но Штирия? Немецкая армия? Вскоре все прояснилось,
собственными глазами повидал я белогвардейского генерала, одетого в немецкую
форму, а с ним атамана Краснова, тоже кровавого страшилища для донского
казачества.
Скоро меня поставили в известность о готовящейся операции, которая
затрагивала территорию подведомственного нашей группе завода в Юденбурге.
Город разделен горной речкой с высокими берегами. На одном находился завод,
а на другом... английские войска, размещенные в городских домах. Англичане
сообщили нашему командованию, что в их расположении окружен немецкий конный
корпус генерала Шкуро. Он входил в состав армии предателя Власова,
плененного со своим штабом в Праге как раз нашей 26-й армией. Ее командующий
генерал Гагин вскоре после знакомства рассказывал мне об этом. Так вот,
Шкуро, белогвардеец в гитлеровской форме, отказался разоружить свой
семидесятитысячный корпус. Англичане хотели избежать столкновения и
разработали план бескровного усмирения упрямого генерала. Они предложили
нашей стороне "разыграть" начало боевых действий между советскими и
английскими войсками, о чем так мечтали разбитые нацистские главари.
Английское командование поставит в известность генерала Шкуро "о
случившемся" и предложит его корпусу принять участие в развязанных боях в
составе британских сил. Для выполнения деталей задуманного плана и
требовалась территория еще не демонтированного завода в Юденбурге. Пришлось
ехать туда с представителями штаба армии на новой "олимпии". По пути
поднимали по тревоге войсковые части. И за нашей спиной начиналась
артиллерийская канонада, которую должен был услышать генерал Шкуро. Как и
следовало ожидать, продажный генерал с радостью согласился воевать вместе с
англичанами против русских. Генералу Шкуро объяснили: у англичан свои
правила, свои незыблемые традиции. В составе британских войск не может
находиться подразделение или соединение, солдаты которого одеты во вражескую
форму и вооружены вражеским (немецким) оружием. Генерал Шкуро посчитался с
английскими причудами (не все ли равно, как быть одетым и из чего стрелять!)
и согласился: пусть его кавалеристы временно пересядут с коней в грузовики,
переоденутся в английскую форму и перевооружатся в двух пакгаузах, как ему
сказали, расположенных на противоположных берегах реки.
Неизвестно, как вели себя шкуровские волки, когда у них "на английской
стороне" забирали оружие, что-то непонятное объясняя на английском языке. Я
при этом не присутствовал. Но идущую впереди автоколонны легковую машину,
пересекшую мост с английской стороны, видел сам.
Она остановилась, окруженная советскими солдатами в зеленых фуражках
пограничников. Маленький человек в форме немецкого генерала вышел из машины,
сердито хлопнув дверцей. С заднего сиденья выбрался седой плотный атаман
Краснов в казачьей фуражке с красным околышем. Увидев зеленые фуражки с
красными звездочками, пакостно выругался и сказал так, что и нам было
слышно:
- Опять эта сволочь-англичанка обманула!
Видно, не впервой это было белогвардейскому атаману.
Шкуро помалкивал. Затем по мосту двинулись грузовики, набитые
разоруженными шкуровцамн в немецких шкурах. Они ждали нового оружия, но
увидели его в руках советских солдат, встречи с которыми так страшились.
Потом с группой офицеров мы ходили по цехам, куда пограничники
отконвоировали люден с крысиными взглядами, одетых в мышиную форму.
Слышался отборный мат и блатной жаргон, на котором объяснялись между
собой эти отбросы, предавшие Родину.
Кто они? Уголовники? Обманутые? Измученные в плену или искатели легкого
пути? С каждым будут разбираться особо на суде. Но всем им вместе произнесен
приговор истории.
Потом еще долго через Брук-на-Майне гнали табуны трофейных коней.
7. ХИРОСИМА И ТУНГУССКАЯ ТАЙГА
Выполнив задание правительства, наша автоколонна возвращалась из
Австрии через Венгрию и Румынию домой, в Россию. Надо было явиться в штаб
23-й армии, доложить по форме командующему. И вот в поисках генерала Гагина
на пыльных румынских дорогах попал я еще раз в катастрофу, теперь уже
автомобильную. Получил восемнадцать ран, в том числе в голову, и подумал
было, что литература отныне для меня кончилась. Помню, как сидел на обочине
дороги, залитый кровью, и слышал голос медсестры.
- Бедный полковничек, не жилец уже! - причитала она.
На санитарном грузовике нас доставили в госпиталь. Особенно пострадал
майор Асланов, который сидел за рулем (главный инженер Московского почтамта,
впоследствии директор международного почтамта).
Хирург, сбрив мне бороду, оперировал без наркоза и все требовал, чтобы
пациент стонал: "Неизвестно, жив или нет!" Но у меня были свои представления
о достойном поведении полковника на операционном столе. Терпел молча. К
счастью, все обошлось, и через каких-нибудь две недели я, опираясь на
палочку, явился к генералу Гагину (он прислал за пострадавшим свою машину).
Расспросив обо всем, он все шутил: ладно хоть, что не "наградная олимпия"
была виной аварии.
- А борода отрастет, - говорил он. - Катастроф же набран полный
комплект: железнодорожная в детстве, авиационная в юности, морская в Керчи и
вот теперь автомобильная в Румынии. Живи спокойно, полковник. Больше не
причитается, - напутствовал он, прощаясь.
Можно было беспечно сесть за руль и проходить "высшую школу верховой
езды на автомобиле" по бездорожьям Бессарабии. Колонны грузовиков буксовали.
Мы чудом проскакивали между ЗИСами и "студебеккерами", скользя, карабкаясь,
едва не опрокидываясь...
На этих-то непроезжих фронтовых дорогах дождливым августом 1945 года я
услышал по трофейному радиоприемнику сообщение на английском языке о том,
что на Хиросиму сброшена атомная бомба. Потряс и сам факт бесчеловечного
уничтожения мирного населения города, и подробности взрыва: ослепительный
шар ярче солнца, огненный столб, пронзивший облака, черный гриб над ним и
раскаты грома, слышные за сотни километров, сотрясения земной коры от земной
и воздушной волн, отмеченные дважды сейсмическими станциями. Все эти детали
были знакомы мне еще со студенческой поры, со времен увлечения тунгусской
эпопеей Кулика, когда тот искал в тайге Тунгусский метеорит.
По приезде в Москву я обратился в Сейсмологический институт Академии
наук СССР и попросил сравнить сейсмограммы тунгусской катастрофы 1908 года с
атомными взрывами в Японии. Они оказались похожими как близнецы. Во мне
проснулся и зашептал фантаст: "А падал ли вообще Тунгусский метеорит? Ведь
не осталось ни кратера, ни осколков! Почему там, в эпицентре, стоит голыми
столбами лес, а вокруг на площади, сравнимой с небольшим европейским
государством, все деревья лежат веером? Не произошел ли взрыв в воздухе,
срезав ветви лиственниц в эпицентре, где фронт волны был перпендикулярен
стволам, и повалив все остальные, в особенности на возвышенностях, даже
отдаленных? Не был ли взрыв атомным, когда температура в месте взрыва
повысилась до десятков миллионов градусов, превратив в пар все, что не
взорвалось? Потому и не выпали осколки взорвавшегося тела, они умчались в
верхние слои атмосферы и там своей радиацией вызвали свечение окружающих
слоев воздуха. Не потому ли стояли светлые ночи на большой части земного
шара?
И я понял тогда, что мое место все-таки в фантастике. Издательство
"Молодая гвардия", готовя к выходу книгу "Арктический мост", ходатайствовало
перед высокими инстанциями о моем возвращении в литературу. И я вернулся к
столу, к пишущей машинке...
О жизни писателя-профессионала писать труднее, чем о годах,
предшествующих переходу в литературу. О том, что сделано, надо судить по
вышедшим книгам, потому мой "пунктир воспоминаний" коснется лишь того, что
послужило поводом или связано с созданием произведений, рожденных не только
воображением, а прежде всего жизнью.
И снова посетил я, теперь уже как литератор, Институт физических
проблем академика П.Л.Капицы. Академик Л.Д.Ландау объяснял мне механизм
атомного взрыва. Потом консультировался в университете с академиком Игорем
Евгеньевичем Таммом, считавшим, что ядерный взрыв космического тела возможен
лишь при условии, если оно искусственного происхождения.
И я представил себе, что в тунгусской тайге в 1908 году произошел
АТОМНЫЙ ВЗРЫВ В ВОЗДУХЕ, БЕЗ УДАРА О ЗЕМЛЮ, ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ ЛИШЬ В
ВЕЩЕСТВЕ, ПОЛУЧЕННОМ ИСКУССТВЕННО, НО НЕ НА ЗЕМЛЕ, А НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ. Так
появился рассказ-гипотеза "ВЗРЫВ". Впервые в литературе в нем говорилось о
ядерной цепной реакции взрыва, погубившего в 1908 году над тайгой перед
спуском на Землю инопланетный корабль...
Главному герою этого рассказа приданы некоторые черты замечательного
ученого, профессора Ивана Антоновича Ефремова. Я познакомился с ним,
начинающим, но уже многообещающим писателем, в кабинете главного редактора
"Молодой гвардии" М.И.Тюрина.
С непреодолимой грустью, став ныне председателем комиссии по
литературному наследию Ивана Ефремова, вспоминаю о нем - флагмане нашей
советской фантастики.
А тогда, начиная свой профессиональный литературный путь, я решился
прочитать рассказ-гипотезу "Взрыв" в клубе писателей на улице Воровского. В
зале я увидел академика Ивана Михайловича Майского и его жену Агнию
Александровну.
Мы познакомились еще во время войны. Человек удивительной биографии,
Иван Михайлович - колчаковский министр по заданию большевистской партии,
советский посол в Англии, советник Сталина во время встреч с Черчиллем и
Рузвельтом в Тегеране и Ялте - интересовался фантастикой! Его жена и ввела
меня впервые в клуб писателей при весьма курьезных обстоятельствах. Как-то
мы с Ефремовым встретились у Майских. Агния Александровна собиралась в клуб
писателей на очередное чтение у камина в большом дубовом зале и попросила
меня проводить ее. Я охотно согласился, хотя к Союзу писателей отношения
тогда еще не имел, однако не расставался с надеждой стать писателем.
После чтения Агния Александровна повела меня в ресторан - в небольшой
закуток с дверью в зал. Я жил тогда на казарменном положении, на полном
военном довольствии в части. Похолодев, я подумал, что денег у меня ни
копейки, ведь тратить их мне было не на что. Но признаться в таком конфузе
искушенной в дипломатических приемах даме не решился. Дальше пошло все хуже
и хуже. Мы сели за столик недалеко от буфетной стойки, и моя дама, взяв
прейскурант, стала заказывать какие-то пустяки. К счастью, она не обратила
внимания, что у меня от ужаса начинают шевелиться волосы. И тут появился
незнакомый рослый капитан первого ранга, военный моряк с добродушным,
располагающим к себе лицом. Подойдя к ручке Агнии Александровны и дружески
кивнув мне, он уселся на свободный стул и, взяв прейскурант, заказал уже не
пустяки. Я понял, что иду ко дну, как в Керченском проливе. Развязка
наступит, едва принесут счет! И его принесли. Но капитан первого ранга,
небрежно отодвинув бумажку, сказал официантке:
- Запишите на мой счет.
Я был спасен, выплыл. Леонид Соболев в форме военного моряка не
подозревал тогда, что спасает утопающего на суше... Впоследствии, когда я
рассказал Леониду Сергеевичу, с которым многие годы поддерживал самые
хорошие отношения, об этом эпизоде, он от души хохотал. Так же смеялась и
Агния Александровна, выслушав мои запоздалые признания, хохотала над
инженером-майором с персональной машиной, но без гроша в кармане.
И вот первого декабря 1945 года, уже сняв военную форму, я, писавший до
сих пор лишь романы, прочитал все в том же клубе писателей свой первый
рассказ "ВЗРЫВ" о ядерной катастрофе инопланетного космического корабля над
тунгусской тайгой.
Рассказ этот публиковался в первом послевоенном номере ожившего журнала
"Вокруг света" в 1946 году. Вскоре меня приняли в Союз советских писателей
СССР как автора двух "толстых" романов ("Арктический мост" уже выходил
отдельной книгой в "Молодой гвардии"). Вслед за тем появилась постановка
"ЗАГАДКА ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА" в Московском планетарии. В качестве лектора
в ней выступал доцент Ф.Ю.Зигель. Он стал убежденным сторонником ядерной
гипотезы тунгусского взрыва.
Столь беспрецедентное вторжение фантаста в тихую научную заводь
метеоритики вызвало там бурю. Автора обвинили в антинаучности, ибо проблема
Тунгусского метеорита, который утонул в болоте, якобы давно решена.
Однако более ста энтузиастов-ученых и любителей науки, полных романтики
исканий, отправлялись в составе многих экспедиций в тайгу. В их числе была и
экспедиция, организованная по инициативе академика С.П.Королева. Они
собирались, как шутили ее участники, "искать в тайге куски марсианского
корабля". Так появилась разновидность туризма - "научный туризм", где
путешествие связано с бескорыстными научными исканиями.
Особое место в начавшихся стихийно исследованиях заняли экспедиции под
руководством Алексея Васильевича Золотова, которому присвоили в связи с его
исследованиями тунгусского феномена степень кандидата физико-математических
наук. И это не единственный случай защиты диссертации на проблеме
"тунгусского дива", как назвал его Л.А.Кулик, первый его исследователь. В
своей монографии о тунгусском феномене А. В. Золотов смыкался со
сторонниками ядерной гипотезы.
Но противников такого взгляда на тунгусское явление среди ученых было
куда больше. После широких дискуссий, в том числе по телевидению, некоторые
ученые потребовали запретить неспециалистам выступать по научному вопросу.
Однако время показало - всеобщий интерес к тунгусской загадке не ослабевает.
Немало ученых стало разделять "экзотическую точку зрения" автора ядерной
гипотезы, поддерживаемой Золотовым, Зигелем и другими исследователями. Спор
перешел в научные аудитории. Дискуссии продолжались, привлекая международное
внимание. Обсуждалось уже восемьдесят гипотез, и ни одна из них не объясняла
всех аномалий тунгусской катастрофы (кроме ядерной гипотезы!). Хотя
аргументы все больше говорят в нашу пользу, проблема не решена и в наши дни,
неожиданно возникают все новые загадки. Так, точными приборами установлено,
что в эпицентре тунгусского взрыва более семидесяти лет существует
биофизическое поле, в котором точнейшие морские хронометры и кварцевые
излучатели дают ошибку в двести раз большую, чем в любом другом месте.
А как же писатель? Ему уже не дают слова? Напротив! Он использовал свое
преимущество и внес в популярный уже роман "Пылающий остров" ставшую в нем
органической линию тунгусской гипотезы.
Спор продолжается!..
Было бы ошибкой думать, что маленький (но скандальный) рассказ стал
главным направлением в работе литератора. Я пришел в литературу инженером и
хотел им остаться на новом поприще.
После восстановления разрушенного войной страна вынашивала дерзкие
проекты создания искусственных морей, насаждения лесов, преобразования
пустынь. Как отражение действительности и возник у меня, фантаста, замысел
преобразования Арктики - строительства вдоль сибирских берегов мола изо
льда: если отгородить прибрежную полосу морей от Ледовитого океана, она не
будет замерзать круглый год. Доступными станут отдаленные, но богатые районы
Сибири! Роман получил название "Мол Северный".
Показать "фантастическое строительство" правдоподобно можно было, лишь
увидев Арктику своими глазами.
8. ПО АРКТИКЕ И ВОКРУГ АФРИКИ
Побывать в Арктике помогли мне сердечная забота и дружеское участие
Александра Александровича Фадеева. Он договорился с прославленным полярником
и челюскинцем Героем Советского Союза Кренкелем. Эрнест Теодорович в ту пору
руководил всеми полярными станциями Главсевморпути и отправлялся в
арктическую инспекционную поездку. Несколько месяцев мы дружески прожили на
соседних диванах в салоне легендарного корабля "Георгий Седов" как гости
капитана Бориса Ефимовича Ушакова. Каждый вечер там собирались моряки и
полярники. Был здесь и Евгений Иванович Толстиков, ставший потом видным
исследователем Арктики и Антарктики, Героем Советского Союза.
За многомесячное плавание "Георгий Седов" сделал два рейса, посетил
множество зимовок на островах полярных морей, вплоть до самой северной
оконечности Земли Франца-Иосифа, где похоронен Седов.
И сколько же за это время я услышал историй об "обыденном героизме"
полярников на самом краю света! Правдивые и удивительные, они переполняли
меня. Некоторые легли в основу рассказов, которые выходили потом в свет в
моих сборниках "Против ветра", "Остановленная волна", "Обычный рейс". Но
фантастика не могла не проглянуть в книге "Гость из космоса". Вслед за тем
появился и роман-мечта "Мол Северный".
Роман этот вновь привлек внимание кое-кого из ученых, на этот раз
океанологов. Они рассмотрели "роман-мечту" как реальный технический проект и
стали убедительно доказывать несостоятельность замысла соорудить ледяной мол
вдоль сибирских берегов - автором не учтены придонные холодные течения,
которые компенсируют тепло ветви Гольфстрима у Карских ворот, и отгороженная
молом полынья все равно замерзнет!
Иван Антонович Ефремов, не только замечательный писатель-фантаст, но и
видный ученый, восстал против такого отношения к литературному произведению
и написал океанологам обоснованное письмо. Они вежливо ответили Ефремову, но
последнее слово осталось за критиками романа, кроме них, письма никто не
прочитал - их статья была напечатана, а письмо Ефремова не публиковалось.
Я допускаю, что можно нападать и на Жюля Верна за то, что он
"выстрелил" людьми из пушки на Луну, которые на самом деле непременно
расплющились бы. Или на Уэллса за его безусловно ненаучную "Машину времени"
с ее противоречием "закону причинности". При таком подходе литературные
произведения перестали бы существовать.
Я же мог сохранить свою мечту, если бы даже согласился с учеными,
признал бы их аргументы. Более того, ввел бы в ткань романа
"опровергателей", живописуя их по своему усмотрению.
Новый вариант романа, теперь уже под названием "Полярная мечта",
развивал конфликт с океанологами, которые действительно оказались правы (!).
Пришлось моим полярным строителям в дополнение к ледяному молу еще и
подогревать остывшую ветвь Гольфстрима установкой "Подводного солнца". Новый
герой романа академик Овесян (в котором ожил мой старый друг академик
Иосифьян) осуществил в книге мечту современности - термоядерный управляемый
синтез водорода в гелий, подогрев "Подводным солнцем" незамерзающую
прибрежную полосу вдоль сибирских морей.
Андроник Гевондович Иосифьян любит рассказывать о том, как он узнал
себя в Сурене Авакяне, герое романа "Арктический мост", и как автор романа,
будучи главным инженером института, получив за какую-то оплошность взбучку
от него, Иосифьяна, директора института, взял и утопил друга и директора, то
есть своего героя, инженера Авакяна. Конечно, это не совсем так. Прототип
Авакяна - действительно молодой Иосифьян. Но Авакян погиб в романе задолго
до организации нашего с Иосифьяном НИИ-627. Виной гибели литературного героя
была вовсе не месть за выговор на службе, а скорее досада на Иосифьяна,
который, как показалось автору, совсем забыл о нем перед войной. К счастью,
это оказалось неверным. И теперь, десятилетия спустя, когда бы мы ни
встретились с академиком Иосифьяном, мы оба держимся так, словно расстались
вчера вечером. В дальнейшем "Полярная мечта" уже выходила под названием
"Подводное солнце".
Это роман в числе других подарил мне трех корреспонденток, перепиской с
которыми я дорожу. И прежде всего с Надеждой Ивановной Борзух из Славянска
делюсь я своими литературными замыслами, хотя мы никогда не виделись.
Переписываемся уже более четверти века. Участница партизанского движения,
она потеряла в войну всех близких и, по ее словам, нашла в героях моих
романов тех, кого недоставало ей в жизни. Вечно буду ей обязан за эти слова.
Другая корреспондентка, Люда из Запорожья, написала мне еще в
пионерском возрасте, слала письма-дневники - целый внутренний мир. Я
попытался наделить им одну из героинь романа "Льды возвращаются". Бывая в
Москве, она, уже инженер и мать семейства, встречается со мной, как бы со
своим былым дневником.
Имени третьей корреспондентки не назову. Она моя однофамилица, отец же
ее, тоже, как и я, Александр Петрович, но погиб во время войны. И вот
девочка, прочитав "Полярную мечту", вообразила и стала уверять других, что
роман написан ее отцом. Ей по-детски страстно хотелось иметь отца!..
Десятилетия спустя, прочитав роман "Фаэты", решилась признаться в том, что
она моя "самозваная дочь". Мне не на что было быть в претензии. Завязалась
оживленная переписка. Так я нежданно приобрел "третью" дочь. Младшая, Елена,
- завершает кандидатскую диссертацию в одном из академических институтов.
Милая "самозванка" - рабочий человек с высоким интеллектом, словно
заглянувшая к нам из будущего, о котором фантасту так хочется писать.
К началу пятидесятых годов я решил, что обрел собственное лицо*, и мог
уже не считать себя в какой-то мере связанным ни с дедом-шляхтичем,
революционером, ни с другим дедом, в картузе и поддевке, и осуществил свою
давнюю мечту - вступил наконец в ряды КПСС. Избирался в Союзе писателей СССР
заместителем секретаря партийного бюро прозаиков и восемь раз был членом
бюро секции прозы, причем два раза заместителем председателя при Леониде
Соболеве и Константине Паустовском, которые многому меня научили.
______________
* К этому времени А.П.Казанцев был уже награжден орденом Красной
Звезды, правительственными медалями и кинематографической премией. (Примеч.
ред.)
Есть еще в пунктире воспоминаний эпизод, связанный с особо дорогой мне
книгой академика Майского.
Верный боец революции, старый большевик, он не миновал ложного
обвинения. В тягостные для жены Ивана Михайловича дни мало кто решался
позвонить Агнии Александровне домой. Убежденный в невиновности Ивана
Михайловича, я в числе немногих звонил ей. Надо ли говорить, как я
обрадовался звонку Майского вскоре после его возвращения домой! Он попросил
зайти. Я поспешил на улицу Горького, в дом, что напротив Моссовета. Майский,
бодрый и веселый, встретил меня загадочной улыбкой.
- Я вот тут диктовал... Стенографистка кое-что расшифровала для вас...
Я не совсем понимал, что имеет в виду Майский. Тогда он напомнил о
своем увлечении фантастикой и приключениями.
- Я обязан вам тем, что выдержал, - неожиданно сказал он.
Оказывается, находясь под следствием, в одиночном заключении, в
промежутках между допросами он вспомнил о моих прочитанных романах и...
решил мысленно перенестись в мир, рожденный собственным воображением.
Принялся "писать в уме" роман. Запоминал главу за главой (как стихи!),
раздраженно отрываясь для "дачи показаний" от своего невидимого и никому не
известного занятия.
И так без пера и бумаги он сочинил роман "Близкое-далекое" и сразу же
по возвращении домой продиктовал его стенографистке. А теперь вручает
рукопись мне, "виновнику" (по его словам) рождения этого романа.
С жадным интересом читал я о приключениях и путешествии советского
дипломата во время войны Майскому самому пришлось тогда добираться из СССР в
Англию в обход фронтов, через Иран и вокруг Африки Роман, в основу которого
автор положил увиденное, был написан живо и правдиво.
Хотелось представить себе, как возникало это удивительное произведение,
запечатленное лишь в памяти! Я мысленно видел автора среди созданных его
воображением героев, с которыми он "общался" в промежутках между беседами со
следователем, полностью отключаясь от действительности, не мучаясь
сомнениями, одиночеством, бессонницей. Ведь ничто так не поглощает человека,
как созданный его воображением мир!
Справедливости ради надо сказать, что следствие по спровоцированному
против академика Майского делу закончилось полным снятием с него всех
обвинений еще до XX съезда нашей партии.
Я передал рукопись со своей рецензией в Издательство детской
литературы, и книга вскоре вышла большим тиражом, имела заслуженный успех.
Дружба с И.М.Майским сохранилась у меня до конца его дней. Бережно храню
стопку книг Ивана Михайловича с теплыми авторскими надписями, одна из
которых особенно дорога мне. Кроме того, с благодарностью вспоминаю его
точные советы по поводу острых политических ситуаций, возникавших в моих
романах.
"Пунктир воспоминаний" не будет полным, если не упомянуть о том, что
было для меня, писателя-фантаста, более чем хобби, как бы второй стороной
моей жизни, - изобретательство, музыку, шахматы.
В начале пятидесятых годов вместе с Героем Советского Союза летчиком
Мазуруком и еще некоторыми деятелями мы обратились в директивные органы с
предложением создать Всесоюзное общество изобретателей. Спустя несколько лет
оно было создано. Его органом стал журнал "Изобретатель и рационализатор".
Меня ввели в его редакционную коллегию, где я и состою уже почти четверть
века. Избирался делегатом всесоюзных съездов изобретателей и не раз членом
Центрального совета ВОИР. В последние же годы вернулся и к самому
изобретательству, задумав вместе с прославленным кардиохирургом профессором
Сергеем Семеновичем Григоровым и другими соратниками "подкожную
электростанцию" - устройство для самоподзарядки кардиостимуляторов сердца,
аппаратов, спасающих людей от неизлечимой поперечной блокады. Источником
энергии мини-электростанций служит сам пациент, его непроизвольные движения.
Наш крохотный приборчик помещался вместо батареек в имплантируемый в
организм больного кардиостимулятор. Источник питания не потребуется
периодически менять, обходясь без повторных хирургических операций. Комитет
по изобретениям и открытиям выдал нам уже шесть авторских свидетельств на
различные технические решения этой задачи. В числе соавторов назову
З.Л.Персица, старого соратника со времен Нью-йоркской выставки и НИИ-627, а
также двух моих сыновей, опытного инженера капитана первого ранга Олега и
только что закончившего МЭИ с отличием Никиту.
Любовью с детства к музыке я обязан дружбе с известным композитором,
народным артистом РСФСР Антонио Спадавеккиа. Мы создали с ним (его музыка,
мои либретто) три одноактные оперы, посвященные завоеванию космоса. Он же
оркестровал для ансамбля и мою балладу "Рыбачка" - единственное мое
произведение, которое исполнялось на эстраде популярной артисткой
В.Е.Новиковой. Моим учителем композиции был профессор Московской
консерватории, автор учебника по композиции И. И. Дубовский, тщетно
пытавшийся помочь мне завершить фортепьянный концерт. Лишь одна его часть в
исполнении лауреатов международных конкурсов В. Полторацкого и А. Суханова
записана на пленку в Московской консерватории.
Пожалуй, более успешно выступил я на поприще композиции... шахматной,
которая близка и искусству и изобретательству. В пятидесятых годах стал
мастером спорта СССР и международным арбитром по шахматной композиции. А в
середине семидесятых годов - международным мастером. Пятнадцать лет
возглавлял Центральную комиссию по шахматной композиции СССР, десять лет был
вице-президентом постоянной комиссии по шахматной композиции ФИДЕ. В 1956
году в Будапеште вместе с видным советским ученым, профессором А.П.Гуляевым
принимал участие в ее создании. В 1964 году завоевал на шахматной олимпиаде
золотую олимпийскую медаль за этюд, вызвавший международную полемику.
Шахматный этюд всегда привлекал меня трудностью создания, тем более что
здесь я видел возможность воплощения самых невероятных идей. Потому над
некоторыми произведениями я работал, с перерывами, по нескольку десятков
лет. Словом, старался поймать на шахматной доске "синюю птицу", найти
"шахматное чудо", воплотить в жизнь "немыслимый парадокс". И когда это
удавалось, был счастлив. Целью своей считал утверждение торжества мысли над
грубой силой. В шахматах можно все! Надо лишь найти, добиться, изобрести. На
это и уходят годы усилий, которые вознаграждают сами, независимо от
возможных оценок труда. И конечно же, каждое подобное произведение
поднимается на уровень изобретения. И я рискнул выступить в несуществовавшем
до того литературном жанре, где шахматный этюд становится органической
частью художественного, фантастического произведения или реалистического
рассказа. В результате появилась книга "Дар Каиссы" ("Физкультура и спорт",
1975). В основу повести с тем же названием положена мысль использовать
рассеянную солнечную энергию, чтобы помочь человечеству выйти из
энергетического кризиса. Герой повести, изобретатель и шахматный композитор,
черпает технические идеи из создаваемых им этюдов и, наоборот, составляет
этюды под влиянием собственных изобретательских идей. В рассказах же этюд
определял и сюжет и образы героев.
Грандиозное для всего мира событие, запуск Страной Советов первого в
мире искусственного спутника Земли, определило мои писательские замыслы на
многие годы. Девятый вал интереса к космическим проблемам вынес на гребень
волны и научную фантастику.
Задолго до вступления человека в космос я попытался в повестях и
публицистических выступлениях представить, как это произойдет. И опять
катализатором оказалось кино. Оно побудило к созданию повестей "Лунная
дорога" и "Планета бурь" ("Внуки Марса"), переиздававшихся потом и у нас и
за рубежом. На экраны вышел лишь фильм "Планета бурь", имевший прокатный
успех, но не прозвучавший так, как того хотелось бы (Леннаучфильм, режиссер
П.В.Клушанцев).
Писатель, хоть и фантаст, не может прикрыться крылом фантазии от жизни
своей страны. Потому я немало выступал в центральной печати: писал не только
о космосе, но и о механизации сельского хозяйства. Эти выступления собраны в
книгах очерков "Машины полей коммунизма", "Богатыри полей", "Земля зовет",
"Ступени грядущего", выпущенных "Молодой гвардией" и Госполитиздатом.
Но главным в жизни оставалась фантастика, которая требовала четкого
представления о ней, ее задачах и возможностях. Очевидно, что она не
существует сама по себе, отдельно, фантастика - неотъемлемая часть
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Она многообразна и представляет собой ВИД
литературы, подчиненный ее основным законам. К ней в полной мере, относятся
слова Буало: "Невероятное растрогать не способно. Пусть правда выглядит
правдоподобно!" Стоит вдуматься в это высказывание. Читатель должен поверить
писателю независимо от того, преподносит ли тот вымысел или правду. Все
должно быть одинаково достоверно.
Но как же отнести это высказывание к фантастике? Ведь "невероятное",
казалось бы, заложено в ней самой! Неискушенные фантасты подчас старательно
преподносят читателю невероятное, предполагая, что именно в этом и состоит
фантастичность. Заблуждение! Фантастику надо делать не только фантастичной,
но прежде всего художественной, "реалистической по форме", достоверной,
научной! Надо суметь убедить читателя в правдоподобности самого
невероятного! Вспомните, как умело подводил Уэллс читателя к возможности
сделать предмет невидимым, как окружал он своих попавших в необычные
ситуации героев правдоподобными деталями, заставляя читателя верить и всему
остальному. Уэллс понимал, что "невероятное" само по себе не дойдет до
читательского сердца. Твердо знали это и Жюль Верн, и Иван Ефремов.
Потому-то всех этих столь разных писателей объединяет общее стремление
раскрывать читателю светлые дали, а не тянуть его в сумрак тупиков. Мало
поместить героев в звездолет, отправить на другую планету, ввергнуть в
фантасмагорические ситуации. Необходимо, чтобы герои ощущались живыми
людьми, стали нам близкими, узнавались по манере речи, чертами характера, а
главное, чтобы своими действиями утверждали веру в будущее, звали читателя
за собой, а не сеяли ужас опустошения на пороге или во время конца
цивилизации. Плохими образцами для подражания служат нам примеры западной
фантастики, которой одно время чрезмерно увлекались наши издатели. Ведь
многие западные произведения фантастики - это "литература отвлечения от
действительности", кое для кого на Западе горькой или наскучившей. Не
следует тянуться в хвосте западной фантастики. В нашей литературе нет места
безответственным фантасмагориям или "фантастике ради фантастики", где один
критерий: чем страннее, тем лучше. Не пугать надо читателей ужасами, а
открывать новые горизонты. Герои, носители идей, а также и сами идеи должны
увлекать, звать за собой. Конечно, героев можно ставить в необычную, но
обязательно ВОЗМОЖНУЮ обстановку прежде всего ради того, чтобы отразить
современные искания ученых и изобретателей. Потому нелепыми выглядят призывы
отказаться в научной фантастике от научности, техницизма, правдоподобия! В
наш век научно-технической революции нельзя считать главным направлением
научной фантастики показ "маленького человека", пользующегося достижениями
НТР, а то и напуганного ими. Нет, не чарли-чаплинские герои грядущего
расцвета науки и техники должны вести за собой нашего молодого читателя, а
творцы техники, прививающие любовь к ней, увлекающие технической романтикой.
Позорно называть возможные достижения техники в фантастической литературе
"техническими побрякушками", воспитывать в читателе высокомерное отношение к
достижениям цивилизации, которые якобы должны быть уделом "технарей", этих
смердов техники. Логичными для таких взглядов, но столь же вредными, как и
безнадежными, выглядят призывы списать в архив будто бы устаревшего Жюля
Верна, на котором воспитаны многие поколения творцов нового. Показ
воплощения технических идей останется для научной фантастики одной из ее
благородных задач.
Ставить подобные задачи перед научной фантастикой - это отнюдь не
означает отрицать право на существование сказки, даже современной научной
или технической сказки. Но при этом следует помнить, что "СКАЗКА - ЛОЖЬ, ДА
В НЕЙ НАМЕК, ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК". Вот в этом "уроке добрым молодцам" и
заложен смысл всякого фантастического произведения, в том числе и
сказочного.
Теперь такой взгляд кажется простым и неоспоримым. Но как трудно было к
нему прийти во время многолетней работы, исканий, споров, ошибок и находок,
понять, что фантаст не имеет права ссылаться на "специфику жанра",
рассчитывать на литературные скидки. Уместно провести параллель между
высказываниями о детской литературе и фантастике. Если первая такая же
литература, как и для взрослых, только "еще лучше", то вторая тоже такая же,
но вдобавок еще научная и фантастическая, не только отражающая жизнь, но и
видящая тенденции развития науки, техники, общества! И не может быть
художественной научной фантастики без художественности. И не могут в
литературе существовать некие "сеттльменты", где действуют другие законы и
где произведения надлежит судить по особым статьям. Литература многообразна,
но законы ее едины!
10. ОГОНЬ ИДЕЙ, ГИПОТЕЗ ЖЖЕНЬЕ
Недавно мне позвонили из Генерального штаба Вооруженных Сил СССР,
сообщая, что при подготовке книги о первом в мире космонавте Юрии Гагарине в
его архиве обнаружили статью из "Правды" (она опубликована за несколько лет
до полета первого космонавта Земли). Статья начиналась так:
"В таинственный мир космоса, беспредельный простор миллионов световых
лет, к сверкающим центрам атомного кипения материи, к звездам, живущим и
рождающимся, гигантским и карликовым, двойным, белым, желтым, голубым,
ослепительным или черным, в мир феерических комет и задумчивых лун, планет,
цветущих или обледенелых, в бездонный космос, мир миров, стремится теперь
уже не только взглядом человек...
Силы тяготения собрали миллионы миллионов звезд в правильные объемные,
сплющенные в одной плоскости геометрические фигуры, напоминающие
колоссальные диски галактических дискоболов. Смотря ясной ночью на Млечный
Путь, мы видим изнутри обод такого звездного диска нашей Галактики через всю
его толщу. Наблюдая в сильнейший телескоп далекую спиральную туманность в
созвездии Волосы Вероники, мы рассматриваем извне обод, но только другого
стоящего к нам ребром диска чужого, бесконечно далекого звездного мира.
Множество таких галактических дисков различимы в небе под самыми разными
углами, в том числе и сбоку. Тогда отчетливо вырисовывается огненное колесо
со спиральными спицами, поражая строгой единообразностью звездных миров...
Силы тяготения заставляют частицы материн сближаться. Неотвратимо
сгущаются туманности космической пыли, и внезапно загораются новые звезды.
Извечные катаклизмы вселенной накаляют до миллионов градусов колоссальные
массы вещества, пронизывают бездонные пространства потоками космических
лучей, порождают неисчислимые формы материи, создают условия для ее
совершенствования, венчаясь тайной тайн космоса - жизнью, в которой Природа
познала сама себя!..
Даже если исходить из условий, близких к земным, жизнь может
существовать на великом множестве миров бесконечных галактик. Ведь
образование солнечной системы отнюдь не исключение. Планеты, несомненно,
существуют у многих звезд. Жизнь, возникнув в самых простейших формах,
неуклонно развивается, стремясь к высшему совершенству - мыслящему существу.
Оно всесильно, мыслящее существо, и где-нибудь на планетной песчинке
близ светлой точки спирального острова в созвездии Волосы Вероники "оно" так
же оглядывает мир иных вселенных, как оглядывает их с Земли человек..."
Эта моя статья была аккуратно вырезана Гагариным и хранилась под рукой
во время его службы в Военно-Воздушном Флоте на Севере. Я не знал этого,
когда встретился с ним, милым, светлым человеком, в телецентре, идя на
диспут о "пришельцах из космоса". В руках у меня была книга французского
ученого Анри Лота с фотографией на всю страницу наскального изображения
многотысячелетней давности в скалах Сефара в Тассили (Сахара). Многие помнят
загадочную фигуру в балахоне (вроде водолазного скафандра) с герметическим
шлемом. Кто мог послужить прототипом наивному художнику каменного века?
Я показал наскальное изображение Гагарину и спросил:
- Похоже на вас в космосе?
Юрий Алексеевич улыбнулся своей светящейся улыбкой и ответил:
- И похоже и непохоже!
Так и должно быть, порешили мы с ним, если предположить, что одеяние
служило одной и той же цели и у первого космонавта Земли, и у неведомого
прототипа древнего наскального портрета, но исполнение разное, поскольку мы
быть может, имеем дело с иной цивилизацией! В память об этом разговоре на
столь фантастическую тему Юрий Алексеевич оставил мне в книге Анри Лота свой
автограф, который я храню как память и о первом космонавте Земли, и о его
возможном предшественнике с другой планеты.
Предшественник, пришелец с чужой планеты! Опять гипотеза,
опубликованная в 8, 9, 10-м номерах журнала "Смена" за 1961 год!
И опять она привлекла к себе повышенное внимание, вызвала новый
камнепад упреков в антинаучности и приверженности к сенсациям. Уместно ли
говорить об антинаучности, если наука даже не обратила пока внимания на
изучение возможных следов инопланетных космонавтов древности? Можно ли
говорить о сенсационности как первопричине выступления фантаста? Кто же еще
имеет право на гипотезу, как не фантаст? Не подрезать же крылья фантазии,
исходя из взглядов сегодняшнего дня! Некоторые фантасты и критики от
фантастики считают, что "сенсационная гипотеза" вредна своей
правдоподобностью, ибо заставляет верить в недоказанное. Фантасту якобы
положено публиковать любые измышления, которые никого не взволнуют своей
нелепостью. Другое дело, если гипотеза задевает людей за живое, пробуждает
всеобщий интерес. Это уже "крамола", "сенсационность"! Очевидно, суть
сенсационности в затрагивании интересов наших современников, которые крайне
чутки ко всему, что может произойти с ними сейчас. Потому, может быть, и не
взволновала сногсшибательная гипотеза члена-корреспондента Академии наук
профессора И. С. Шкловского и профессора Калифорнийского политехнического
института мистера Минского, высказанная на симпозиуме в Бюракане, о том, что
достижения ЭВМ-техники не только обеспечат создание искусственного разума,
но и предрекают замену человечества на Земле более совершенными, чем люди,
мыслящими кибернетическими устройствами. Несмотря на всю мрачность такого, с
позволения сказать, "прогноза", он не затрагивает интересов современного
человека. Когда-то это еще будет, да и будет ли!..
А вот общение с инопланетным разумом в прошлые века или даже в наши дни
- это уже нечто осязаемое, интересное, важное...
Однажды я обнаружил в своем почтовом ящике тетрадь с тщательно
выполненными чертежами. В ней говорилось о знаменитом древнем сооружении в
Англии - Стоунхендже. Рукопись была анонимной, но... убедительной.
Безвестный автор, геометрически анализируя план сооружения, воздвигнутого
почти четыре тысячи лет назад обитателями Британии (в каменном веке!),
обнаружил, что в этом плане заключены все параметры солнечной системы!
Невероятно, но достоверно, ибо может быть проверено кем угодно! Откуда люди
каменного века, строя свое капище или древнюю обсерваторию, не имея
телескопов, могли знать диаметры Земли, Венеры, Марса, Меркурия и
планет-гигантов? Как определили расстояние от Земли до Луны? Не руководил ли
постройкой кто-то, обладавший интеллектом неизмеримо высшим, чем строители?
Я показал рукопись знакомым ученым, предложил даже, будучи действительным
членом Московского общества испытателей природы, поставить доклад. Но
анонимные работы не докладываются. А спустя две недели в моем ящике
оказалась другая тетрадь, еще более глубоко раскрывающая затронутые
проблемы. Через месяц появилась третья, где был математически выведен
показатель "космической прогрессии", равно применимой и к микро- и к
макромиру. Я не знал, что делать с этим анонимным наводнением идей. Но
вскоре в 7 часов утра мне позвонил незнакомый голос и сказал, что говорит
автор опущенных в мой почтовый ящик рукописей.
- Неужели все это ерунда? - закончил незнакомец.
- Отнюдь нет, - заверил я. - Вы затрагиваете удивительно интересные
проблемы.
Он попросил разрешения посетить меня в тот же день в 10 часов утра. С
волнением ждал я его прихода. Должен заметить, что я был завален всякими
сообщениями о "контактах" с инопланетянами, якобы имевших место в наше
время. Очевидцы (никто так не врет, как очевидцы!) утверждали, будто
встречались с гуманоидами маленького роста, но похожими на людей. Велико же
было мое смущение, когда, открыв дверь, я увидел перед собой низенького
человека, вовсе не уродливого, пропорционально сложенного. Он представился:
Валентин Фролович Терешин, живет под Москвой и работает программистом
электронно-вычислительных машин.
Человек редкой скромности, он отказывался от публичных выступлений,
предлагая мне использовать в своих фантастических произведениях его гипотезу
о Стоунхендже. Но я уговорил его продолжать свою работу в научном плане и
связал Терешина с кандидатом наук Владимиром Ивановичем Авинским из
Куйбышева.
Через некоторое время В. И. Авинский сделал на секции физики МОИП от
имени Терешина и своего доклад, который был признан лучшим докладом года. А
в 1980 году в ежегоднике "На суше и на море" появилась наконец и публикация
об открытиях советских ученых. Их работа выдвинута на соискание премии МОИП.
Но Валентин Фролович Терешин был полон самых разных идей. Так, он
принес мне однажды "оду "пи" (почти разгадку квадратуры круга!). Решение это
оказалось настолько серьезным, что в "Науке и жизни" появилась совместная
заметка Терешина и заслуженного деятеля науки и техники, профессора
М.М.Протодьяконова, с которым я его свел, об удивительно простом и доступном
инженерном вычислении величины "пи" с любой, заранее заданной точностью.
Ошеломлен я был и еще одной находкой Терешина. Как известно, в
откопанном археологами храме бога Ра в Египте обнаружили каземат, где
замуровывали будущих жрецов бога Ра и не выпускали их оттуда, пока они не
решат выбитую при входе в каземат геометрическую задачу. В наше время ее
можно решить лишь с помощью корней уравнения четвертой степени, найденных
математиками лишь сравнительно недавно. Как же решали задачу и выходили из
каземата древние египтяне? Терешин нашел ответ, и на эту тему мы с ним
опубликовали рассказ "Колодец Лотоса", где он пожелал выступить под
романтическим псевдонимом "Мариан Сиянин", намекая на то, что явился ко мне
совершенно так, как описано в моем давнем рассказе "Марсианин", который, по
словам Терешина, и привел его ко мне.
Гипотезы всегда насыщали любое мое фантастическое произведение, но,
конечно, отнюдь не были самоцелью. Так, еще в "Планете бурь", потом в романе
"Сильнее времени" и особенно в трилогии "Фаэты" доказывалось, что мысль
Циолковского о непременном расселении разума по вселенной, применима не
только к Земле. Впервые я коснулся этого в рассказе "Взрыв", говоря о
попытке приземления инопланетного космического корабля в тунгусской тайге. В
романе "Сильнее времени" гостями из космоса на других планетах стали люди
коммунистической эры Земли.
О "Фаэтах" же, где речь идет о возможном перенесении разума из космоса
на Землю, надо сказать особо.
В начале семидесятых годов в Центральном Доме литераторов в Москве мне
привелось проводить встречу московских писателей с великим физиком нашего
времени Нильсом Бором, приехавшим в Москву вместе с супругой.
Леонид Соболев, вспоминая об этой встрече, писал, что А.П.Казанцев
спросил Нильса Бора, может ли взрыв сверхмощного ядерного устройства вызвать
спонтанную реакцию синтеза водорода в гелий в океанах планеты, то есть их
взрыв? Вопрос был задан неспроста. Ведь многие астрономы считают, что пояс
астероидов между орбитами Марса и Юпитера - это осколки когда-то
существовавшей планеты Фаэтон размерами с нашу Землю. Но что вызвало
разрушение планеты, если ее осколки не разлетелись, а остались на прежней
орбите? Лишь при взрыве океанов планета могла треснуть, развалиться на
куски, которые потом в течение тысячелетий дробились на более мелкие,
порождая рои метеоритов. Нильс Бор ответил:
- Я не исключаю возможности такого взрыва. Но если бы это и было не
так, все равно ядерное оружие надо запретить.
Он понял сразу все, и даже то, что Фаэтон мог быть населен разумной
расой, погубившей свою планету в братоубийственной ядерной войне.
Ответ Нильса Бора оказался тем толчком, который побудил меня написать
трилогию "Фаэты", где высказана (отнюдь не доказанная пока) гипотеза о том,
что человечество может происходить от космических переселенцев, в силу
обстоятельств не вернувшихся на родную планету (погибший Фаэтон!).
По словам известного писателя Вадима Сафонова, автор романа "Фаэты" с
исступлением проповедника не только дает выход экзотическим гипотезам, но и
борется за мир своим предостережением человечеству против "безумия разума"
на нашей планете, которая может разделить судьбу Фаэтона.
Встречи с такими учеными, как Нильс Бор и Лео Сциллард, помогли
насытить произведения волнующими идеями. Сциллард, как известно, подготовил
совместно с Эйнштейном письмо президенту США Рузвельту о необходимости
разработки атомной бомбы, а потом другое письмо (которое прочитал уже
Трумэн), с требованием отказаться от атомного оружия. После же взрыва по
приказу Трумэна атомных бомб в незащищенных японских городах Хиросиме и
Нагасаки выдающийся атомщик Сциллард порвал с областью науки, в которой
сделал так много, и обратился к науке о жизни - биофизике. Он стал
прототипом одного из героев романа "Льды возвращаются".
Но особенно плодотворными для меня как фантаста и автора книг
"Завещание Нильса Бора", "Подводное солнце" и "Сильнее времени" оказались
возникшие дружеские отношения и встречи с замечательным физиком нашего
времени Ильей Львовичем Герловиным. Имя его - создателя теории
фундаментального поля - будет когда-нибудь произноситься наряду с именами
творцов теории относительности. Герловин не отказался от теории
относительности, она вошла органически в его более общую теорию
фундаментального поля. В свое время Пуанкаре, Лоренц, Эйнштейн и др.
ньютоновскую механику и максвелловскую электродинамику сделали частными
случаями теории относительности. Я глубоко признателен и И.Л.Герловину, и
его соратнику профессору М.М.Протодьяконову, которые полетом своей фантазии
ученых окрыляли писательскую мечту, ибо, как сказал В. И. Ленин, фантазия
присуща не только поэтам, без нее нельзя было изобрести дифференциального и
интегрального исчисления.
Однако не только И.Л.Герловин, М.М.Протодьяконов и заокеанские гости
стимулировали замыслы моих новых романов. Незабываемое впечатление произвел
на меня крупнейший ученый, почитаемый всем миром, в ту пору стоявший во
главе советской науки, впоследствии дважды Герой Социалистического Труда
академик Александр Николаевич Несмеянов.
По поручению правления Центрального Дома литераторов я в сопровождении
ныне заслуженного работника культуры РСФСР Р.Я.Головиной отправился к
президенту Академии наук СССР с просьбой встретиться с московскими
писателями.
Я бывал уже в этом небольшом кабинете, который во время войны занимал
вице-президент Академии наук СССР академик Абрам Федорович Иоффе. Нас
встретил обаятельнейший человек с необычайно красивым лицом, высокий,
статный, Александр Николаевич Несмеянов. Он охотно согласился поделиться с
писателями своими мыслями и научными замыслами
Отчетливо помню эту встречу. Тогда, в самом начале шестидесятых годов,
я завороженно слушал стратега науки. Он говорил о "проклятых вопросах
современности": перенаселении, нехватке пищевых продуктов, энергетическом
голоде (что ныне повергает западных ученых в уныние и беспросветную тоску!).
Он же рассматривал проблемы, разрешимые в самом непродолжительном времени.
Вооруженный высшей поэзией науки, поэзией цифр, он показывал, как можно в
наше время добыть не хватающее населению Земли количество белка. В древности
наши предки сначала охотой, потом занимаясь скотоводством и земледелием,
обеспечивали себя белком. Но коэффициент полезного действия их "живых машин"
- животных, растений - не превышал 10 процентов. Это невыгодно. Между тем
есть полная возможность получать полноценный белок на микробиологическом
уровне (КПД 90 процентов) и делать из него искусственно все привычные виды
пищи, придавая им нужный вкус и аромат. Говоря о перспективах и трудностях,
в частности о консерватизме мышления, Несмеянов указывал, что 80 лет назад
человечество носило только "натуральную" одежду, а теперь на 80 процентов
одето в одежду из искусственных материалов, без которых уже нельзя обойтись.
Так же будет и с пищей. Но когда?!
Меня больше всего поразило, что для уничтожения голода на Земле нет
нужды изобретать что-нибудь невероятное. Все уже найдено. Одноклеточные
грибки - дрожжи кандида - по составу своему и набору аминокислот не
отличаются от материнского молока. Вырастают эти грибки на тяжелых отходах
нефти и увеличиваются за сутки в весе в тысячу раз! Чтобы накормить все
человечество, понадобится израсходовать в год смехотворно малое количество
нефти - пятьдесят тысяч тонн, приготовляя из полученного белка все виды
пищи. В академическом институте, которым руководил академик А.Н.Несмеянов, я
имел возможность убедиться, что искусственная картошка ни по виду, ни по
вкусу не отличается от обычной, но обладает питательностью мяса, что жареный
искусственный бифштекс совсем такой же, как сделанный из свежей вырезки.
Кстати, к такому же убеждению пришли не только скептически настроенные члены
моей семьи, но и официальные дегустаторы, которые, ничего не подозревая,
поставили при испытаниях искусственные продукты выше натуральных.
Вот она, "модель грядущего"! О ней и написал я через несколько лет
новый роман "Купол Надежды", посвященный академику Несмеянову. К сожалению,
вышел он уже с посвящением памяти замечательного ученого и стратега науки.
Перелистывая "Пунктир воспоминаний", я подумал: не слишком ли
благополучным представляет он мою жизнь? Отводя упреки, замечу, что пунктир
есть пунктир, он состоит из черточек и промежутков между ними. Все просчеты,
ошибки, горькие разочарования и невосполнимые потери приходятся на эти
"промежутки". А было их, пожалуй, куда больше, чем удач. Достаточно сказать,
что из четырнадцати вариантов "Пылающего острова" читателям выдан лишь
последний, да и тот коренным образом переработан, а все предыдущие скрыты в
промежутках между черточками пунктира.
Кстати, черту принято подводить и итоговую. В какой-то мере ею было
подписное издание собрания моих сочинений (в трех томах), выпущенное
издательством "Молодая гвардия" в 1977-1978 годах. И вот тут мне привелось
столкнуться едва ли не с наиболее приятной черточкой пунктира!..
На Кузнецкий мост к магазину подписных изданий меня не пропустил
милиционер, проезд был закрыт: толпа людей теснилась у магазина и толстой
очередью тянулась за угол к Большому театру. Я не удержался и спросил
милиционера:
- А что здесь такое?
- Подписка на Казанцева.
Я возгордился, но тотчас был низвергнут репликой прохожего.
- А! Фантастика! - презрительно сказал тот, махнув рукой. - Делать им
нечего!..
Но все-таки народ толпился С трудом пробрался я в Лавку писателей на
Кузнецком мосту, где получил несколько абонементов на свое издание. Вернулся
к осаждаемому читателями магазину. Там объявили, что подписка закончена.
Возмущенные крики, унылые лица. И тут по-мальчишески захотелось сыграть в
Гарун аль Рашида (из "Тысячи и одной ночи"). Я выбрал наиболее
расстроенного, нет, расстроенную читательницу и спросил, давно ли она здесь.
И услышал: "Простояла всю ночь". Тогда я открыл свое инкогнито и, вынув из
кармана абонемент, подарил ей, попросив приехать за первым томом ко мне (его
нужно было получить на складе). Меня окружили любители книг, требуя
абонементов, а у меня их не было!..
В назначенный день, когда склад открылся, меня одолели телефонные
звонки читателей, хотя я дал номер лишь своей "избраннице". Очень трудно
отказывать! Наконец позвонила она, назвав себя обладательницей абонемента No
1 (случайно я дал ей такой!). Я пригласил ее приехать за книгой. И она
приехала... с мужем, ради которого и выстаивала в очереди. Напрасно я
подозревал ее в следовании моде на подписные издания. Оказывается, ее муж,
работая в каком-то НИИ, по указанию начальника отдела обязан был читать
научную фантастику, проникаясь новыми идеями. Ларчик просто открывался! Я
тепло попрощался с супругами, обладателями абонемента No 1. Но главное для
меня было в указании начальника отдела НИИ. Это поднимало научную
фантастику, которая мне так дорога.
Итог, казалось бы, подведен, но сумма растет. Я отнюдь не прекратил
своей литературной деятельности, замыслы теснятся роем. Пусть продолжится
мой пунктир воспоминаний и после того, как часы покажут 75 лет! Они ведь с
автоматическим подзаводом!
Почти сорок из них прошел я по писательскому пути рука об руку со своей
женой Татьяной Михайловной, большим другом моих старших детей. Мы разделили
с ней неиссякающую боль утраты: в 1955 году наш старший сын Андрюша,
которому посвящен роман "Полярная мечта", погиб в шестилетнем возрасте от
полиомиелита. В утешение нам два года спустя родился Никита, которого
поначалу даже нельзя было отличить от старшего брата. Татьяна Михайловна во
время войны начиняла "волшебные чайники" для партизан полупроводниками
Иоффе, потом стала учительницей в школе.
Идя рядом на протяжении почти всей моей писательской жизни, она
старалась своей требовательностью развить во мне критическое отношение к
тому, что я делаю, резко отличаясь тем от большинства щедрых на похвалу
спутниц нашего брата литератора. Смеясь, она напоминала, что только
"воробьиха всегда своего воробья хвалит".
Словом, похвалами ни близких мне людей, ни суровых критиков я не
избалован, хотя жаловаться на непризнание не могу*.
______________
* Писатель А.П.Казанцев награжден правительством СССР орденом Трудового
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом "Знак Почета" и десятью
медалями, а также грамотой ЦИК АБССР. Ему присуждены три премии:
кинематографическая, Детиздата и специальная международная III конгресса
научной фантастики в Познани (Примеч. ред.)
Посвящая свои романы международной теме, я имел возможность посмотреть
мир: объездил не только Советский Союз между морями и океанами, но и
четырнадцать раз бывал за рубежом, увидев свыше двадцати стран и как турист,
и как вице-президент постоянной комиссии ФИДЕ, и как инженер, и как
уполномоченный правительства.
Наблюдая жизнь у нас и за рубежом, я стремился отразить в книгах
тенденции развития науки, техники, общества.
Насколько это удалось, судить не мне. Я лишь перелистываю "Пунктир
воспоминаний", сознавая его неполноту и прерывистость.
Вглядываясь в черточки и промежутки между ними, задаю себе вопрос:
согласен ли вновь пройти весь путь под "ребяческим девизом юности", свернуть
в фантастическую литературу, сделав ее содержанием жизни? И отвечу себе:
готов, готов снова шагать прежней извилистой дорогой по спускам и подъемам,
снова стремиться к цели, суть которой могу выразить лишь в стихах.
Моей Татьяне
Сонет первый
ПЕРО ПОЭТА
Лишь для тебя, моей желанной,
Меняю жанр за много лет
И, озаренный мыслью странной,
Берусь с волненьем за сонет.
Шекспиру, Пушкину, Петрарке
Служил он, вдохновенья друг,
Как зодчему - взлет легкой арки,
Как эллину - бог линий Круг.
Так пусть сверкнут гирлянды молний
И через Время встанет мост!
Веселья час! Все кубки полны!
Богиням - гимн! Любимой - тост!
Звучи же, музыка сонета!
Фантаст берет перо поэта!
Сонет второй
СНЫ - ТОЛЬКО СНЫ
Ты приходишь ко мне по ночам,
Когда я непробудно усну.
По серебряным лунным лучам
Ты приносишь мне снова Весну.
Зажурчали по венам ручьи,
Громыхает в груди ледоход.
От твоей чуть мерцавшей свечи
Полыхнул, засверкал небосвод!
Но зачем утром нового дня,
Долгим взглядом мне волю сковав,
Покидаешь ты тихо меня,
Ничего, ничего не сказав?
Сны пусть прежние видятся мне,
Но приди раз ко мне... не во сне!..
Сонет третий
СПИНОЙ ВПЕРЕД
Сверкнет порой находка века,
Как в черном небе метеор.
Но редко славят человека,
Слышней, увы, сомнений хор.
"Жрецы науки" осторожны.
"Великий Опыт" - их глаза.
"Открыть такое невозможно!
Немыслима зимой гроза!"
Запретов сети, что сплетают
Преградою "науки знать",
Тому, кто сам изобретает,
Эйнштейн советовал не знать.
Наука к Истине ведет,
Но движется "спиной вперед"!
Сонет четвертый
ВСЕМУ ВОПРЕКИ
Почему же тебя так люблю я?
Прелесть плеч, тонкий стан, гордый взгляд?
Иль пьянящий огонь поцелуя?
Или нежно шуршащий наряд?
А меня ты за что полюбила?
За мой нрав, за мечту, за успех?
Иль за то, что судьба меня била?
Иль казался красивее всех?
Нет! Не это нас в жизни связало!
Не отца или друга совет,
Для любви "мудрой логики" мало,
Любим мы, хоть причин тому нет.
Наши чувства тогда велики,
Когда любим всему вопреки!
Сонет пятый
ЛЕГКОКРЫЛАЯ ПОДРУГА
Любимая! Зачем же ревность?
Да сгинут тени на свету!
В грядущее, на звезды, в древность
Стремлюсь проникнуть как в мечту!
Столегкокрылая подруга
Берет меня с собой в полет.
Безокоемная округа!
До жути видно все вперед!
В игре стремнин воображенья
Поток бурливый напоен
Огнем идей, гипотез жженьем
И тайной будущих времен.
Фантазия - поэта друг.
Нет без фантазий наук!
Сонет шестой
КОЛЬЦО АСТЕРОИДОВ
Есть погибшего мира загадка.
Храня ее, звездная проседь
Отыскать среди звезд беспорядка
Кольцо астероидов просит,
Чтоб увидеть летящие скалы,
Подобные грозным обломкам
Планеты, где джинна искали,
Золы не оставив потомкам.
Даже ядерный взрыв океанов
Возможен (по строгой науке!).
И слышу: мощь сотен органов
В призывном сливается звуке:
"Я - ЗЕМЛЯ! НА ЗАЩИТУ ПЛАНЕТЫ ВСЕМ ВСТАТЬ,
ЧТОБ НЕ ДАТЬ ЕЙ КОЛЬЦОМ АСТЕРОИДОВ СТАТЬ!"
Сонет седьмой
ОДА ФАНТАСТИКЕ
Размах от сказки до предвиденья,
От ящеров до дальних звезд.
Уносит нас земель за тридевять
Фантастика ума и грез.
В страну идей - "Изобретению",
Мечта где - первый цвет весны,
Фонтанами где бьют дерзания,
Становятся где явью сны.
Сверканье Разума - фантазия,
Искателей - звезда и друг,
И тонко, мудро, верно сказано:
Нет без фантазии наук!
О быте повесть - "микроскоп",
Фантастика же - "телескоп".
Так пусть литературный "телескоп мечты" поможет воспитанию того
поколения людей, которым свершать великое на крутом пути к светлому окоему.
Москва-Переделкино
1979-1980 гг.
Last-modified: Sun, 30 Dec 2001 18:39:56 GMT
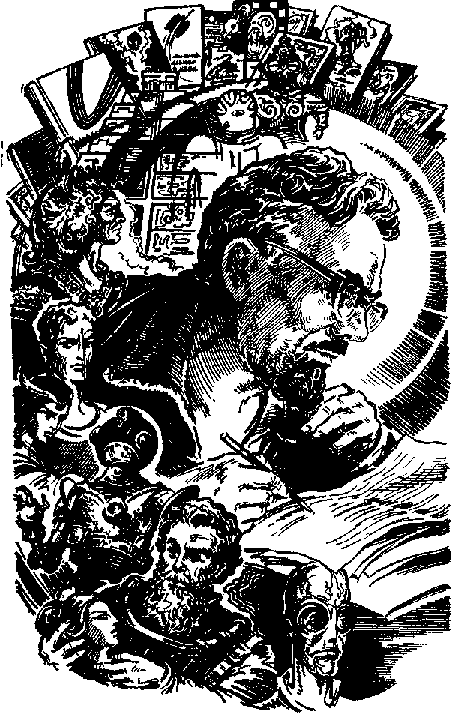 В игре стремнин воображенья
Поток бурливый напоен
Огнем идей, гипотез жженьем
И тайной будущих времен
В игре стремнин воображенья
Поток бурливый напоен
Огнем идей, гипотез жженьем
И тайной будущих времен