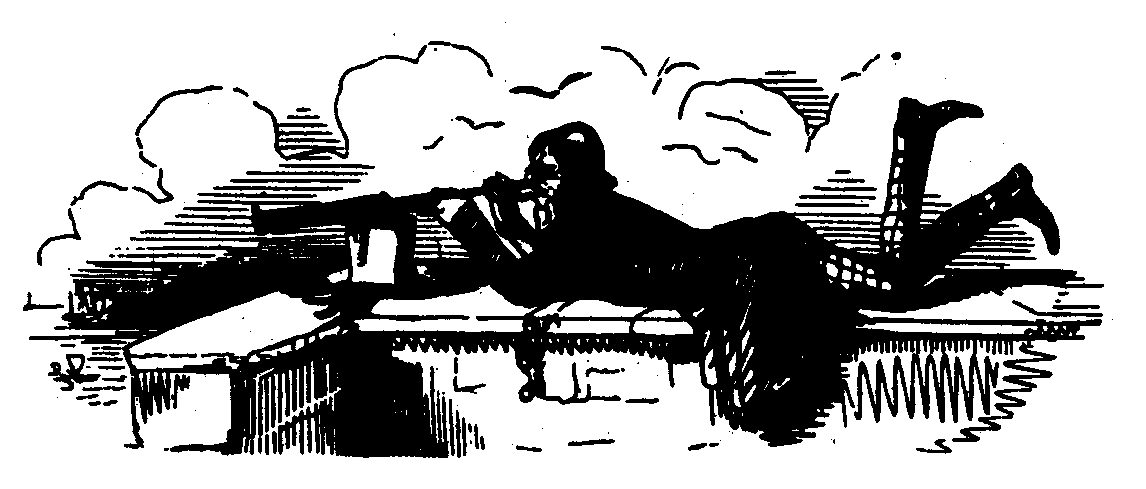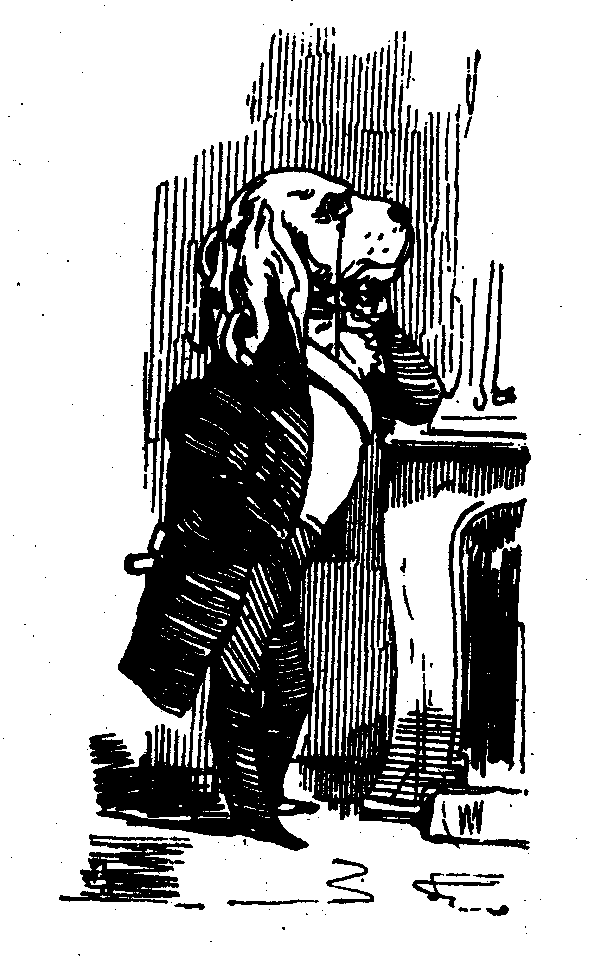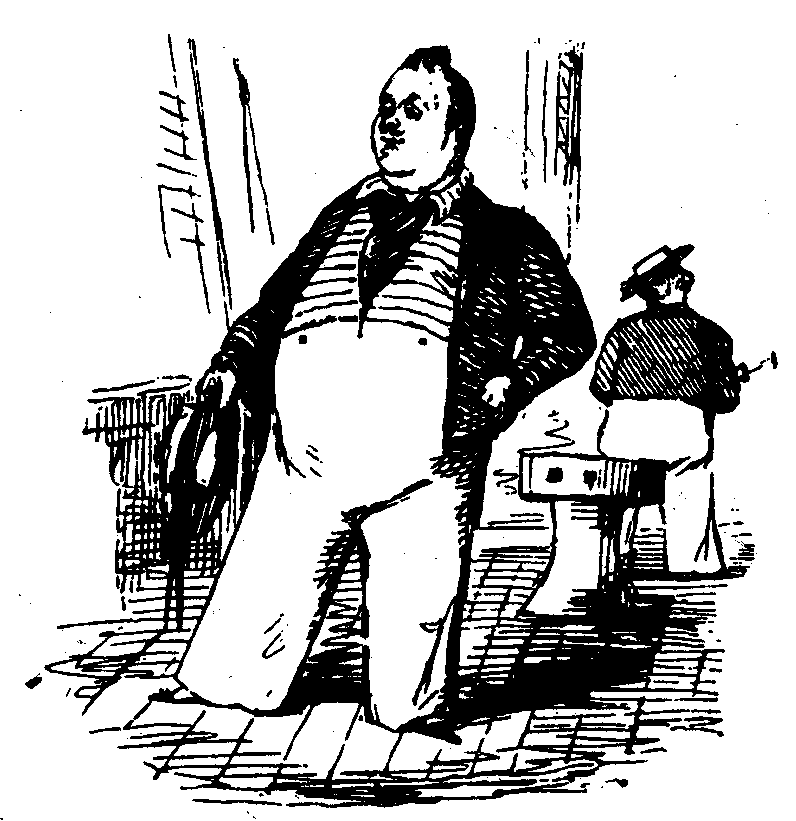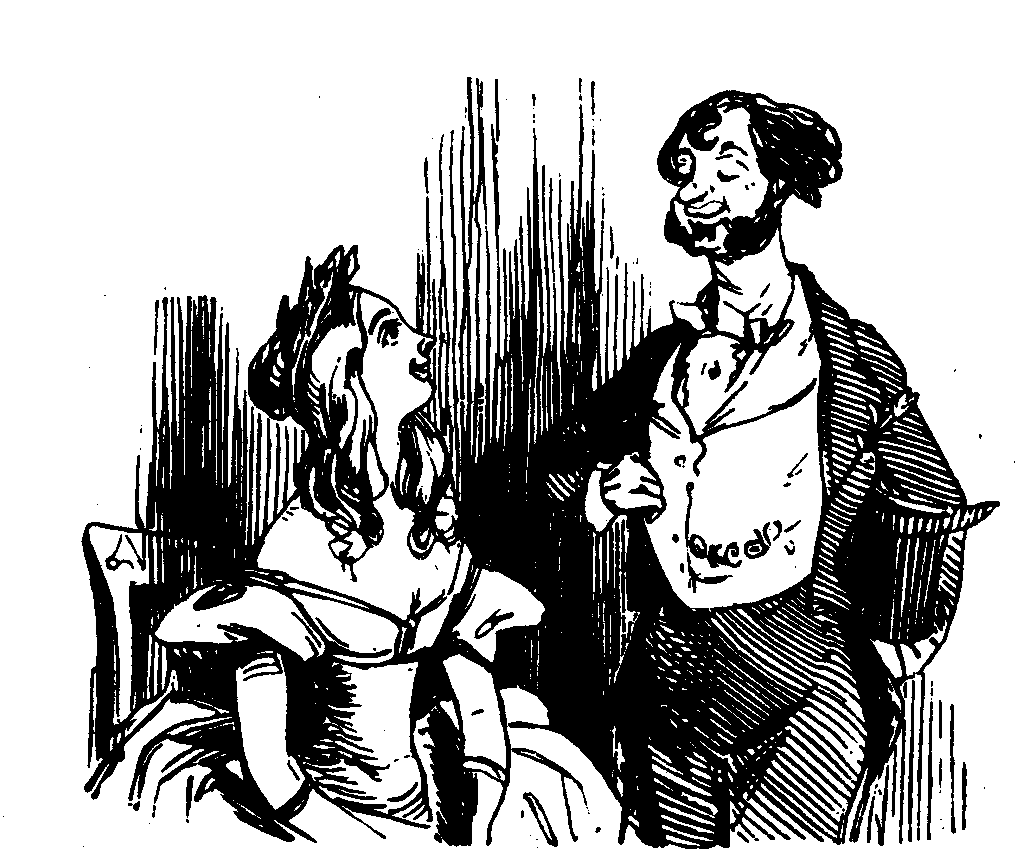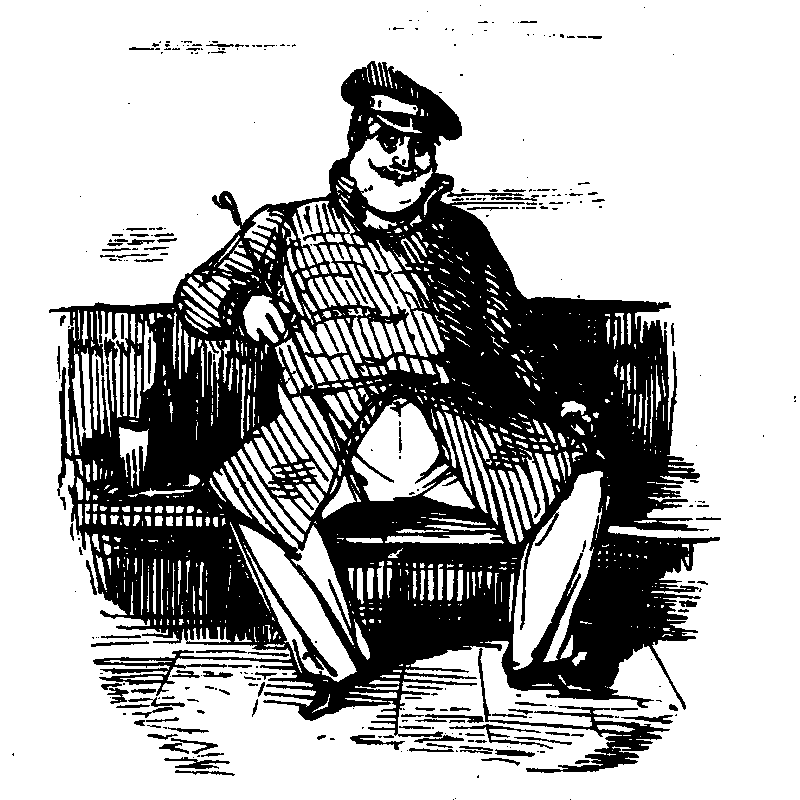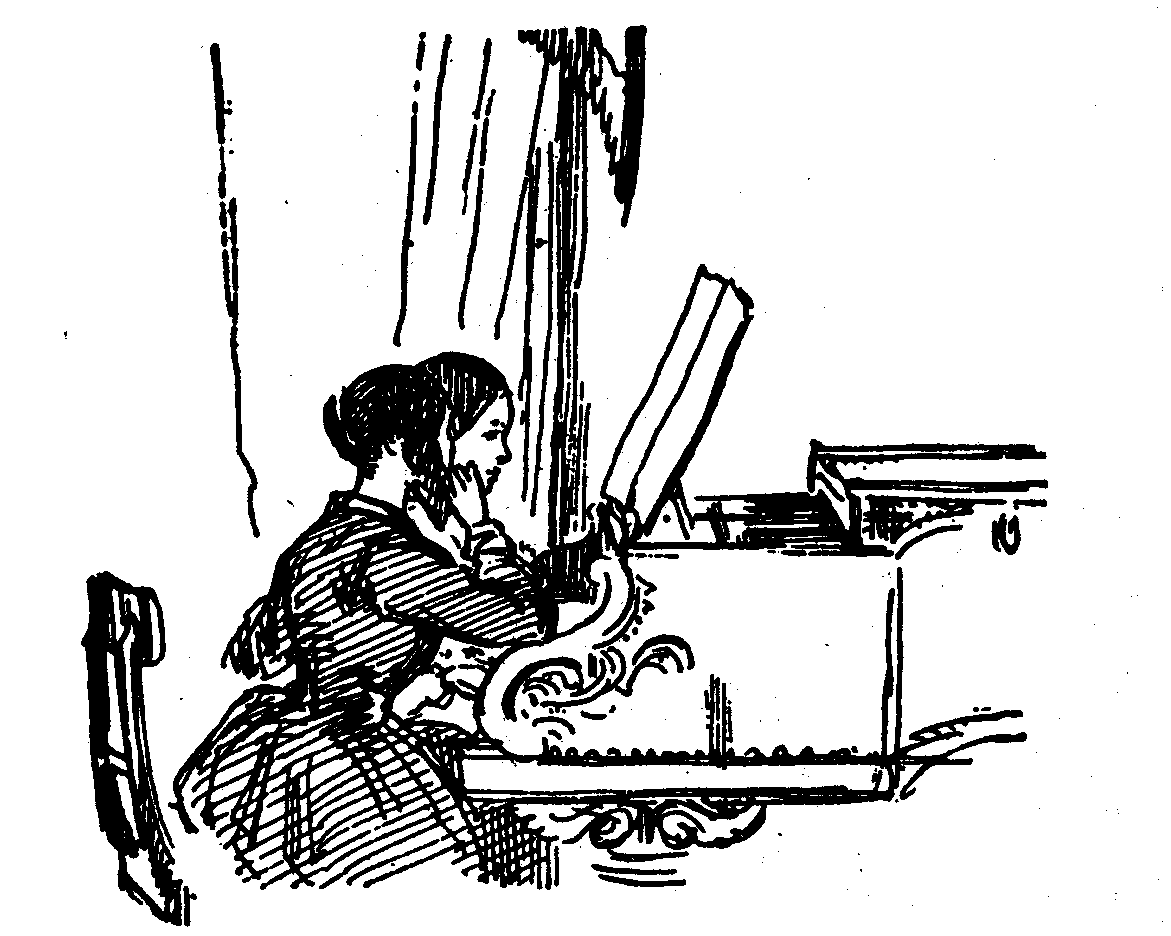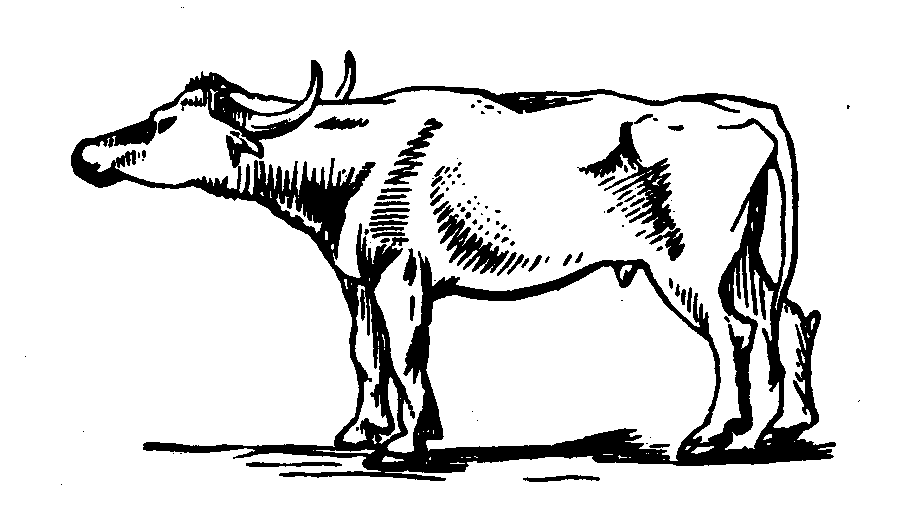оявлялось десятка два, а то и больше человек, которые собирались в простом
деревянном сарае и слушали меня с видом величайшего понимания и
удовольствия. Вы не считаете, что это много говорит о человеческой природе?
 Странствие по югу превратилось в настоящее путешествие, подчас очень
опасное. Однажды между Фредериксбергом и Ричмондом два дюжих негра на крутом
откосе стопорили движение поезда, время от времени бросая бревна на рельсы,
потому что тормозов у паровоза не было. Если вам даже думать об этом
страшно, вообразите, что чувствовал я, когда сидел в вагоне и переживал все
это въяве - бр-р-р! Мы с Эйром порою останавливались в страшной глухомани и
очень гордились своей отвагой. Некоторые гостиницы были так наводнены
блохами - уж в этом-то я разбираюсь, - что мы боялись быть съеденными
заживо, а когда выходили погулять, не верилось, что окружающий пейзаж нам не
приснился: вокруг царили невероятные убожество и ветхость. Нас очень
сковывало и смущало, что мы так сильно отличаемся от местных жителей: хотя
мы с ними говорили на одном языке - если прибавить или убавить
гласную-другую - общение наше протекало так, словно то было тарабарское
наречие. Все негры из речных верховьев неспешно двигались по своим делам, и,
глядя на их чужие лица, совсем отличные от наших, я не мог себя не
спрашивать, грешно ли думать, что их толстые, приплюснутые физиономии
свидетельствуют о врожденном недостатке интеллекта? Само их лицезрение
ставило меня в тупик и наполняло чувствами, которых мне бы не хотелось
знать, поэтому я предпочитал глядеть на мальчишек, похожих на всех мальчишек
в мире, лишь более живых и подвижных, в отличие от их родителей. Мне
нравилось болтать и шутить с ними, должен сказать, что они были понятливы и
отвечали дружелюбно. Эйр, конечно, пытался отравить это невинное
удовольствие, пытаясь привлечь мое внимание к печальным созданиям с жалкими
узелками, которые ждали отправки на аукцион, но я предпочитал замечать
светлую сторону и вглядывался в играющих детей или в веселую улыбку
негритянки, торговки арахисом, которая в ответ на мой вопрос о здоровье
ответила: "Спасибо, дела идут на лад". Слишком легко видеть повсюду только
горе, и так во всем в жизни.
В этой части страны у меня было не так много лекций, как в городах, но
это и неудивительно. В промежутках мне хватало времени слоняться, сидеть на
солнышке, зевать, спать, есть, пить, курить - ритм жизни был тут такой
неспешный, что моего безделья, пожалуй, никто не замечал. Поначалу оно мне
нравилось, но вскоре наскучило, ничто меня не взбадривало: ни общество, ни
театры, ни клубы - делать особенно было нечего, осматривать тоже, и над всем
краем стояло марево лени, пропитавшей меня до мозга костей. Возможно, где-то
какие-то люди тяжко трудились, но я их не видел и не слышал и чувствовал,
что прирастаю к месту, в котором остановилось время. Все чаще и чаще я стал
возвращаться мыслями к дому и к близким, хотя меня манил Новый Орлеан, где,
как говорили, можно было ждать хороших сборов от изголодавшейся по
культурным развлечениям публики, но я стал уставать от юга и меня
останавливала мысль о неудобствах шестидневного пути. Я снова не знал, что
делать дальше. Пора было задуматься - и очень глубоко - не только о том,
куда ехать по Америке, но и о том, в какую сторону двигаться по жизни,
однако дремотный дух этих мест вызывал во мне лишь вялость и сонливость, и
если я о чем и думал, так это о том, что подадут к обеду. Конечно, я мечтал,
мечтал и ночью, и днем, но стыдно сказать, о чем были мои грезы, - они,
наверное, вас разочаруют. Разве я не предал прошлое забвению, разве не
исцелился, разве Америка не вернула мне жизнелюбие? Но что бы нас ни
разделяло, осталась память о добром старом времени, которое нельзя было
отринуть, и, несмотря на боль и горе, из него струились потоки прежней любви
и доброты. Что за загадки? - спрашиваете вы. Какие там загадки, я говорю о
Джейн. Однако то не были неотступные, страстные думы, терзавшие меня так
много лет подряд, но грустные, неясные, не лишенные приятности грезы, в
которых я глядел на нее издали и слал прощальный привет, исполненный печали.
Она прислала мне в Америку одну из своих чопорных, ненавистных мне записочек
- я ни за что ее не процитирую из страха, что вы станете смеяться, -
сообщала, что снова в положении, здорова и желает мне того же. Другие мои
корреспондентки, сестры Эллиот, тоже сообщили мне эту новость, добавив, что
Джейн еще страдает, но спокойна. Что ж, я тоже хранил спокойствие настолько,
что распорядился, чтоб в день, рождения ей от моего имени доставили две
лилии: для нее и для ее новорожденного младенца, - и все же в моей душе был
тайный уголок, который посвящен был ей одной. А Салли Бакстер? Ах, что за
глупости, это маленькое увлечение совсем улетучилось из моей памяти.
Я полагал, что поеду в Канаду и оттуда отправлюсь домой примерно в
июне, но пока я мешкал на юге, не желая расставаться с теплыми солнечными
лучами, пришло письмо, вернее, два письма, заставившие меня поторопиться и
ехать прямо в Нью-Йорк, откуда при желании я мог отправиться домой
немедленно. В письмах говорилось, что мой отчим тяжело болел, перенес что-то
вроде удара, но уже оправился и для тревоги нет причин. Вся эта грустная
история случилась несколько недель назад, сокрушаться было бесполезно,
принимать срочные меры - поздно, но, сидя на юге, на веранде, я читал письмо
и снова переживал с ними это ужасное время, делил их горе и хотел быть с
ними рядом. В конце концов, все обошлось, но все же меня охватила великая
тревога, и я изводил себя мыслью, что на месте моих девочек - будь я в
положении отчима, делать бы вообще ничего не пришлось - я впал бы в истерику
и не сумел от страха пальцем шевельнуть. За сколько дней можно доехать до
Нью-Йорка? Сколько недель ждут судна? Боже мой, это немыслимо, это ужасно, я
был не вправе задерживаться ни на минуту. Что ни говорите, а я подвел
матушку как раз тогда, когда она больше всего во мне нуждалась, - уж она-то,
видит бог, никогда меня не подводила, когда бывала мне нужна. Я принялся
думать о горе этой достойной женщины, и мое раздражение на ее безмерную
преданность отчиму сменилось чувством вины из-за того, что я не оценил как
должно любовь, их, несомненно, соединявшую. Мне следовало быть с ней рядом,
держать ее за руку, подставить ей плечо, на котором она могла бы
выплакаться; но когда я вообразил, что Анни, а может быть, и Минни пришлось
это делать вместо меня, я ощутил еще большую тревогу: что если они оказались
недостаточно крепкими и сломились под тяжестью испытания?
То был толчок, в котором я нуждался, - мы упаковали вещи и отправились
в Нью-Йорк с величайшей поспешностью. Как сильно отличался путь назад:
занятому своими думами путешественнику, которого тянет домой, ничто не
интересно, кроме стрелок часов и железнодорожных расписаний, и хотя я вовсе
не был уверен в том, что мне и в самом деле следует ехать домой и оставить
мысли о Канаде, я торопился попасть туда, где мог бы часто получать известия
из дому, и думал лишь об этом.
^T16^U
^TЯ возвращаюсь домой и снова впадаю в уныние^U
Как только я оказался в Нью-Йорке, где мог регулярно получать почту, я
настолько успокоился, что вновь всерьез стал размышлять: а не поехать ли мне
все-таки в Канаду? Это было очень близко, мне не пришлось бы возвращаться в
Нью-Йорк: из Монреаля в Ливерпуль ходили суда, - по крайней мере, я считал,
что ходили, - и отказаться от поездки значило упустить случай. Уже стоял
апрель, зима кончилась, лучше всего - думал я - вернуться домой к июню, чтоб
вывезти куда-нибудь семью и хорошенько отдохнуть. Пока я навещал старых
друзей" и носился по городу, все мои мысли бежали в этом направлении, но вот
что случилось дальше. Я сидел в "Кларендоне", в некоем подобии холла, где
американцы обычно читают газеты, когда в глаза мне бросилось объявление о
том, что сегодня утром отбывает пассажирский лайнер "Кунард", казалось, это
напечатали специально для меня. Я сразу понял, что непременно должен на него
попасть, хоть эта мысль была, вне всякого сомнения, нелепа. Словно
одержимый, я бросился к Эйру и велел ему паковаться, ибо хотел, чтоб мы
отправились сегодня же. Не дожидаясь его ответа, я выскочил на лестницу и
уже снова бежал по улице к билетной кассе на Уолл-стрит. Думаю, что меня там
приняли за сумасшедшего: - У вас есть два места на этот, как он называется,
лайнер, который сегодня отплывает? - Есть, сэр, но он вот-вот отчалит. -
Неважно, я их покупаю. - Вам надо быть на судне через двадцать минут, - и я
оттуда выскочил. Не знаю, как это Эйру удалось, но к минуте моего
возвращения наш багаж был собран, мы даже поднялись на борт заблаговременно.
Хотел бы я всегда так уезжать: без суеты, без нервотрепки, без
мучительных прощаний, просто подняться и уехать. Боюсь, друзья, которых я
оставил, сочли, что поступил я очень странно, невоспитанно и не
по-джентльменски, жалею, если огорчил их, но зря они усмотрели в моей
поспешности знак неуважения, знай они меня лучше, они бы так не подумали.
Секрет же в том, что мною иногда овладевают неудержимые порывы, которым я
вынужден подчиняться, иначе потом невыносимо страдаю от тоски и
разочарования. В такие минуты меня охватывает страшное нервное возбуждение,
которое придает мне редкостную энергию и решимость: я чувствую прилив
жизненных сил и весь горю энтузиазмом. Тогда в "Кларендоне" мне словно
кто-то приказал или внушил под гипнозом: _домой_! Объявление гласило:
_домой_, - и я поехал домой.
Странствие по югу превратилось в настоящее путешествие, подчас очень
опасное. Однажды между Фредериксбергом и Ричмондом два дюжих негра на крутом
откосе стопорили движение поезда, время от времени бросая бревна на рельсы,
потому что тормозов у паровоза не было. Если вам даже думать об этом
страшно, вообразите, что чувствовал я, когда сидел в вагоне и переживал все
это въяве - бр-р-р! Мы с Эйром порою останавливались в страшной глухомани и
очень гордились своей отвагой. Некоторые гостиницы были так наводнены
блохами - уж в этом-то я разбираюсь, - что мы боялись быть съеденными
заживо, а когда выходили погулять, не верилось, что окружающий пейзаж нам не
приснился: вокруг царили невероятные убожество и ветхость. Нас очень
сковывало и смущало, что мы так сильно отличаемся от местных жителей: хотя
мы с ними говорили на одном языке - если прибавить или убавить
гласную-другую - общение наше протекало так, словно то было тарабарское
наречие. Все негры из речных верховьев неспешно двигались по своим делам, и,
глядя на их чужие лица, совсем отличные от наших, я не мог себя не
спрашивать, грешно ли думать, что их толстые, приплюснутые физиономии
свидетельствуют о врожденном недостатке интеллекта? Само их лицезрение
ставило меня в тупик и наполняло чувствами, которых мне бы не хотелось
знать, поэтому я предпочитал глядеть на мальчишек, похожих на всех мальчишек
в мире, лишь более живых и подвижных, в отличие от их родителей. Мне
нравилось болтать и шутить с ними, должен сказать, что они были понятливы и
отвечали дружелюбно. Эйр, конечно, пытался отравить это невинное
удовольствие, пытаясь привлечь мое внимание к печальным созданиям с жалкими
узелками, которые ждали отправки на аукцион, но я предпочитал замечать
светлую сторону и вглядывался в играющих детей или в веселую улыбку
негритянки, торговки арахисом, которая в ответ на мой вопрос о здоровье
ответила: "Спасибо, дела идут на лад". Слишком легко видеть повсюду только
горе, и так во всем в жизни.
В этой части страны у меня было не так много лекций, как в городах, но
это и неудивительно. В промежутках мне хватало времени слоняться, сидеть на
солнышке, зевать, спать, есть, пить, курить - ритм жизни был тут такой
неспешный, что моего безделья, пожалуй, никто не замечал. Поначалу оно мне
нравилось, но вскоре наскучило, ничто меня не взбадривало: ни общество, ни
театры, ни клубы - делать особенно было нечего, осматривать тоже, и над всем
краем стояло марево лени, пропитавшей меня до мозга костей. Возможно, где-то
какие-то люди тяжко трудились, но я их не видел и не слышал и чувствовал,
что прирастаю к месту, в котором остановилось время. Все чаще и чаще я стал
возвращаться мыслями к дому и к близким, хотя меня манил Новый Орлеан, где,
как говорили, можно было ждать хороших сборов от изголодавшейся по
культурным развлечениям публики, но я стал уставать от юга и меня
останавливала мысль о неудобствах шестидневного пути. Я снова не знал, что
делать дальше. Пора было задуматься - и очень глубоко - не только о том,
куда ехать по Америке, но и о том, в какую сторону двигаться по жизни,
однако дремотный дух этих мест вызывал во мне лишь вялость и сонливость, и
если я о чем и думал, так это о том, что подадут к обеду. Конечно, я мечтал,
мечтал и ночью, и днем, но стыдно сказать, о чем были мои грезы, - они,
наверное, вас разочаруют. Разве я не предал прошлое забвению, разве не
исцелился, разве Америка не вернула мне жизнелюбие? Но что бы нас ни
разделяло, осталась память о добром старом времени, которое нельзя было
отринуть, и, несмотря на боль и горе, из него струились потоки прежней любви
и доброты. Что за загадки? - спрашиваете вы. Какие там загадки, я говорю о
Джейн. Однако то не были неотступные, страстные думы, терзавшие меня так
много лет подряд, но грустные, неясные, не лишенные приятности грезы, в
которых я глядел на нее издали и слал прощальный привет, исполненный печали.
Она прислала мне в Америку одну из своих чопорных, ненавистных мне записочек
- я ни за что ее не процитирую из страха, что вы станете смеяться, -
сообщала, что снова в положении, здорова и желает мне того же. Другие мои
корреспондентки, сестры Эллиот, тоже сообщили мне эту новость, добавив, что
Джейн еще страдает, но спокойна. Что ж, я тоже хранил спокойствие настолько,
что распорядился, чтоб в день, рождения ей от моего имени доставили две
лилии: для нее и для ее новорожденного младенца, - и все же в моей душе был
тайный уголок, который посвящен был ей одной. А Салли Бакстер? Ах, что за
глупости, это маленькое увлечение совсем улетучилось из моей памяти.
Я полагал, что поеду в Канаду и оттуда отправлюсь домой примерно в
июне, но пока я мешкал на юге, не желая расставаться с теплыми солнечными
лучами, пришло письмо, вернее, два письма, заставившие меня поторопиться и
ехать прямо в Нью-Йорк, откуда при желании я мог отправиться домой
немедленно. В письмах говорилось, что мой отчим тяжело болел, перенес что-то
вроде удара, но уже оправился и для тревоги нет причин. Вся эта грустная
история случилась несколько недель назад, сокрушаться было бесполезно,
принимать срочные меры - поздно, но, сидя на юге, на веранде, я читал письмо
и снова переживал с ними это ужасное время, делил их горе и хотел быть с
ними рядом. В конце концов, все обошлось, но все же меня охватила великая
тревога, и я изводил себя мыслью, что на месте моих девочек - будь я в
положении отчима, делать бы вообще ничего не пришлось - я впал бы в истерику
и не сумел от страха пальцем шевельнуть. За сколько дней можно доехать до
Нью-Йорка? Сколько недель ждут судна? Боже мой, это немыслимо, это ужасно, я
был не вправе задерживаться ни на минуту. Что ни говорите, а я подвел
матушку как раз тогда, когда она больше всего во мне нуждалась, - уж она-то,
видит бог, никогда меня не подводила, когда бывала мне нужна. Я принялся
думать о горе этой достойной женщины, и мое раздражение на ее безмерную
преданность отчиму сменилось чувством вины из-за того, что я не оценил как
должно любовь, их, несомненно, соединявшую. Мне следовало быть с ней рядом,
держать ее за руку, подставить ей плечо, на котором она могла бы
выплакаться; но когда я вообразил, что Анни, а может быть, и Минни пришлось
это делать вместо меня, я ощутил еще большую тревогу: что если они оказались
недостаточно крепкими и сломились под тяжестью испытания?
То был толчок, в котором я нуждался, - мы упаковали вещи и отправились
в Нью-Йорк с величайшей поспешностью. Как сильно отличался путь назад:
занятому своими думами путешественнику, которого тянет домой, ничто не
интересно, кроме стрелок часов и железнодорожных расписаний, и хотя я вовсе
не был уверен в том, что мне и в самом деле следует ехать домой и оставить
мысли о Канаде, я торопился попасть туда, где мог бы часто получать известия
из дому, и думал лишь об этом.
^T16^U
^TЯ возвращаюсь домой и снова впадаю в уныние^U
Как только я оказался в Нью-Йорке, где мог регулярно получать почту, я
настолько успокоился, что вновь всерьез стал размышлять: а не поехать ли мне
все-таки в Канаду? Это было очень близко, мне не пришлось бы возвращаться в
Нью-Йорк: из Монреаля в Ливерпуль ходили суда, - по крайней мере, я считал,
что ходили, - и отказаться от поездки значило упустить случай. Уже стоял
апрель, зима кончилась, лучше всего - думал я - вернуться домой к июню, чтоб
вывезти куда-нибудь семью и хорошенько отдохнуть. Пока я навещал старых
друзей" и носился по городу, все мои мысли бежали в этом направлении, но вот
что случилось дальше. Я сидел в "Кларендоне", в некоем подобии холла, где
американцы обычно читают газеты, когда в глаза мне бросилось объявление о
том, что сегодня утром отбывает пассажирский лайнер "Кунард", казалось, это
напечатали специально для меня. Я сразу понял, что непременно должен на него
попасть, хоть эта мысль была, вне всякого сомнения, нелепа. Словно
одержимый, я бросился к Эйру и велел ему паковаться, ибо хотел, чтоб мы
отправились сегодня же. Не дожидаясь его ответа, я выскочил на лестницу и
уже снова бежал по улице к билетной кассе на Уолл-стрит. Думаю, что меня там
приняли за сумасшедшего: - У вас есть два места на этот, как он называется,
лайнер, который сегодня отплывает? - Есть, сэр, но он вот-вот отчалит. -
Неважно, я их покупаю. - Вам надо быть на судне через двадцать минут, - и я
оттуда выскочил. Не знаю, как это Эйру удалось, но к минуте моего
возвращения наш багаж был собран, мы даже поднялись на борт заблаговременно.
Хотел бы я всегда так уезжать: без суеты, без нервотрепки, без
мучительных прощаний, просто подняться и уехать. Боюсь, друзья, которых я
оставил, сочли, что поступил я очень странно, невоспитанно и не
по-джентльменски, жалею, если огорчил их, но зря они усмотрели в моей
поспешности знак неуважения, знай они меня лучше, они бы так не подумали.
Секрет же в том, что мною иногда овладевают неудержимые порывы, которым я
вынужден подчиняться, иначе потом невыносимо страдаю от тоски и
разочарования. В такие минуты меня охватывает страшное нервное возбуждение,
которое придает мне редкостную энергию и решимость: я чувствую прилив
жизненных сил и весь горю энтузиазмом. Тогда в "Кларендоне" мне словно
кто-то приказал или внушил под гипнозом: _домой_! Объявление гласило:
_домой_, - и я поехал домой.
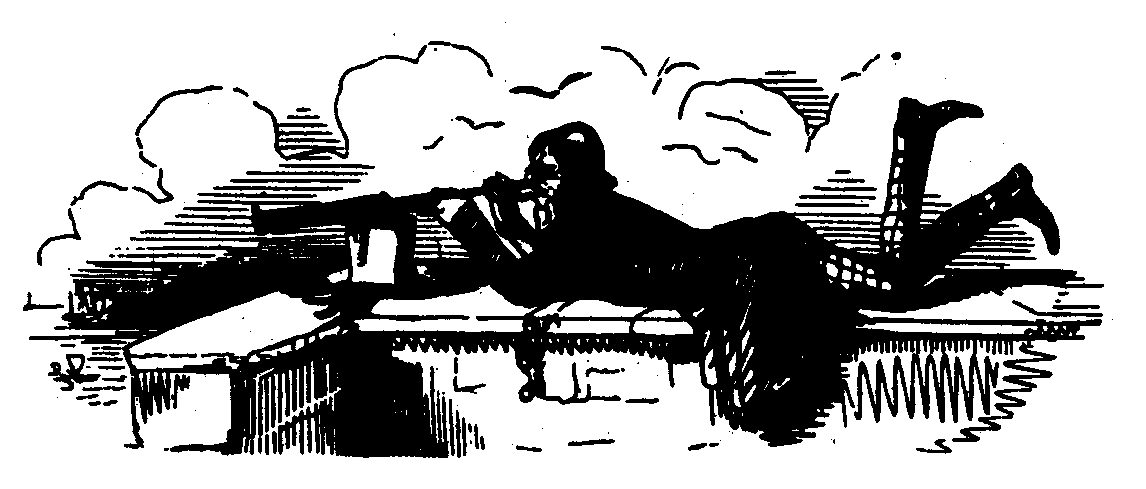 Естественно, что обстоятельства исключали прощания, но я ухитрился
набросать торопливую записочку тем, кого мой отъезд задевал всего больнее.
То были, конечно, Бакстеры, которых я просил не ставить мне в вину
внезапность моего отъезда и обещал вскоре вернуться. Верил ли я своим
словам? Вне всякого сомнения. Моя любовь к Америке была совершенно
искренней, я чувствовал к ней благодарность. Разве я не приехал сюда
измученным и подавленным и разве не покидал ее приязненные берега здоровым и
бодрым? Само мое здоровье доказывало пользу путешествия, замечательно, что
почти все время я чувствовал себя отлично. Меня больше не мучили приступы
болезни, донимавшей меня в Англии, я был на удивленье бодр. Как это
объяснить, ведь я все время поглощал немыслимые горы снеди - тамошние порции
неправдоподобно велики, - изрядно пил и часто менял климат? Не знаю и знать
не хочу, я радовался своему здоровью и не докапывался до его причин,
впрочем, порой мне приходило в голову, что здоров я оттого, что счастлив.
Наверное, теоретическое допущение, что дух способен править телом, не
выдерживает серьезной научной проверки, но не теряет от этого своей
привлекательности. Хотел бы я превратить его сейчас в закономерность: одним
усилием воли избавиться от всех терзающих меня болей и мук и снова стать
здоровым, хотел бы я, чтоб счастье жить в прелестном доме с дочками способно
было исцелить меня от всех недугов, но увы, не могу этим похвастать.
Старость зашла слишком далеко, чтоб чары возымели действие, мне остается
только смириться, не сетовать и благодарить судьбу за те способности,
которые не пострадали. Одна из них, моя память, за исключением немногих
досадных случаев, становится все лучше, и легкость, с которой я вспоминаю не
только места и события, но и владевшие мной некогда чувства и умонастроения,
почитаю за счастье. Как будто у меня есть доступ к какой-то огромной
сокровищнице, по которой я могу расхаживать в любую пору, заглядывая во
всякие чарующие тайники - все разноцветные и с драгоценными дарами. Все чаще
и чаще я вхожу туда, чтобы открыть еще одну дверь и насладиться созерцанием
часок-другой, но дом так необъятен, что мне не обойти его покоев, - всегда
найдется неизвестная светелка вверху потайной лестницы, которую я обнаружу
невзначай, зайду и буду там блаженствовать. Что сталось бы с нами,
стариками, без такого дома?
Мы с бедным, измученным Эйром не могли прийти в себя от изумления,
когда 20 апреля 1853 года поняли, что в самом деле находимся в открытом море
и держим путь к Европе. С добрым чувством простился я с Америкой,
скрывавшейся за горизонтом, не сомневаясь, что вернусь сюда вновь, как
только подготовлю следующий курс лекций, и заранее предвкушая этот
счастливый день, ибо теперь у меня были друзья и пристанище по эту сторону
Атлантики. Когда мы освоились с корабельным распорядком, я захотел многое
обдумать и с удовольствием систематизировал свои впечатления от только что
покинутой страны, да и в Лондоне, я знал, меня о них спросят. О большинстве
из них я вам рассказывал по ходу дела, но, кажется, забыл вам доложить - уж
эта мне скромность! - о своей собственной великой популярности. Последняя
весьма расположила меня к американцам, равно как их наивная, бесхитростная
манера всячески ее подчеркивать. Я нахожу, что англичане не умеют так
носиться со знаменитостями, как обитатели Америки, которая, в отличие от
нас, испытывает голод на общественные фигуры; я вовсе не хочу этим сказать,
что в Англии не чтят, не чествуют и не обожествляют великих людей, конечно,
чтят, и чествуют, и поклоняются, но совсем иначе, чем за океаном. Я,
разумеется, не был так ослеплен своим успехом, чтобы хоть на минуту забыть
истинные размеры своей личности и вообразить себя Великим Человеком, но
американцы сделали это за меня. Я думаю, они способны, коль скоро им того
захочется, превратить в знаменитость каждого, буде он предоставит им для
начала строчку-другую печатного текста. Эта их восторженность со всеми
вытекающими последствиями помогла мне сделать интересное открытие, над
которым я долго размышлял по пути домой; я понял, что большая популярность
вовсе не так приятна, как мне прежде думалось. Если вы помните, именно
известности и успеха я жаждал когда-то всей душой, но Америка открыла мне
глаза на то, к чему они ведут, когда, в конце концов, приходят. В
известности есть страшное однообразие - все люди так похожи в своих чувствах
и словах, и вам так быстро это приедается, так трудно изображать интерес к
тому, что стало для вас обыденным. Позировать, разыгрывая льва, очень
утомительно, и я, лишенный уединения и отдыха, быстро устал от всего этого.
Судите сами, полезно ли мне было осознать это в преддверии того близкого
дня, когда за здоровье Титмарша будет подымать тосты вся Европа?
Естественно, что обстоятельства исключали прощания, но я ухитрился
набросать торопливую записочку тем, кого мой отъезд задевал всего больнее.
То были, конечно, Бакстеры, которых я просил не ставить мне в вину
внезапность моего отъезда и обещал вскоре вернуться. Верил ли я своим
словам? Вне всякого сомнения. Моя любовь к Америке была совершенно
искренней, я чувствовал к ней благодарность. Разве я не приехал сюда
измученным и подавленным и разве не покидал ее приязненные берега здоровым и
бодрым? Само мое здоровье доказывало пользу путешествия, замечательно, что
почти все время я чувствовал себя отлично. Меня больше не мучили приступы
болезни, донимавшей меня в Англии, я был на удивленье бодр. Как это
объяснить, ведь я все время поглощал немыслимые горы снеди - тамошние порции
неправдоподобно велики, - изрядно пил и часто менял климат? Не знаю и знать
не хочу, я радовался своему здоровью и не докапывался до его причин,
впрочем, порой мне приходило в голову, что здоров я оттого, что счастлив.
Наверное, теоретическое допущение, что дух способен править телом, не
выдерживает серьезной научной проверки, но не теряет от этого своей
привлекательности. Хотел бы я превратить его сейчас в закономерность: одним
усилием воли избавиться от всех терзающих меня болей и мук и снова стать
здоровым, хотел бы я, чтоб счастье жить в прелестном доме с дочками способно
было исцелить меня от всех недугов, но увы, не могу этим похвастать.
Старость зашла слишком далеко, чтоб чары возымели действие, мне остается
только смириться, не сетовать и благодарить судьбу за те способности,
которые не пострадали. Одна из них, моя память, за исключением немногих
досадных случаев, становится все лучше, и легкость, с которой я вспоминаю не
только места и события, но и владевшие мной некогда чувства и умонастроения,
почитаю за счастье. Как будто у меня есть доступ к какой-то огромной
сокровищнице, по которой я могу расхаживать в любую пору, заглядывая во
всякие чарующие тайники - все разноцветные и с драгоценными дарами. Все чаще
и чаще я вхожу туда, чтобы открыть еще одну дверь и насладиться созерцанием
часок-другой, но дом так необъятен, что мне не обойти его покоев, - всегда
найдется неизвестная светелка вверху потайной лестницы, которую я обнаружу
невзначай, зайду и буду там блаженствовать. Что сталось бы с нами,
стариками, без такого дома?
Мы с бедным, измученным Эйром не могли прийти в себя от изумления,
когда 20 апреля 1853 года поняли, что в самом деле находимся в открытом море
и держим путь к Европе. С добрым чувством простился я с Америкой,
скрывавшейся за горизонтом, не сомневаясь, что вернусь сюда вновь, как
только подготовлю следующий курс лекций, и заранее предвкушая этот
счастливый день, ибо теперь у меня были друзья и пристанище по эту сторону
Атлантики. Когда мы освоились с корабельным распорядком, я захотел многое
обдумать и с удовольствием систематизировал свои впечатления от только что
покинутой страны, да и в Лондоне, я знал, меня о них спросят. О большинстве
из них я вам рассказывал по ходу дела, но, кажется, забыл вам доложить - уж
эта мне скромность! - о своей собственной великой популярности. Последняя
весьма расположила меня к американцам, равно как их наивная, бесхитростная
манера всячески ее подчеркивать. Я нахожу, что англичане не умеют так
носиться со знаменитостями, как обитатели Америки, которая, в отличие от
нас, испытывает голод на общественные фигуры; я вовсе не хочу этим сказать,
что в Англии не чтят, не чествуют и не обожествляют великих людей, конечно,
чтят, и чествуют, и поклоняются, но совсем иначе, чем за океаном. Я,
разумеется, не был так ослеплен своим успехом, чтобы хоть на минуту забыть
истинные размеры своей личности и вообразить себя Великим Человеком, но
американцы сделали это за меня. Я думаю, они способны, коль скоро им того
захочется, превратить в знаменитость каждого, буде он предоставит им для
начала строчку-другую печатного текста. Эта их восторженность со всеми
вытекающими последствиями помогла мне сделать интересное открытие, над
которым я долго размышлял по пути домой; я понял, что большая популярность
вовсе не так приятна, как мне прежде думалось. Если вы помните, именно
известности и успеха я жаждал когда-то всей душой, но Америка открыла мне
глаза на то, к чему они ведут, когда, в конце концов, приходят. В
известности есть страшное однообразие - все люди так похожи в своих чувствах
и словах, и вам так быстро это приедается, так трудно изображать интерес к
тому, что стало для вас обыденным. Позировать, разыгрывая льва, очень
утомительно, и я, лишенный уединения и отдыха, быстро устал от всего этого.
Судите сами, полезно ли мне было осознать это в преддверии того близкого
дня, когда за здоровье Титмарша будет подымать тосты вся Европа?
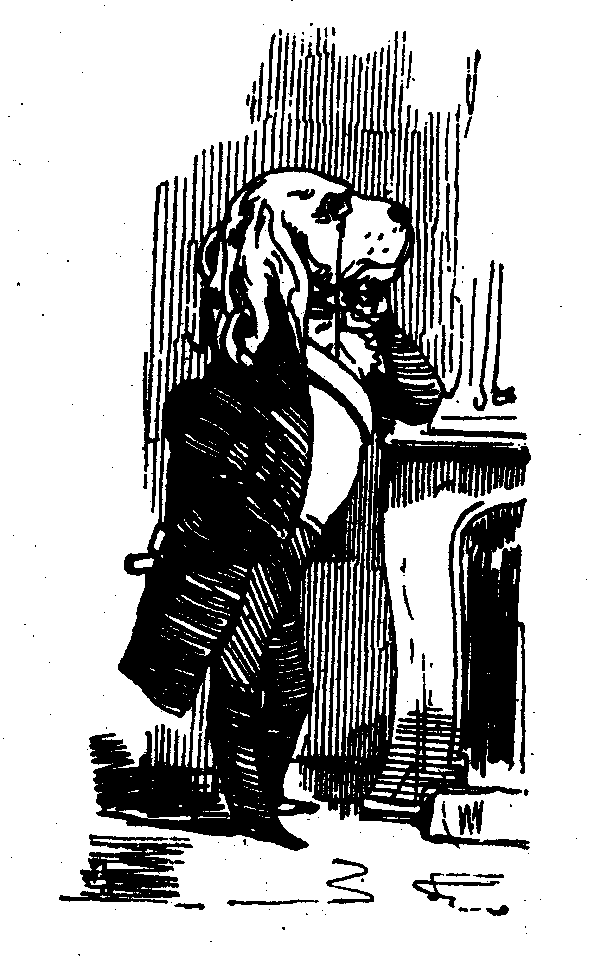 Эта тема подводит меня - пожалуй, слишком прямо - к другой, больше
всего меня мучившей с тех пор, как мы поплыли на огромной скорости домой: за
что приняться дальше? Писательство - особое занятие, это не то, что право,
где требуется подобрать в конторе папку очередного дела, или политика, где
собирают голоса для следующих выборов, ничто в нем не напоминает бизнес, где
вещи покупаются и продаются, или медицину, где врач обходит больницу и
назначает операцию тем, кто в ней нуждается, не похоже оно и на обязанности
священника, который следует порядку служб и проповедей, - оно вообще ни на
что не похоже. Писатель должен решить, о чем ему писать, и это никак не
связано с его желанием писать. Последнее бесплодно, пока его не выручает
тема. Не говорите мне, что я объездил всю Америку и, надо думать, накопил
немало наблюдений для романа, да, верно, я ее объездил, но романы так не
пишутся. Сначала нужно изобрести сюжет (всегда самая хлопотная часть дела) и
героев, только тогда мне может пригодиться мой американский опыт. Но
хотелось ли мне писать роман? Не провалился ли "Эсмонд" из-за плохих
рецензий в "Тайме", было ли время благоприятно для нового сочинения
Теккерея? Со времени успеха "Ярмарки тщеславия" прошло много лет,
"Пенденниса" встретили прохладно, "Эсмонда" холодно - о боже, мое
писательское имя гибло, а рядом Диккенс все время упрочивал свое. Я был не
столько подавлен, сколько страшился того, что утерял свой дар рассказчика,
как тогда быть? Вряд ли мне достанет сил сесть и сплести интригу, когда
ничто нейдет само на ум. Что оставалось на долю усталой, загнанной клячи?
Тревога не отпускала меня ни на миг, я видел себя дома: день за днем я
сижу в кабинете, уставившись на чистые страницы, - картина приводила меня в
ужас. Конечно, можно было" тотчас приступить к новому курсу лекций, но,
выполнив недавно такой большой подряд на Лекции, я не испытывал к ним
влечения. К тому же, оставаясь моей важнейшей заботой, деньги больше не
держали меня в страхе, в банке лежало достаточно, чтоб обеспечить жену и
девочек на случай, если меня не станет, правда до 10 000 фунтов на каждую я
не дотянул, но нужда и без того им не грозила. Мне, несомненно, предстоит
подписывать контракты на романы - я не способен отказаться от предложений
издателей (на мой взгляд, это и неразумно, и эгоистично), но не из-за денег
- с тех пор, как я вернулся из Америки, они перестали быть для меня главным
соображением, - а по другой причине. Пожалуй, из-за честолюбия, видно, я
всегда был честолюбивее, чем соглашался сказать даже самому себе:
признаться, что я отчаянно стремлюсь к тому, чего мне не дано, - писать
первоклассные книги, казалось унизительно. Как мне было трудно тогда,
терзаясь страхом и неверием в свои силы, преодолеть себя и взяться за
работу, и все же сдерживаться и выжидать, пока меня посетит еще одна
блестящая идея, было бы еще трудней. Задним числом легко говорить, что
следовало на год-другой оставить землю под паром, чтоб к ней вернулось
плодородие. Я поступил иначе, решил писать, что напишется, в надежде, что
благодаря упорному труду добьюсь успеха. Возвращаясь из Америки, я знал:
если мне закажут роман, я вынужден буду согласиться, даже не имея за душой
увлекательного замысла, и было грустно, что именно так все и получается.
Угнетали меня и иные обстоятельства, о которых, надеюсь, никто не
догадывался. Вот я громко провозглашаю вместе с другими пассажирами, что
невыносимо истосковался по дому и рад, что приближаюсь к Англии, но в душе я
все время себя спрашивал, о ком истосковался и куда рад возвратиться.
Конечно, к девочкам и к матушке, в том сомнений не было, в свой маленький
домик в Кенсингтоне, который я, по правде говоря, подумывал сменить на
что-нибудь получше. О, как это будет восхитительно, когда две пары нежных
юных ручек обовьются вокруг моей шеи, два улыбающихся личика прижмутся к
моему лицу, две милые сороки наполнят мои уши всяким вздором, да, это будет
восхитительно, и я всплакну, начну сморкаться, но тотчас засмеюсь, решу, что
самое большое счастье в мире иметь таких детей, взгляну на матушку, чья
нежная улыбка пленит меня, как всех и каждого, почувствую, как щемит сердце
при виде новых знаков бренности, которые я замечаю после очередной разлуки,
и снова дам волю слезам. Сентиментально, правда? Мое возвращение,
действительно, было сентиментально, и я это предвкушал. Я рад был
возобновить прежние знакомства, проведать старые места, кивая и улыбаясь в
знак приветствия, вернуться, в привычную колею, но всего этого было
недостаточно, нет, недостаточно, в душе я подозревал, что томлюсь о доме,
которого не существует, спешу навстречу пустоте, которую нельзя заполнить,
со страхом я воображал, что меня ждет впереди. Беда заключалась в том, - и я
знал это, - что я томился о женской ласке, которой в моей жизни не было. Я
страстно хотел вернуться домой к... пустому очагу. Мне предстояло увидеть
Джейн мельком, в обществе Уильяма, с еще одним его ребенком на коленях. Так
ли возвращаются домой? Этого было довольно, чтобы снова ввергнуть меня в
глубокую тоску, я заметил, что начинаю говорить вслух, когда об этом думаю,
а думалось мне часто: хотелось верить, что им достанет благопристойности
удалиться в деревню и не показываться в Лондоне после моего приезда.
Эта тема подводит меня - пожалуй, слишком прямо - к другой, больше
всего меня мучившей с тех пор, как мы поплыли на огромной скорости домой: за
что приняться дальше? Писательство - особое занятие, это не то, что право,
где требуется подобрать в конторе папку очередного дела, или политика, где
собирают голоса для следующих выборов, ничто в нем не напоминает бизнес, где
вещи покупаются и продаются, или медицину, где врач обходит больницу и
назначает операцию тем, кто в ней нуждается, не похоже оно и на обязанности
священника, который следует порядку служб и проповедей, - оно вообще ни на
что не похоже. Писатель должен решить, о чем ему писать, и это никак не
связано с его желанием писать. Последнее бесплодно, пока его не выручает
тема. Не говорите мне, что я объездил всю Америку и, надо думать, накопил
немало наблюдений для романа, да, верно, я ее объездил, но романы так не
пишутся. Сначала нужно изобрести сюжет (всегда самая хлопотная часть дела) и
героев, только тогда мне может пригодиться мой американский опыт. Но
хотелось ли мне писать роман? Не провалился ли "Эсмонд" из-за плохих
рецензий в "Тайме", было ли время благоприятно для нового сочинения
Теккерея? Со времени успеха "Ярмарки тщеславия" прошло много лет,
"Пенденниса" встретили прохладно, "Эсмонда" холодно - о боже, мое
писательское имя гибло, а рядом Диккенс все время упрочивал свое. Я был не
столько подавлен, сколько страшился того, что утерял свой дар рассказчика,
как тогда быть? Вряд ли мне достанет сил сесть и сплести интригу, когда
ничто нейдет само на ум. Что оставалось на долю усталой, загнанной клячи?
Тревога не отпускала меня ни на миг, я видел себя дома: день за днем я
сижу в кабинете, уставившись на чистые страницы, - картина приводила меня в
ужас. Конечно, можно было" тотчас приступить к новому курсу лекций, но,
выполнив недавно такой большой подряд на Лекции, я не испытывал к ним
влечения. К тому же, оставаясь моей важнейшей заботой, деньги больше не
держали меня в страхе, в банке лежало достаточно, чтоб обеспечить жену и
девочек на случай, если меня не станет, правда до 10 000 фунтов на каждую я
не дотянул, но нужда и без того им не грозила. Мне, несомненно, предстоит
подписывать контракты на романы - я не способен отказаться от предложений
издателей (на мой взгляд, это и неразумно, и эгоистично), но не из-за денег
- с тех пор, как я вернулся из Америки, они перестали быть для меня главным
соображением, - а по другой причине. Пожалуй, из-за честолюбия, видно, я
всегда был честолюбивее, чем соглашался сказать даже самому себе:
признаться, что я отчаянно стремлюсь к тому, чего мне не дано, - писать
первоклассные книги, казалось унизительно. Как мне было трудно тогда,
терзаясь страхом и неверием в свои силы, преодолеть себя и взяться за
работу, и все же сдерживаться и выжидать, пока меня посетит еще одна
блестящая идея, было бы еще трудней. Задним числом легко говорить, что
следовало на год-другой оставить землю под паром, чтоб к ней вернулось
плодородие. Я поступил иначе, решил писать, что напишется, в надежде, что
благодаря упорному труду добьюсь успеха. Возвращаясь из Америки, я знал:
если мне закажут роман, я вынужден буду согласиться, даже не имея за душой
увлекательного замысла, и было грустно, что именно так все и получается.
Угнетали меня и иные обстоятельства, о которых, надеюсь, никто не
догадывался. Вот я громко провозглашаю вместе с другими пассажирами, что
невыносимо истосковался по дому и рад, что приближаюсь к Англии, но в душе я
все время себя спрашивал, о ком истосковался и куда рад возвратиться.
Конечно, к девочкам и к матушке, в том сомнений не было, в свой маленький
домик в Кенсингтоне, который я, по правде говоря, подумывал сменить на
что-нибудь получше. О, как это будет восхитительно, когда две пары нежных
юных ручек обовьются вокруг моей шеи, два улыбающихся личика прижмутся к
моему лицу, две милые сороки наполнят мои уши всяким вздором, да, это будет
восхитительно, и я всплакну, начну сморкаться, но тотчас засмеюсь, решу, что
самое большое счастье в мире иметь таких детей, взгляну на матушку, чья
нежная улыбка пленит меня, как всех и каждого, почувствую, как щемит сердце
при виде новых знаков бренности, которые я замечаю после очередной разлуки,
и снова дам волю слезам. Сентиментально, правда? Мое возвращение,
действительно, было сентиментально, и я это предвкушал. Я рад был
возобновить прежние знакомства, проведать старые места, кивая и улыбаясь в
знак приветствия, вернуться, в привычную колею, но всего этого было
недостаточно, нет, недостаточно, в душе я подозревал, что томлюсь о доме,
которого не существует, спешу навстречу пустоте, которую нельзя заполнить,
со страхом я воображал, что меня ждет впереди. Беда заключалась в том, - и я
знал это, - что я томился о женской ласке, которой в моей жизни не было. Я
страстно хотел вернуться домой к... пустому очагу. Мне предстояло увидеть
Джейн мельком, в обществе Уильяма, с еще одним его ребенком на коленях. Так
ли возвращаются домой? Этого было довольно, чтобы снова ввергнуть меня в
глубокую тоску, я заметил, что начинаю говорить вслух, когда об этом думаю,
а думалось мне часто: хотелось верить, что им достанет благопристойности
удалиться в деревню и не показываться в Лондоне после моего приезда.
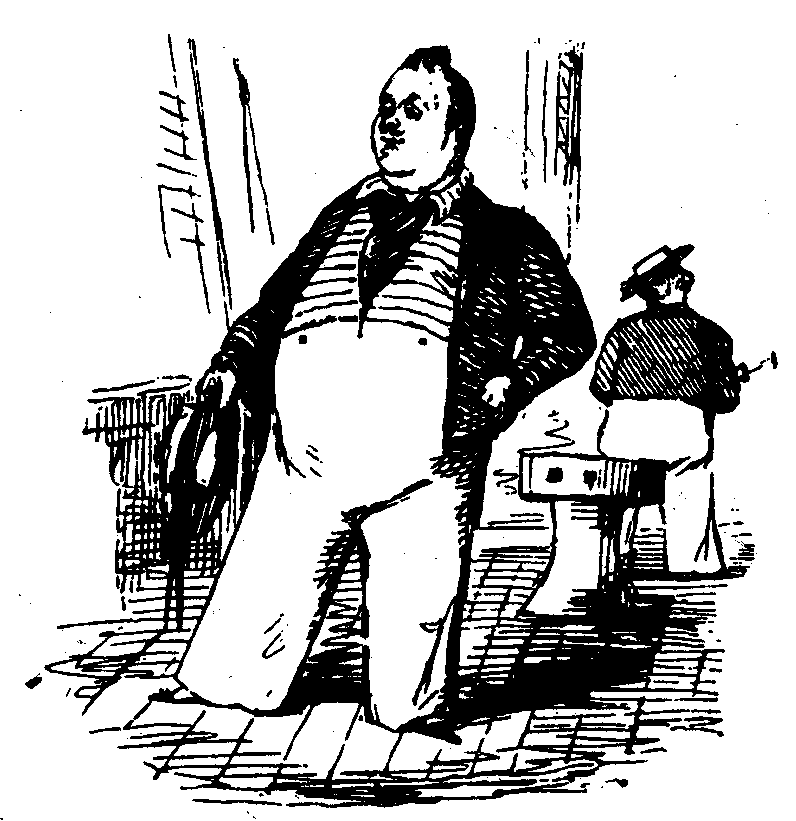 Вам, наверное, кажется, будто я только и делал по пути домой, что думал
о неприятном, вовсе нет. Лишь когда я опирался на поручни, подставляя лицо
солнцу и ветру, - погода нам благоприятствовала, - меня пронзала мысль о
том, что меня ожидает дома, или же по ночам, когда я засыпал. В остальное
время я был бодр, как и все прочие, так же возбужден сознанием, что
приближаюсь к Англии. Возвращение на родину и в самом деле возбуждает: вы
напряженно вглядываетесь в горизонт, чтобы заметить первый признак суши, и,
глупо улыбаясь, долгими часами смотрите на воду. Как хорошо ни в чем не
сомневаться, все узнавать с первого взгляда, не задаваться вопросом, что
делать и куда пойти, знать как свои пять пальцев каждую повадку, каждое
словцо своих соотечественников, примечать мелкие новшества, которые значат
только то, что в целом ничего не изменилось, все принимать как есть, словно
расположившись в старом кресле. Я знал, что с той минуты, как сойду на
берег, все обо мне забудут, никто меня не спросит, что я думаю об Англии, и
не потащит в сторону, чтоб десять миллионов раз пожать руку, - я скроюсь в
темноте, из которой ненадолго вынырнул и, предвкушая это, я вздыхал с
безмерным облегчением.
Вам, наверное, кажется, будто я только и делал по пути домой, что думал
о неприятном, вовсе нет. Лишь когда я опирался на поручни, подставляя лицо
солнцу и ветру, - погода нам благоприятствовала, - меня пронзала мысль о
том, что меня ожидает дома, или же по ночам, когда я засыпал. В остальное
время я был бодр, как и все прочие, так же возбужден сознанием, что
приближаюсь к Англии. Возвращение на родину и в самом деле возбуждает: вы
напряженно вглядываетесь в горизонт, чтобы заметить первый признак суши, и,
глупо улыбаясь, долгими часами смотрите на воду. Как хорошо ни в чем не
сомневаться, все узнавать с первого взгляда, не задаваться вопросом, что
делать и куда пойти, знать как свои пять пальцев каждую повадку, каждое
словцо своих соотечественников, примечать мелкие новшества, которые значат
только то, что в целом ничего не изменилось, все принимать как есть, словно
расположившись в старом кресле. Я знал, что с той минуты, как сойду на
берег, все обо мне забудут, никто меня не спросит, что я думаю об Англии, и
не потащит в сторону, чтоб десять миллионов раз пожать руку, - я скроюсь в
темноте, из которой ненадолго вынырнул и, предвкушая это, я вздыхал с
безмерным облегчением.
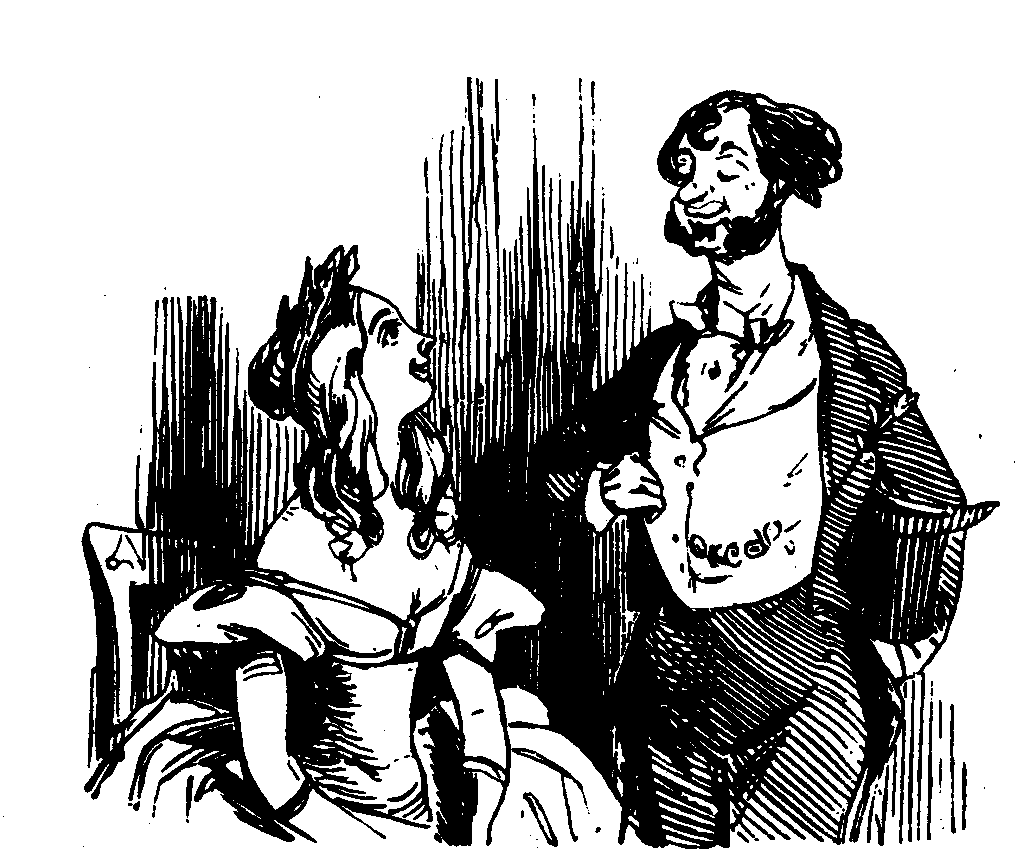 Никто не ждал меня на пристани, к чему я был готов, и, пробираясь между
кучками трогательно обнимавшихся людей, напоминал себе, что мое настоящее
возвращение еще не наступило, - ведь девочки были в Париже, и ручек,
обвившихся вокруг моей шеи, которые я так красноречиво описал, нужно
подождать. Ничто, однако, не могло меня обескуражить, и прямо из Ливерпуля я
поспешил на бал к леди Стенли, где мое появление вызвало бурю восторга.
Постойте, не я ли утверждал, что жажду остаться незамеченным, и вот,
пожалуйста, я делаю все возможное, чтоб оказаться в центре внимания, нелепо,
правда? Но если бы вы переступили вместе со мной порог улицы Янг, если бы вы
побывали в этом ужасно безлюдном, запертом доме, вы поняли бы, почему мне
захотелось веселья, общества и радостных приветствий. Я просто был не в
силах поставить чемоданы в холле, отправиться наверх и там расположиться, а
если вам непонятно, по какой причине, значит, вам не случалось открывать
дверь дома, простоявшего полгода на запоре и издающего особый затхлый запах
пыли, закупоренных окон и безмолвия. Возможно, я несколько преувеличиваю, и
дом, наверное, был в порядке, но я нисколько не преувеличиваю трепета,
пробежавшего по Моей спине от тишины. Любимые не вслушивались в звук моих
шагов, никто не закричал от радости при виде меня - не слышно было ничего,
только скрип моих башмаков на лестнице, мой кашель - я задохнулся спертым
воздухом - и удары моего сердца, стучавшего с невероятной силой. Поэтому я
навострил лыжи и обратился в бегство; проведав после небольшого сыска про
бал у леди Стенли, я поспешил туда, где, как я знал, удачно застану всех
своих друзей в сборе.
Недавно я видел человека в "Гаррик-клубе", заурядного, скучного малого,
который объявил, что на днях вернулся из Америки, и тотчас возникло общее
движение, вокруг него мгновенно выросла толпа, градом посыпались вопросы,
так что он весь побагровел от натуги и едва мог выдавить свои банальности.
Признаюсь, эта сцена потрясла меня; не возбудил ли я подобное же
любопытство, возвратившись из Америки десять лет назад, и не кажется ли вам,
что десять лет - серьезный срок и новизна за это время могла бы несколько
поистереться? Я задаюсь вопросом, станет ли когда-нибудь посещение Америки
таким же привычным и бездумным делом, как поездка в Брайтон. У меня нет
никаких тому свидетельств, но допускаю, что когда-нибудь картина будет
выглядеть примерно так: некто нам скажет, что возвратился из Америки, а мы в
ответ зевнем, заметим "вот как!" и снова уткнемся в свои газеты, удивляясь
про себя, какого дьявола нас оторвали, чтобы сообщить такую скучную, ничем
не примечательную новость. И если вы к этому всему давно уже привыкли, мой
читатель, вам трудно будет поверить, что лучшее общество Лондона столпилось
вокруг меня, горя желанием услышать, что я думаю о континенте, который
только что покинул. Я, можно сказать, кормился своими впечатлениями - изо
дня в день ездил на званые обеды и растолстел не столько от еды, сколько от
собственных раздутых описаний. В Америке меня измучили вопросом, как она мне
нравится, но дома этот же вопрос я встречал с огромным удовольствием и
великой радостью. Нет, я не возражал, когда мне его задавали, я возражал,
когда его не задавали, более того, почитал себя глубоко задетым и
положительно жаждал иметь аудиторию для небольшой лекции на вышеозначенную
тему. Думаю, удовольствие отчасти объяснялось возможностью шокировать
публику: все ожидали, что я питаю неприязнь к Америке, и стоило мне дать
понять, что я не только не испытываю ничего похожего, но в чем-то даже отдаю
ей предпочтение, как слушатели бывали огорошены. Когда по невежеству или из
предвзятости мои собеседники отпускали какое-нибудь уничижительное замечание
об Америке и американцах, я только что не доходил до откровенной грубости, и
это было неразумно, ибо в подобном случае достало бы и мягкого упрека. Я
стал главным поборником американских нравов и обычаев, должно быть, моим
слушателям частенько хотелось посоветовать мне сложить вещички и махнуть
туда снова, раз мне все там нравится. Думаю, что, как это часто бывает, я
перегибал палку в другую сторону, но такова уж человеческая природа, и
незаметно для себя я начал оскорблять чужие чувства, настаивая на
превосходстве всего американского. О, говорил я на каком-нибудь большом
балу, разве это бал - вот если бы вы видели американские наряды (по правде
говоря, я их считал безвкусными); разве это угощение - вот если бы вы видели
американскую снедь, - и так далее и тому подобное. Не странно ли, что не
сыскалось патриота, который расквасил бы мой перебитый нос? Впрочем, я и сам
готов был надавать затрещин, ибо нет ничего несноснее чем
разглагольствования невежд, которые ничего не знают, не имеют никакого опыта
в обсуждаемом вопросе, но выступают, словно знатоки. И если я был неумерен в
своей преданности Америке, то только потому, что меня на это подбивали
несправедливые нападки тех, кто полагал, что насмехаться модно.
Радость возвращения и благодарность за удачную поездку оказалась
недолгой. Некоторое время я демонстративно не переводил часы, поставленные
по нью-йоркскому времени, и ощущал невыносимую тоску, когда смотрел на
солнце, ежевечерне заходившее на западе, и думал о местах, где оно сейчас
еще светит. Стоило мне очутиться дома, и Америка мне показалась безупречной,
я забыл все раздражавшие меня порой мелочи. К тому же, не был ли я там
всегда здоров и не сразила ли меня, лишь только я вернулся, зверская зубная
боль? Можете смеяться и говорить: "и что за беда - зубная боль?" - мой зуб,
вернее, три болевших зуба доставили мне самые ужасные страдания, какие я
испытал во всю свою жизнь. От боли - мучительной, сверлящей - горела голова,
хотелось кричать в голос, но я не мог издать ни звука, потому что мой рот
был забит креозотом. Какую картину я являл собой! Я лежал в этом унылом,
мертвом доме, стонал, охал, мечтал перенестись в Америку и убеждал себя, что
надо пойти к зубному врачу. Я не люблю зубных врачей - всех и всяческих. На
мой взгляд, зубоврачебному искусству, как и всему прочему искусству
врачевания, предстоит еще многому научиться, и потому предпочитаю держаться
в стороне от медиков, но ясно было, что в данном случае мне это не удастся.
Боль не утихала, я не мог ни есть, ни спать, ни появляться в приличном
обществе. Каким я ни был трусом, пришла пора взглянуть в лицо неизбежному,
и, хлопнув большой стакан... неважно чего для поддержания духа, я отправился
к мистеру Гилберту на улицу Суффолк. Я сильно подозревал, что при виде этих
кошмарных стальных клещей, или как они там называются, мне тотчас
припомнится срочное свидание и я опрометью выскочу на улицу, а если даже и
не выскочу, то при первом же прикосновении металла зареву как бык, врач
ничего не сможет сделать, и в зубоврачебном мире - а есть ли такой мир? что
за смешная мысль! - меня ославят трусом. Однако на сей раз я, пожалуй,
остался собой доволен: решительно, как полагается мужчине, сел в кресло,
открыл рот, сделал глубокий вдох, и через пять страшных минут - за это время
я не раз бледнел и морщился - все было кончено. Какое чудо! - боль прошла
немедленно, на свете нет ничего лучше! Не это ли одно из самых дивных
ощущений? И разве мы потом не спрашиваем себя с удивлением, отчего мы
колебались, если знали заранее, что именно так все и произойдет? Возможно,
будь я способен вынести мысль о скальпеле хирурга, как вынес, в конце
концов, щипцы дантиста, я испытал бы не меньшее облегчение, но дело в том,
что боль во внутренностях терзает меня не всегда, и стоит ей утихнуть, как я
говорю себе, что она больше не повторится и незачем спешить под нож.
Как бы то ни было, три черных, источавших боль чудовища были извлечены
у меня изо рта, и я почувствовал себя намного лучше, правда, осталась дырка,
казавшаяся глубокой и бездонной, словно океан, и я непрестанно трогал ее
языком. Зубы - ужасная докука, по-моему, природа очень неудобно их
придумала, но стоит их лишиться, как нам их очень не хватает. Из-за этой
малоприятной процедуры отложилась моя долгожданная встреча с семьей в
Париже, однако я задержался лишь настолько, сколько потребовалось, чтоб
убедиться, что боль не повторится, и поспешил во Францию. В ту пору матушка
жила на Ангулем, 19, красивой улице в приятном оживленном месте, - помню,
как, стоя на ступеньках ее дома и дергая звонок, я думал, что тут веселее
Кенсингтона и что неплохо было бы и мне сюда перебраться. Может, и неплохо,
кто это знал? Во всяком случае, не я, я понятия не имел, куда ветер дует, и
с интересом ждал, когда это выяснится. Наверное, стоя на ступеньках
матушкиного дома, я глупо улыбался, взволнованный, трепещущий и больше
похожий на возвратившегося любовника, чем на отца: сердце мое стучало часто,
а от необъяснимого возбуждения по спине пробегали мурашки восторга.
Никто не ждал меня на пристани, к чему я был готов, и, пробираясь между
кучками трогательно обнимавшихся людей, напоминал себе, что мое настоящее
возвращение еще не наступило, - ведь девочки были в Париже, и ручек,
обвившихся вокруг моей шеи, которые я так красноречиво описал, нужно
подождать. Ничто, однако, не могло меня обескуражить, и прямо из Ливерпуля я
поспешил на бал к леди Стенли, где мое появление вызвало бурю восторга.
Постойте, не я ли утверждал, что жажду остаться незамеченным, и вот,
пожалуйста, я делаю все возможное, чтоб оказаться в центре внимания, нелепо,
правда? Но если бы вы переступили вместе со мной порог улицы Янг, если бы вы
побывали в этом ужасно безлюдном, запертом доме, вы поняли бы, почему мне
захотелось веселья, общества и радостных приветствий. Я просто был не в
силах поставить чемоданы в холле, отправиться наверх и там расположиться, а
если вам непонятно, по какой причине, значит, вам не случалось открывать
дверь дома, простоявшего полгода на запоре и издающего особый затхлый запах
пыли, закупоренных окон и безмолвия. Возможно, я несколько преувеличиваю, и
дом, наверное, был в порядке, но я нисколько не преувеличиваю трепета,
пробежавшего по Моей спине от тишины. Любимые не вслушивались в звук моих
шагов, никто не закричал от радости при виде меня - не слышно было ничего,
только скрип моих башмаков на лестнице, мой кашель - я задохнулся спертым
воздухом - и удары моего сердца, стучавшего с невероятной силой. Поэтому я
навострил лыжи и обратился в бегство; проведав после небольшого сыска про
бал у леди Стенли, я поспешил туда, где, как я знал, удачно застану всех
своих друзей в сборе.
Недавно я видел человека в "Гаррик-клубе", заурядного, скучного малого,
который объявил, что на днях вернулся из Америки, и тотчас возникло общее
движение, вокруг него мгновенно выросла толпа, градом посыпались вопросы,
так что он весь побагровел от натуги и едва мог выдавить свои банальности.
Признаюсь, эта сцена потрясла меня; не возбудил ли я подобное же
любопытство, возвратившись из Америки десять лет назад, и не кажется ли вам,
что десять лет - серьезный срок и новизна за это время могла бы несколько
поистереться? Я задаюсь вопросом, станет ли когда-нибудь посещение Америки
таким же привычным и бездумным делом, как поездка в Брайтон. У меня нет
никаких тому свидетельств, но допускаю, что когда-нибудь картина будет
выглядеть примерно так: некто нам скажет, что возвратился из Америки, а мы в
ответ зевнем, заметим "вот как!" и снова уткнемся в свои газеты, удивляясь
про себя, какого дьявола нас оторвали, чтобы сообщить такую скучную, ничем
не примечательную новость. И если вы к этому всему давно уже привыкли, мой
читатель, вам трудно будет поверить, что лучшее общество Лондона столпилось
вокруг меня, горя желанием услышать, что я думаю о континенте, который
только что покинул. Я, можно сказать, кормился своими впечатлениями - изо
дня в день ездил на званые обеды и растолстел не столько от еды, сколько от
собственных раздутых описаний. В Америке меня измучили вопросом, как она мне
нравится, но дома этот же вопрос я встречал с огромным удовольствием и
великой радостью. Нет, я не возражал, когда мне его задавали, я возражал,
когда его не задавали, более того, почитал себя глубоко задетым и
положительно жаждал иметь аудиторию для небольшой лекции на вышеозначенную
тему. Думаю, удовольствие отчасти объяснялось возможностью шокировать
публику: все ожидали, что я питаю неприязнь к Америке, и стоило мне дать
понять, что я не только не испытываю ничего похожего, но в чем-то даже отдаю
ей предпочтение, как слушатели бывали огорошены. Когда по невежеству или из
предвзятости мои собеседники отпускали какое-нибудь уничижительное замечание
об Америке и американцах, я только что не доходил до откровенной грубости, и
это было неразумно, ибо в подобном случае достало бы и мягкого упрека. Я
стал главным поборником американских нравов и обычаев, должно быть, моим
слушателям частенько хотелось посоветовать мне сложить вещички и махнуть
туда снова, раз мне все там нравится. Думаю, что, как это часто бывает, я
перегибал палку в другую сторону, но такова уж человеческая природа, и
незаметно для себя я начал оскорблять чужие чувства, настаивая на
превосходстве всего американского. О, говорил я на каком-нибудь большом
балу, разве это бал - вот если бы вы видели американские наряды (по правде
говоря, я их считал безвкусными); разве это угощение - вот если бы вы видели
американскую снедь, - и так далее и тому подобное. Не странно ли, что не
сыскалось патриота, который расквасил бы мой перебитый нос? Впрочем, я и сам
готов был надавать затрещин, ибо нет ничего несноснее чем
разглагольствования невежд, которые ничего не знают, не имеют никакого опыта
в обсуждаемом вопросе, но выступают, словно знатоки. И если я был неумерен в
своей преданности Америке, то только потому, что меня на это подбивали
несправедливые нападки тех, кто полагал, что насмехаться модно.
Радость возвращения и благодарность за удачную поездку оказалась
недолгой. Некоторое время я демонстративно не переводил часы, поставленные
по нью-йоркскому времени, и ощущал невыносимую тоску, когда смотрел на
солнце, ежевечерне заходившее на западе, и думал о местах, где оно сейчас
еще светит. Стоило мне очутиться дома, и Америка мне показалась безупречной,
я забыл все раздражавшие меня порой мелочи. К тому же, не был ли я там
всегда здоров и не сразила ли меня, лишь только я вернулся, зверская зубная
боль? Можете смеяться и говорить: "и что за беда - зубная боль?" - мой зуб,
вернее, три болевших зуба доставили мне самые ужасные страдания, какие я
испытал во всю свою жизнь. От боли - мучительной, сверлящей - горела голова,
хотелось кричать в голос, но я не мог издать ни звука, потому что мой рот
был забит креозотом. Какую картину я являл собой! Я лежал в этом унылом,
мертвом доме, стонал, охал, мечтал перенестись в Америку и убеждал себя, что
надо пойти к зубному врачу. Я не люблю зубных врачей - всех и всяческих. На
мой взгляд, зубоврачебному искусству, как и всему прочему искусству
врачевания, предстоит еще многому научиться, и потому предпочитаю держаться
в стороне от медиков, но ясно было, что в данном случае мне это не удастся.
Боль не утихала, я не мог ни есть, ни спать, ни появляться в приличном
обществе. Каким я ни был трусом, пришла пора взглянуть в лицо неизбежному,
и, хлопнув большой стакан... неважно чего для поддержания духа, я отправился
к мистеру Гилберту на улицу Суффолк. Я сильно подозревал, что при виде этих
кошмарных стальных клещей, или как они там называются, мне тотчас
припомнится срочное свидание и я опрометью выскочу на улицу, а если даже и
не выскочу, то при первом же прикосновении металла зареву как бык, врач
ничего не сможет сделать, и в зубоврачебном мире - а есть ли такой мир? что
за смешная мысль! - меня ославят трусом. Однако на сей раз я, пожалуй,
остался собой доволен: решительно, как полагается мужчине, сел в кресло,
открыл рот, сделал глубокий вдох, и через пять страшных минут - за это время
я не раз бледнел и морщился - все было кончено. Какое чудо! - боль прошла
немедленно, на свете нет ничего лучше! Не это ли одно из самых дивных
ощущений? И разве мы потом не спрашиваем себя с удивлением, отчего мы
колебались, если знали заранее, что именно так все и произойдет? Возможно,
будь я способен вынести мысль о скальпеле хирурга, как вынес, в конце
концов, щипцы дантиста, я испытал бы не меньшее облегчение, но дело в том,
что боль во внутренностях терзает меня не всегда, и стоит ей утихнуть, как я
говорю себе, что она больше не повторится и незачем спешить под нож.
Как бы то ни было, три черных, источавших боль чудовища были извлечены
у меня изо рта, и я почувствовал себя намного лучше, правда, осталась дырка,
казавшаяся глубокой и бездонной, словно океан, и я непрестанно трогал ее
языком. Зубы - ужасная докука, по-моему, природа очень неудобно их
придумала, но стоит их лишиться, как нам их очень не хватает. Из-за этой
малоприятной процедуры отложилась моя долгожданная встреча с семьей в
Париже, однако я задержался лишь настолько, сколько потребовалось, чтоб
убедиться, что боль не повторится, и поспешил во Францию. В ту пору матушка
жила на Ангулем, 19, красивой улице в приятном оживленном месте, - помню,
как, стоя на ступеньках ее дома и дергая звонок, я думал, что тут веселее
Кенсингтона и что неплохо было бы и мне сюда перебраться. Может, и неплохо,
кто это знал? Во всяком случае, не я, я понятия не имел, куда ветер дует, и
с интересом ждал, когда это выяснится. Наверное, стоя на ступеньках
матушкиного дома, я глупо улыбался, взволнованный, трепещущий и больше
похожий на возвратившегося любовника, чем на отца: сердце мое стучало часто,
а от необъяснимого возбуждения по спине пробегали мурашки восторга.
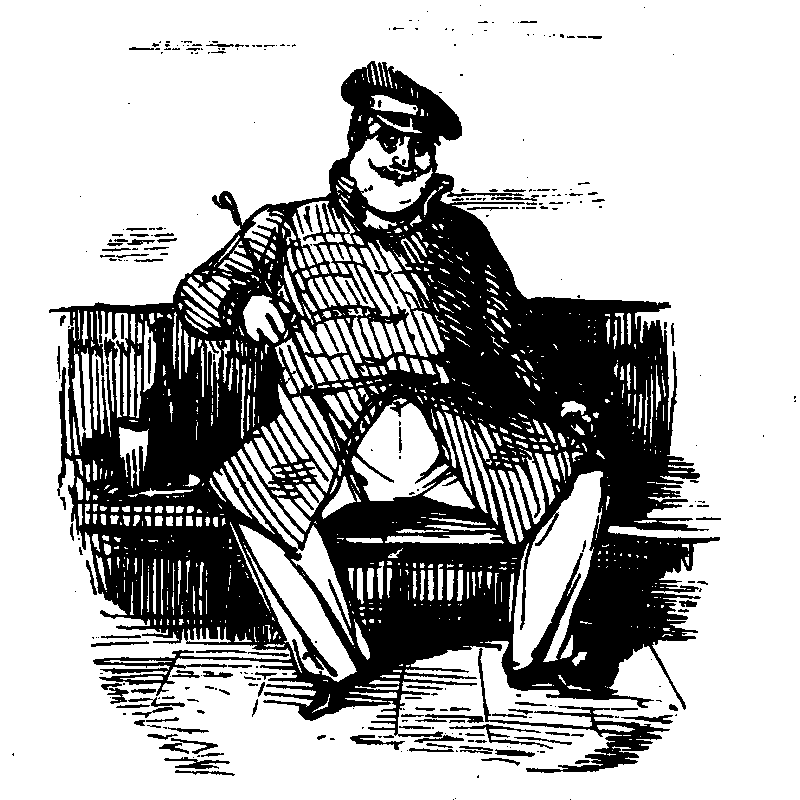 Я вынужден был позвонить дважды, ответа не было, но меня это не
испугало: я слишком хорошо знал, в чем тут причина. Девочки, даже когда
сердца их разрывались от чувств, были так же застенчивы, как и я, - я слышал
за дверью тихие возгласы, возню и улыбался, воображая, что там делается, но,
наконец, почувствовав, что настало время избавить их от нерешительности,
позабыл о своей собственной. Я заколотил в дверь и спросил, собираются ли
мне отпереть ее, но вот она открылась и все мы, наконец, прижали друг друга
к сердцу. Ах, что это была за встреча! Объятия, поцелуи, слезы радости не
прекращались целый день, и мне никогда не забыть своего потрясения, когда на
несколько секунд взглянул на девочек глазами постороннего и залюбовался ими.
Большие расстояния оказывают нам неоценимую услугу: мы принимаем близких не
задумываясь, когда живем вместе, и потому не видим их в настоящем свете, и
очень хорошо, когда порой нам выдается случай это сделать. Анни стала очень
высокой и женственной, даже не верилось, что какие-нибудь полгода так сильно
преобразили мою неуклюжую девочку, а Минни сделалась такой хорошенькой, что
я был очарован и предвидел, что через несколько лет за ней будет увиваться
весь город. Сама их плоть излучала здоровье - то было второе потрясшее меня
впечатление: сознание счастья от их физического присутствия. Когда я держал
их в своих объятиях, я ощущал себя иссохшим деревом, впитывающим живительную
влагу, - во мне как будто расцветала какая-то заброшенная часть души. У
одинокого сорокадвухлетнего мужчины немного людей, которых он может
заключить в объятия, чего ему порою очень хочется. Я напомнил себе об этом,
когда увидел дедушку - своего отчима: ужасно тощий и изнуренный, он радостно
мне улыбался и ожидал, что я прижму его к груди, как и прочих. Матушку я,
конечно, чуть не задушил от радости, после чего отодвинул на расстояние
вытянутой руки, чтоб разглядеть получше, и снова стал душить - изматывающий
ритуал! Потом девочки порхнули за пианино и удивили меня вновь, на этот раз
своими успехами по музыкальной части, затем я должен был послушать их
французский и заявить, будто ни за что бы не догадался, что они не
урожденные француженки, затем последовали ярды вышивок, которые мне
надлежало осмотреть и восхититься, и так далее и тому подобное. Плоды их
трудов были огромны и сложены к моим ногам, словно жертвоприношения к ногам
древнего божества. Там, где всегда царили одиночество и грусть, настали
любовь и радость, и я ощущал полноту сердца. Еще раз скажу вам, что ради
семьи пожертвовал бы любым своим успехом, любым, какой ни назовите, лучше
нее нет ничего на свете.
Некоторое время мы жили в Париже, все еще не веря до конца, что завтра
утром снова увидим улыбающиеся лица друг друга, и ненадолго мне показалось,
будто я снова молод: гуляя под каштанами или поднимая глаза на видневшиеся
за ними купола Тюильри, я ощущал душевный мир. Почему нужно непременно
что-нибудь делать? Почему не наслаждаться семейным кругом и просто жить? Не
знаю, почему, но после нескольких недель такой идиллии ко мне вернулось мое
обычное беспокойство и злость на себя за то, что я не умею его скрыть. Жизнь
с матушкой была не по мне. На что способны краснобаи, кроме пустопорожней
болтовни? Ну вот, я и назвал вещи своими именами. Я имею в виду общество, в
котором вращалась эта добрая душа; оно меня ужасно раздражало, я терпеть не
мог царившего там преклонения перед матушкой, к которому эти люди пытались
побудить и меня, - то было нездорово. Не мог я вынести и особого духа ее
верований, в которых главный упор делался на Ветхий завет. Анни части
ссорилась с ней из-за этого, и хотя я внутренне рукоплескал дочке, я не смел
обижать матушку и подрывать ее авторитет, прилюдно ей противореча. Нет,
нужно, думал я, забрать отсюда девочек, вернуться в Лондон - в другую жизнь.
Как водится, это было сопряжено с разными трудностями бытового свойства. До
чего меня сердило, что Анни и Минни, одна шестнадцати, другая тринадцати
лет, не были достаточно взрослыми, чтоб окончательно расстаться с
гувернантками; возвратись мы все вместе в Лондон, как я того хотел, вся
морока началась бы снова, тогда как в Париже при них была матушка и
превосходная французская гувернантка, которую они обожали. Я думал было
соблазнить ее поехать с нами, но мог ли я это себе позволить, зная, что
положение гувернантки в Англии совсем иное, чем здесь? Она была хорошенькая,
обворожительная девушка, свободно вращавшаяся в любом избранном ею обществе,
где к ней относились как к равной, тогда как в Лондоне она была бы низведена
в иных домах почти до положения прислуги и я бы ничего не мог с этим
поделать. Кроме того, появись в кругу моей семьи такое пленительное
существо, вообразите, какие пошли бы пересуды - в них не бывало недостатка,
даже когда у меня в услужении находилась какая-нибудь старая карга, не
вызывающая и тени подозрения. Нет, об этом не могло быть и речи, лучше мне
одному как можно скорее вернуться в Лондон, уладить все дела и приехать за
девочками. Перед отъездом я дал им слово, что по моем возвращении мы поедем
в Рим и проведем там зиму. Воображаете, какие раздались крики восторга? Как
только эти слова слетели с моих уст, напуганный бурными изъявлениями их
чувств, я почти пожалел о сказанном: мне стало страшно, что я беру на себя
такую огромную ответственность, и одновременно немного стыдно своего страха;
наверное, лучше было подождать с обещаниями и прежде убедиться, что с
поездкой все улажено, чтобы не видеть их мучительного разочарования, если
она сорвется.
Я вынужден был позвонить дважды, ответа не было, но меня это не
испугало: я слишком хорошо знал, в чем тут причина. Девочки, даже когда
сердца их разрывались от чувств, были так же застенчивы, как и я, - я слышал
за дверью тихие возгласы, возню и улыбался, воображая, что там делается, но,
наконец, почувствовав, что настало время избавить их от нерешительности,
позабыл о своей собственной. Я заколотил в дверь и спросил, собираются ли
мне отпереть ее, но вот она открылась и все мы, наконец, прижали друг друга
к сердцу. Ах, что это была за встреча! Объятия, поцелуи, слезы радости не
прекращались целый день, и мне никогда не забыть своего потрясения, когда на
несколько секунд взглянул на девочек глазами постороннего и залюбовался ими.
Большие расстояния оказывают нам неоценимую услугу: мы принимаем близких не
задумываясь, когда живем вместе, и потому не видим их в настоящем свете, и
очень хорошо, когда порой нам выдается случай это сделать. Анни стала очень
высокой и женственной, даже не верилось, что какие-нибудь полгода так сильно
преобразили мою неуклюжую девочку, а Минни сделалась такой хорошенькой, что
я был очарован и предвидел, что через несколько лет за ней будет увиваться
весь город. Сама их плоть излучала здоровье - то было второе потрясшее меня
впечатление: сознание счастья от их физического присутствия. Когда я держал
их в своих объятиях, я ощущал себя иссохшим деревом, впитывающим живительную
влагу, - во мне как будто расцветала какая-то заброшенная часть души. У
одинокого сорокадвухлетнего мужчины немного людей, которых он может
заключить в объятия, чего ему порою очень хочется. Я напомнил себе об этом,
когда увидел дедушку - своего отчима: ужасно тощий и изнуренный, он радостно
мне улыбался и ожидал, что я прижму его к груди, как и прочих. Матушку я,
конечно, чуть не задушил от радости, после чего отодвинул на расстояние
вытянутой руки, чтоб разглядеть получше, и снова стал душить - изматывающий
ритуал! Потом девочки порхнули за пианино и удивили меня вновь, на этот раз
своими успехами по музыкальной части, затем я должен был послушать их
французский и заявить, будто ни за что бы не догадался, что они не
урожденные француженки, затем последовали ярды вышивок, которые мне
надлежало осмотреть и восхититься, и так далее и тому подобное. Плоды их
трудов были огромны и сложены к моим ногам, словно жертвоприношения к ногам
древнего божества. Там, где всегда царили одиночество и грусть, настали
любовь и радость, и я ощущал полноту сердца. Еще раз скажу вам, что ради
семьи пожертвовал бы любым своим успехом, любым, какой ни назовите, лучше
нее нет ничего на свете.
Некоторое время мы жили в Париже, все еще не веря до конца, что завтра
утром снова увидим улыбающиеся лица друг друга, и ненадолго мне показалось,
будто я снова молод: гуляя под каштанами или поднимая глаза на видневшиеся
за ними купола Тюильри, я ощущал душевный мир. Почему нужно непременно
что-нибудь делать? Почему не наслаждаться семейным кругом и просто жить? Не
знаю, почему, но после нескольких недель такой идиллии ко мне вернулось мое
обычное беспокойство и злость на себя за то, что я не умею его скрыть. Жизнь
с матушкой была не по мне. На что способны краснобаи, кроме пустопорожней
болтовни? Ну вот, я и назвал вещи своими именами. Я имею в виду общество, в
котором вращалась эта добрая душа; оно меня ужасно раздражало, я терпеть не
мог царившего там преклонения перед матушкой, к которому эти люди пытались
побудить и меня, - то было нездорово. Не мог я вынести и особого духа ее
верований, в которых главный упор делался на Ветхий завет. Анни части
ссорилась с ней из-за этого, и хотя я внутренне рукоплескал дочке, я не смел
обижать матушку и подрывать ее авторитет, прилюдно ей противореча. Нет,
нужно, думал я, забрать отсюда девочек, вернуться в Лондон - в другую жизнь.
Как водится, это было сопряжено с разными трудностями бытового свойства. До
чего меня сердило, что Анни и Минни, одна шестнадцати, другая тринадцати
лет, не были достаточно взрослыми, чтоб окончательно расстаться с
гувернантками; возвратись мы все вместе в Лондон, как я того хотел, вся
морока началась бы снова, тогда как в Париже при них была матушка и
превосходная французская гувернантка, которую они обожали. Я думал было
соблазнить ее поехать с нами, но мог ли я это себе позволить, зная, что
положение гувернантки в Англии совсем иное, чем здесь? Она была хорошенькая,
обворожительная девушка, свободно вращавшаяся в любом избранном ею обществе,
где к ней относились как к равной, тогда как в Лондоне она была бы низведена
в иных домах почти до положения прислуги и я бы ничего не мог с этим
поделать. Кроме того, появись в кругу моей семьи такое пленительное
существо, вообразите, какие пошли бы пересуды - в них не бывало недостатка,
даже когда у меня в услужении находилась какая-нибудь старая карга, не
вызывающая и тени подозрения. Нет, об этом не могло быть и речи, лучше мне
одному как можно скорее вернуться в Лондон, уладить все дела и приехать за
девочками. Перед отъездом я дал им слово, что по моем возвращении мы поедем
в Рим и проведем там зиму. Воображаете, какие раздались крики восторга? Как
только эти слова слетели с моих уст, напуганный бурными изъявлениями их
чувств, я почти пожалел о сказанном: мне стало страшно, что я беру на себя
такую огромную ответственность, и одновременно немного стыдно своего страха;
наверное, лучше было подождать с обещаниями и прежде убедиться, что с
поездкой все улажено, чтобы не видеть их мучительного разочарования, если
она сорвется.
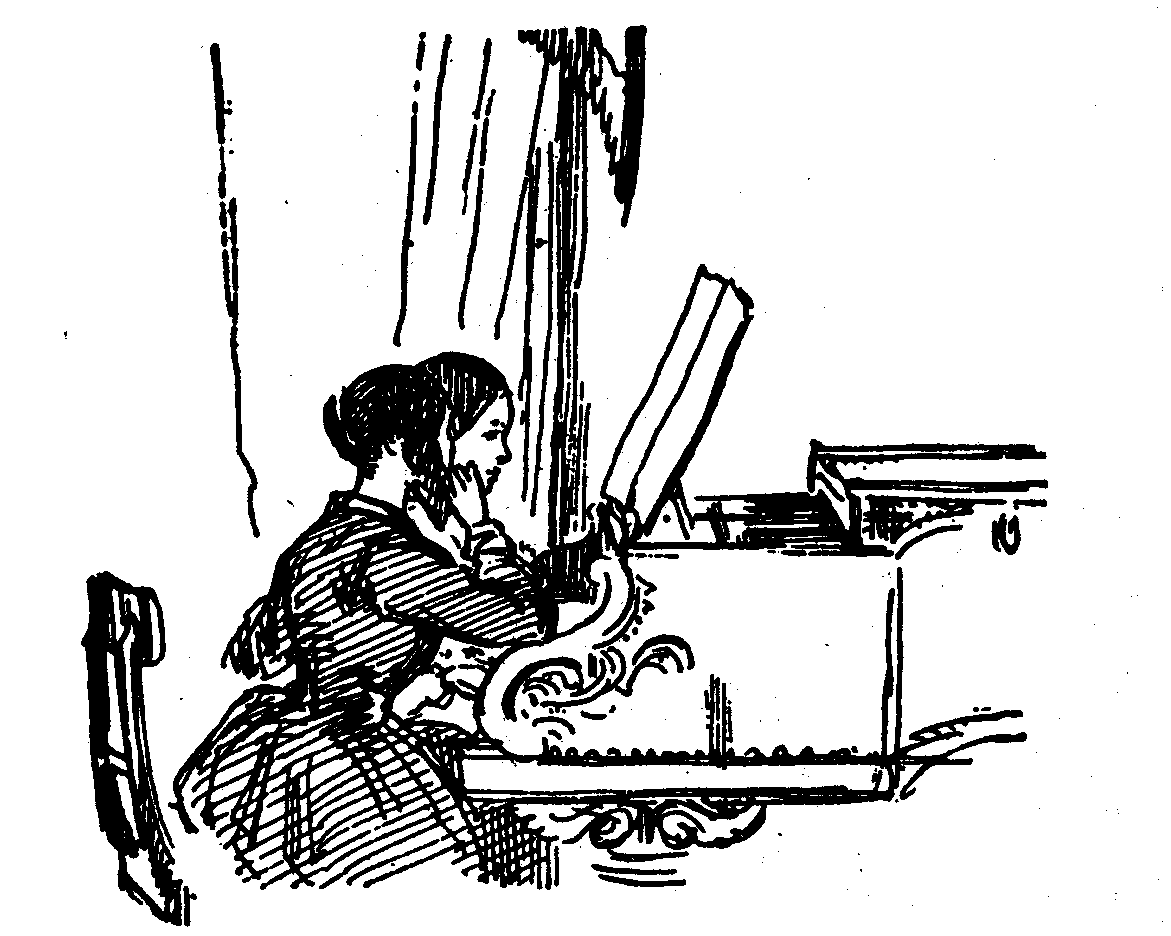 Вернувшись в Лондон, я попытался взглянуть в лицо действительности, к
чему всегда считал себя способным, работать ради денег, словно сам дьявол
гнался за мной по пятам, мне больше не приходилось, но деньги все же были
нужны, и чем больше я мог заработать, пока был в силах, тем лучше. Одно
время я подумывал подготовить несколько лекций об Америке. Меня подбивали на
это некоторые мои друзья, очарованные, по их словам, моими рассказами, но я
не мог за это взяться без помощи своего секретаря - Эйра Кроу, который
принялся в то время за всякие другие дела, - что вполне понятно, - и был вне
досягаемости. К тому же, чему бы ни были посвящены новые лекции, это опять
были лекции, а я был ими сыт по горло. Возможно, я написал бы книгу, если бы
не сменил полностью курс действий и не ударился в другую, совершенно
неожиданную крайность - в политику. Хоть мне и совестно, скажу по чести, что
меня привлекала подобная карьера, - я получил большое удовольствие от своей
затеи. Виной тому, наверное, был возраст: в сорок два года я чувствовал
потребность внести в общественное благо нечто более значительное, чем
десяток книг для избранного круга, которые я кропал, не слишком себя
утруждая и тратя по несколько часов в день. Во мне жило сильное гражданское
чувство, которое искало себе выхода, и я надеялся, что в качестве члена
парламента сумею внести в эту деятельность крупицу опыта и понимания жизни.
При сложившихся обстоятельствах меня удерживало лишь одно: если бы я
выдвинул свою кандидатуру, я баллотировался бы как независимый, а это было
дорого, такую роскошь я Мог себе позволить, лишь основательно истощив свои
недавние накопления. Осторожность удержала меня, и, думаю, к лучшему.
Короче говоря, в июне 1853 года я подписал с Брэдбери и Эвансом договор
на новую книгу, которая, как и "Пенденнис", должна была выйти в двадцати
четырех выпусках на следующих условиях; 3600 фунтов наличными плюс 500
фунтов от американцев - Харпера и Таухница. Нет, вам не изменяет зрение, не
трите глаза так яростно, это и в самом деле куча денег - стыдно сказать, как
много мне платили. Но стоило мне сесть за стол и задуматься, откуда, черт
подери, мне взять героев и как сплести интригу, которая составила бы
двадцать четыре выпуска и нечто цельное в итоге, как я понял, что отработаю
каждый пенни, ибо меня ждет геркулесов труд. Впереди были адовы муки -
только мазохист мог добровольно наложить на себя такое страшное наказание.
Не я ли клялся после "Пенденниса", что больше никогда ничего подобного не
сделаю? И вот, пожалуйста, я пускаюсь в еще более рискованное предприятие. В
голове у меня не было ни фабулы романа, ни достаточно ясного представления о
том, чему он будет посвящен, - лишь самое общее понятие о действующих лицах;
я сознавал, что заблужусь без крепкой путеводной нити. Во мне не бил родник
фантазии, мне не дано было черпать из него, сколько заблагорассудится,
отнюдь нет. Но стоило мне подписать договор и осознать, что отступление
отрезано, как я ощутил подъем духа, не имевший ничего общего с
предполагаемым гонораром. Я был полон рвения - мне не терпелось взяться за
перо - и наслаждался этим ощущением. Кто, знает, что я напишу после целого
года отдыха, начав все в новых, более благоприятных условиях? Я думал, что,
уютно устроившись с девочками под зимним римским солнцем, обрету мир и
спокойствие, которых мне, возможно, не доставало, чтоб вновь подняться до
великих. Теперь я знаю, что оба решения - и поездка в Рим, и договор на
"Ньюкомов" - были роковыми, но в отличие от тех моих решений, которые я
вспоминаю с изумлением, и спрашиваю себя, как мог принять их, эти мне
понятны, и думаю, что в сходных обстоятельствах принял бы их снова. Полезная
штука - жизненный урок, однако порой еще полезнее не извлекать его.
Вернувшись в Лондон, я попытался взглянуть в лицо действительности, к
чему всегда считал себя способным, работать ради денег, словно сам дьявол
гнался за мной по пятам, мне больше не приходилось, но деньги все же были
нужны, и чем больше я мог заработать, пока был в силах, тем лучше. Одно
время я подумывал подготовить несколько лекций об Америке. Меня подбивали на
это некоторые мои друзья, очарованные, по их словам, моими рассказами, но я
не мог за это взяться без помощи своего секретаря - Эйра Кроу, который
принялся в то время за всякие другие дела, - что вполне понятно, - и был вне
досягаемости. К тому же, чему бы ни были посвящены новые лекции, это опять
были лекции, а я был ими сыт по горло. Возможно, я написал бы книгу, если бы
не сменил полностью курс действий и не ударился в другую, совершенно
неожиданную крайность - в политику. Хоть мне и совестно, скажу по чести, что
меня привлекала подобная карьера, - я получил большое удовольствие от своей
затеи. Виной тому, наверное, был возраст: в сорок два года я чувствовал
потребность внести в общественное благо нечто более значительное, чем
десяток книг для избранного круга, которые я кропал, не слишком себя
утруждая и тратя по несколько часов в день. Во мне жило сильное гражданское
чувство, которое искало себе выхода, и я надеялся, что в качестве члена
парламента сумею внести в эту деятельность крупицу опыта и понимания жизни.
При сложившихся обстоятельствах меня удерживало лишь одно: если бы я
выдвинул свою кандидатуру, я баллотировался бы как независимый, а это было
дорого, такую роскошь я Мог себе позволить, лишь основательно истощив свои
недавние накопления. Осторожность удержала меня, и, думаю, к лучшему.
Короче говоря, в июне 1853 года я подписал с Брэдбери и Эвансом договор
на новую книгу, которая, как и "Пенденнис", должна была выйти в двадцати
четырех выпусках на следующих условиях; 3600 фунтов наличными плюс 500
фунтов от американцев - Харпера и Таухница. Нет, вам не изменяет зрение, не
трите глаза так яростно, это и в самом деле куча денег - стыдно сказать, как
много мне платили. Но стоило мне сесть за стол и задуматься, откуда, черт
подери, мне взять героев и как сплести интригу, которая составила бы
двадцать четыре выпуска и нечто цельное в итоге, как я понял, что отработаю
каждый пенни, ибо меня ждет геркулесов труд. Впереди были адовы муки -
только мазохист мог добровольно наложить на себя такое страшное наказание.
Не я ли клялся после "Пенденниса", что больше никогда ничего подобного не
сделаю? И вот, пожалуйста, я пускаюсь в еще более рискованное предприятие. В
голове у меня не было ни фабулы романа, ни достаточно ясного представления о
том, чему он будет посвящен, - лишь самое общее понятие о действующих лицах;
я сознавал, что заблужусь без крепкой путеводной нити. Во мне не бил родник
фантазии, мне не дано было черпать из него, сколько заблагорассудится,
отнюдь нет. Но стоило мне подписать договор и осознать, что отступление
отрезано, как я ощутил подъем духа, не имевший ничего общего с
предполагаемым гонораром. Я был полон рвения - мне не терпелось взяться за
перо - и наслаждался этим ощущением. Кто, знает, что я напишу после целого
года отдыха, начав все в новых, более благоприятных условиях? Я думал, что,
уютно устроившись с девочками под зимним римским солнцем, обрету мир и
спокойствие, которых мне, возможно, не доставало, чтоб вновь подняться до
великих. Теперь я знаю, что оба решения - и поездка в Рим, и договор на
"Ньюкомов" - были роковыми, но в отличие от тех моих решений, которые я
вспоминаю с изумлением, и спрашиваю себя, как мог принять их, эти мне
понятны, и думаю, что в сходных обстоятельствах принял бы их снова. Полезная
штука - жизненный урок, однако порой еще полезнее не извлекать его.
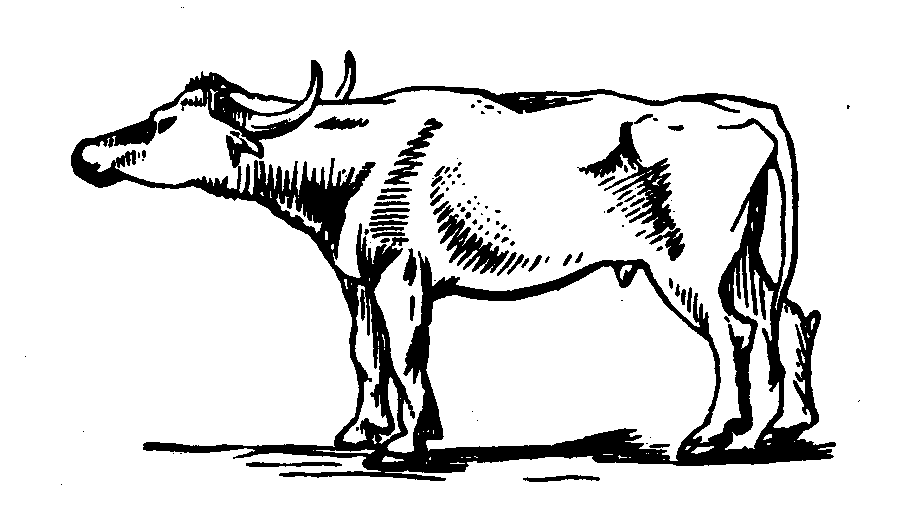 Мы не выезжали в Рим до ноября того года, дожидаясь, пока бл
Мы не выезжали в Рим до ноября того года, дожидаясь, пока бл