---------------------------------------------------------------
Повесть о белом медведе
Перевод с румынского М. ОЛСУФЬЕВА
_________
Обложка и рисунки Н. ПОПЕСКУ
OCR: В.Григоров
---------------------------------------------------------------
 ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ
ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ
ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ
ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ
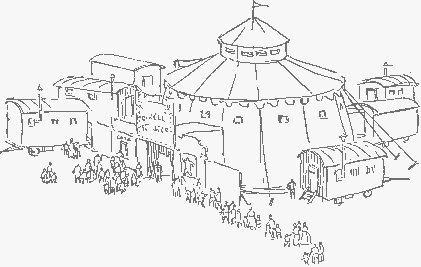 ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ
БУХАРЕСТ - 1965
OCR-GVG-2005
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ
БУХАРЕСТ - 1965
OCR-GVG-2005
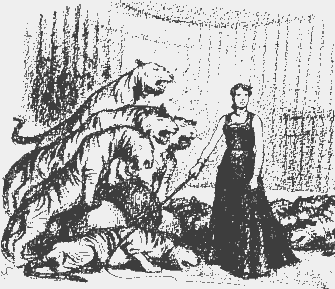 I. ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА СТРУЦКОГО
Тигры выходили на арену по одному. Их бархатные лапы ступали по песку
мягко, бесшумно. Ни один не глянул желтыми, будто стеклянными глазами ни
вправо, ни влево.
По ту сторону решетки заполнявшая партер публика смотрела на них,
затаив дыхание, со страхом и нетерпением.
Но для бенгальских тигров публики не существовало: она даже не
заслуживала взгляда. Единственным существовавшим для них человеческим
существом была стоявшая среди арены женщина в платье из золотистых чешуек,
со сверкающими разноцветными камнями.
Зеленые глаза ее горели таким же огнем, как у тигров. Только у нее они
смотрели повелительно и беспощадно, тогда как в глазах зверей читалась
усталая покорность.
Их взгляды искали, выжидали друг друга, встречались. Этого было
достаточно: тигры понимали женщину и женщина понимала тигров.
Глаза укротительницы пронизывали зверей, глаза зверей послушно
опускались. В вытянутой руке она держала хлыстик с шелковой кисточкой на
конце. Кисточка указывала каждому тигру его место.
-- Ты сюда!.. Ты поближе!.. А ты туда!..
И тигры занимали свои места безропотно, подходя к шарам пружинистым
шагом, помахивая тяжелыми длинными хвостами.
По одну и по другую сторону от них лежало рядком по шесть огромных
деревянных шаров.
Крайний тигр потрогал лапой шар, взвился на него плавным, легким
прыжком, как кошка на ворота, и, поджидая других, зевнул -- распушил колючие
усы, показал небо, обнажил клыки.
У зрителей дрогнуло сердце. Одна мысль владела всеми: все знали, что
эти острые, могучие клыки, эти лапы с железными когтями могут в одну секунду
раздавить как воробья, растерзать в клочья женщину в платье из золотистых
чешуек, со сверкающими разноцветными камнями.
Но мисс Эллиан улыбалась. Так ее звали: мисс Эллиан. Она улыбалась как
ни в чем не бывало.
Мисс Эллиан была одна среди хищников. Никакого оружия: только хлыстик с
шелковой кисточкой да еще пронизывающий взгляд.
Но этого было достаточно для того, чтобы двенадцать бенгальских тигров
превратились в двенадцать смирных, послушных кошек.
-- Вся сила укротительницы -- в глазах! -- сказал занимавший место у
самой решетки старый господин сидевшей рядом внучке. -- Стоит ей отвести
взгляд, стоит тиграм почувствовать, что она задумалась или просто боится их,
как они в ту же секунду бросятся на нее и...
-- Мне страшно, когда ты так говоришь... Ужасно страшно! -- прошептала
девочка и прижалась к деду.
-- Шш... Тише...
Все замерли. Светлокудрая голубоглазая девочка в белой шубке еще крепче
прижалась к старому господину. Ей слышно, как бьется ее маленькое сердце.
Сидя на деревянных шарах, двенадцать бенгальских тигров напряженно ждут
команды, которую подадут им глаза мисс Эллиан.
Из купола цирка лился ослепительный электрический свет. Две тысячи
разместившихся в цирке локоть к локтю человек окаменели.
Публика была очень пестрая: старики и молодые женщины, родители с
детьми, школьницы со своими учительницами. Людей этих разделяли лишь ряды
скамеек или стульев да еще цена билетов. Одни, заполнявшие галерку, стояли;
другие сидели вокруг решетки в обитых красным плюшем креслах.
Все забыли о своих домашних заботах, о повседневных маленьких радостях
и огорчениях и не отрываясь глядели на арену.
Кто из них на улице не пугался какой-нибудь неожиданно залаявшей шавки
с хвостом закорючкой? А дома кто не вздрагивал ночью, когда вдруг скрипнет
мебель или из-под шкафа покажется мышка с глазами как черные бусинки?
Здесь все эти страхи казались смешными. Все чувствовали себя
участниками чего-то необычайного, чудесного.
Двенадцать диких, укрощенных зверей слушались одного женского взгляда,
хлопка хлыста с шелковой кисточкой, поданного кончиком пальца знака.
Тишина. Не слышно ни шелеста программ, ни разговоров, ни скрипа
скамеек, ни покашливания.
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
Так напечатано в программе.
Последнее, прощальное представление.
Завтра цирковая палатка будет сложена, а звери уедут в белых вагонах в
другой город. Может быть, они никогда больше сюда не вернутся. О них будет
напоминать лишь пустырь возле городского сада.
Взрослые вернутся к своим обычным занятиям и заботам; дети -- к
животным из войлока, плюша или раскрашенного дерева.
Мальчики, увлеченные своими играми, скоро забудут, что на свете
существуют звери дикой, несравненной красоты, с бархатной шкурой и желтыми,
будто стеклянными глазами; звери, прыжок которых описывает дугообразную
линию пущенного из рогатки камня. И опять пугливые девочки будут
вздрагивать, когда из-за забора вдруг залает на них шавка с хвостом
закорючкой или когда по комнате пробежит, как заводная игрушка, мышь.
Поэтому все они, мальчики и девочки, собрались сегодня здесь, чтобы еще
раз -- в последний раз -- увидеть два чуда, которые показывает на своем
прощальном представлении цирк Струцкого:
МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ФРАМ
Тигры, образуя круг, ждали на своих деревянных шарах.
Женщина в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими разноцветными
камнями отступила на шаг.
Двенадцать одинаковых, грациозных прыжков -- и тигры очутились возле
нее, легли кругом, положив морды на вытянутые лапы. Теперь казалось, что
вокруг женщины раскрылся гигантский подсолнечник с двенадцатью оранжевыми
лепестками, перечерченными блестящими бархатными черными полосами.
Рука женщины принялась гладить круглые головы, мягкие уши, влажные
морды. Она ласкала своих тигров. Она довольна ими.
Внучке старого господина стало стыдно при мысли, что дома ее не
слушается даже кот Пуфулец.
Еще на прошлой неделе в самом разгаре игры он ни с того, ни с сего
поцарапал ей щеку.
Выше, в заднем ряду, курносый мальчик с сияющими глазами поднялся на
цыпочки, чтобы лучше видеть.
Это -- Петруш, младший сынок рабочего одного из заводов города. Как и
многие другие его сверстники, он целую неделю торчал у входа в цирк и скопил
по грошам стоимость билета. Теперь ему хотелось не пропустить ничего из
того, что происходило на арене: не зря же он с таким напряженным вниманием
читал и перечитывал афишу, невзирая на холод и мокрый снег! И не зря с такой
завистью смотрел на входившую в цирк публику. Теперь, когда он наконец
здесь, как не превратиться в слух, не глядеть во все глаза?!
Окруженная тиграми мисс Эллиан подняла руки -- звери могут встать, --
потом щелкнула хлыстом. Резиновым, неслышным шагом тигры вернулись на свои
места, уселись на шары и замерли в ожидании новой команды. Женщина в
золотистом платье со сверкающими камнями подняла обтянутый бумагой обруч и
подожгла другой такой же, на железной подставке.
Снова щелкнул хлыст.
Один за другим звери отделяются от лакированных шаров, в длинном прыжке
пролетают сквозь бумажный круг и, едва коснувшись песка, плавно переносят
вытянутое туловище сквозь второй, пылающий круг.
Самый молодой и строптивый тигр не встретил повелительного взгляда
укротительницы. Притворяясь, будто он не понял, что от него хотят, зверь
пытается пролезть под объятым пламенем обручем, потом преспокойно
усаживается на свой шар и лениво, со скучающим видом зевает.
-- Это Раджа. Его зовут Раджа! -- шепчет девочка. -- Я запомнила его с
прошлого воскресенья. Самый из всех злой...
Укротительница не окликнула его по имени, не тронула шелковой кисточкой
хлыста, не копнула гневно песок носком туфельки. Она только раз пристально
взглянула на него и подняла круг.
Тигр оскалился.
-- Мне страшно! Идем домой, дедушка, мне страшно!.. -- испугалась
девочка и вцепилась в рукав деда.
-- Шш...
Но кудрявой голубоглазой девочке в белой шубке и белой шапочке нечего
было бояться.
Стальной взгляд укротительницы снова пересилил упрямство молодого
строптивого тигра.
Раджа потупился, гибким движением слез с шара, напряг мускулы под
бархатной шкурой и в два прыжка молниеносно пронесся через бумажные круги,
один из которых продолжал полыхать.
Потом смирно вернулся на свое место. Его глаза смущенно просили
прощения. Он знал, что его ждет.
Когда он вернется в свою клетку, его накажут несколькими сильными
ударами по морде, но не тем тоненьким хлыстиком с шелковой кисточкой,
которым укротительница пользуется на представлении, а кожаным арапником, что
очень больно. А когда придет время кормежки, вместо куска сырого мяса он
получит ведро воды. Наказание это было ему знакомо. Знаком ему был и другой
облик женщины в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими камнями, облик,
которого не видел никто из людей, заполнявших партер, ложи и галерку. За
кулисами мисс Эллиан меняла сверкающий туалет, в котором она появлялась
перед публикой, на старую кожаную тужурку и короткую запятнанную юбку. И уже
не улыбалась пленительно, посылая во все стороны воздушные поцелуи, в то
время как цирк сотрясался от аплодисментов.
Она вооружается острым железным прутом и арапником с вплетенным в конце
свинцом, хрипло кричит на тигров, бьет их и тычет им в ребра острым прутом.
Она груба и беспощадна с ними, потому что хозяин -- он же директор -- цирка,
человек куда более жестокий и жадный, чем его звери, не допускает ни
малейшего отклонения от своих приказаний. Ему вечно кажется, что все
лодырничают, мало работают. Ему хочется, чтобы номера программы были еще
более рискованными. Все артисты для него -- дармоеды.
-- Я вас на улицу выкину, -- то и дело грозится он. -- Подыхайте потом
с голоду!
Дрессировщиков он осыпает бранью, мечет громы и молнии. А те с перепугу
вымещают обиду на животных. Все страдают, все терпят. Все знают, что иного
выхода нет. Их тяжелый труд, их страдания, взимаемые с них по любому поводу
штрафы обогащают хозяина. Он богатеет с каждым днем, с каждым
представлением. Это -- самый опасный, самый ненасытный из всех зверей цирка.
Но все это происходит за кулисами, в зверинце, после того, как публика
расходится и огни гаснут.
Да, молодой строптивый Раджа знает, что его ждет. Знает он и то, что
его сейчас вызовут движением хлыста на середину арены.
Укротительница откроет ему руками пасть и вложит свою завитую головку
между его страшных клыков. Она проделает это с ним, Раджой, именно потому,
что у него репутация самого злого, самого непокорного из всех двенадцати
тигров, а мисс Эллиан хочет показать, что она ничего, решительно ничего не
боится. Номер этот повторяется три вечера сряду. "А что, -- думает Раджа, --
если чуточку, самую чуточку, сжать челюсти?" Череп ненавистной женщины
треснет, как яичная скорлупа, как кости тех антилоп, которых он убивал на
свободе, в джунглях далекой Бенгалии, бросаясь из чащи на свою жертву.
Раджа зевает на лакированном деревянном шаре.
Тигр знает, что никогда этого не сделает, -- он теперь во власти людей.
Взгляд горящих зеленых глаз укротительницы в самом зародыше убивает
всякую попытку сопротивления. Раджа сейчас такое же ничтожество, как
уродины-обезьяны в зверинце, которые угодливо попрошайничают, чтобы
полакомиться земляными орехами или мандаринами.
Тигр опускает веки на желтые, будто стеклянные глаза с раскосо
суженными зрачками, как у домашних кошек в полдень. Он больше не видит ни
мисс Эллиан, ни публику за решеткой.
Тигр видит то, что предстает перед ним всегда, как только он закроет
глаза.
Тропический лес. Широкая листва, непролазная чаща, свисающие до земли
лианы, птицы всех цветов радуги. С шелковистым шелестом проходят павлины,
порхают колибри, которые не больше насекомых, и громадные бабочки,
неуступающие в размере птицам. Что это раскачивается на дереве? Ветка или
змея? Откуда шорох: от ветра или среди широких листьев крадется другой тигр,
чужой? Ну, конечно, там есть заросшее бамбуком озерцо... Как хорошо известны
ему эти места! Сколько раз он прятался там, притаившись, выслеживая антилоп,
которые приходили на водопой! Ждал час и два, а то, случалось, и до поздней
ночи; менял место, смотря по направлению ветра, чтобы его не почуяли.
Наконец появлялись антилопы. Две, три, иногда только одна... Озираясь
пугливыми, влажными глазами, она нюхала воздух. Шагов на мягкой земле не
слышно. Вот она нагнулась к воде, вздрогнула, насторожила уши, вытянула шею
среди листьев лотоса. В этот миг он, как спущенная из лука стрела, прыгал из
чащи прямо на спину своей жертвы: она не успевала издать ни одного звука,
даже не дергалась в его клыках. Но бывало, что с добычей приходилось
повозиться. Трещали ветки, дебри оглашались диким ревом. Однажды дикий
буйвол... Раджа почуял его издали, подкараулил, прыгнул ему на хребет, но
буйвол перекинул его через голову, навалился на него, подмял под себя,
собираясь поддеть рогами. Лес замер в гробовом молчании. Обезьяны
попрятались по дуплам, остальные звери приникли к земле. Это был жестокий
поединок между хозяевами джунглей! Слышно было только их тяжелое дыхание,
прерываемое мычанием буйвола. Одолел все же он, Раджа... Потом, в другой
раз, было сражение со слоном, который схватил его хоботом, намереваясь
грохнуть оземь и раздавить толстыми, как бревна, ногами... Но в конце концов
убежал не Раджа, а слон с растерзанным в клочья хоботом и окровавленным
глазом. И долго еще среди ночи раздавался его гневный топот, ломались ветки,
срывались с деревьев пологи лиан, валились на землю заросли бамбука. А трое
вооруженных копьями охотников, которые хотели его окружить, и все трое
достались ему на обед!.. С тех пор о Радже пошла молва. Его боялась вся
округа. Все называли его ТИРАНОМ. Так называли его все. И у всех дрожали
поджилки, когда лес оглашался ревом. Никто больше не отваживался выходить на
лесные тропы. Люди поклялись предать его смерти, а сами смертельно боялись
его. Издали почуяв приближение человека, он подкрадывался к нему с такой
осторожностью, что не слышал своего дыхания. Делал несколько шагов,
останавливался... Еще шаг... прыжок. Удар клыками. Все! На водопое, куда
приходили антилопы, он неизменно оставался хозяином. Но однажды ночью его
лапу сжали железные тиски. Он попробовал разгрызть капкан. Лес огласился его
испуганным ревом. Пленник попытался вырваться, даже оставить свою лапу, в
капкане. Напрасная мука! Глубокая рана, нанесенная железом, дает о себе
знать до сих пор, когда холодно или идет дождь. Обессиленный болью и потерей
крови, он вытянулся на земле и стал ждать смерти, примиренно, не жалуясь на
судьбу. Только через неделю пришли люди с топорами, чтобы забрать его,
полумертвого от жажды и голода. Они отняли у него право спокойно умереть.
И вот он здесь.
Его отделяет от всего света железная решетка.
Его привезли сюда, и теперь он дрожит от страха, когда щелкает хлыст с
шелковой кисточкой. Этому предшествовали долгие, мучительные месяцы
дрессировки. Теперь он опускает глаза под взглядом женщины, единственное
оружие которой -- хлыстик с шелковой кисточкой. От нее нет спасения нигде!
Обезьяны бросают в него апельсинными и банановыми корками, строют рожи и
чешутся, карабкаясь по прутьям решетки, делают ему знаки своими неугомонными
лапами, когда его провозят мимо них в клетке на колесах. Только когда он
ревет, их внезапно обуревает ужас, как в джунглях, и тогда они смешно
корчатся, стараясь куда-нибудь спрятаться.
Шелковая кисточка слегка коснулась его морды. Это было совсем легкое,
воздушное прикосновение, почти ласка. Но тигр знал, что это выговор, знал,
что обещает такая ласка: злой арапник и железный прут.
Но куда денешься? Выбора нет. Поэтому он послушно слез с деревянного
шара, как того требовала программа представления.
Зрители затаили дыхание. В цирке водворилась такая тишина, что с
далекой улицы донеслись гудки автомобилей и грохот трамваев.
Двенадцать тигров улеглись среди арены, образовав круг. Мисс Эллиан
подобрала подол платья, бросила хлыст, легла на спину в середине этого
круга, скрестив на груди руки, и вложила голову в раскрытую пасть Раджи. Ее
затылок опирался на его клыки, как на откидной подголовник зубоврачебного
кресла.
Тигр моргает большими желтыми, будто стеклянными глазами. Вот если бы
немного придавить ненавистную голову зубами!.. Хоть немножко!.. Но глаза
женщины сверлят его. Он не видит их, но чувствует их пронизывающий взгляд.
Ах, как он его чувствует! И Раджа не сжимает челюстей, а лежит неподвижно,
как чучело, с открытой пастью.
Петруш, мальчик с блестящими глазами, сжал кулаки, вытянул шею и, сам
того не замечая, пробрался поближе к арене, чтобы лучше видеть, что там
происходит.
Девочка со светлыми локонами прикусила губку. Сердце ее бьется так
сильно, что того и гляди выскочит из маленькой груди. Кое-кто закрыл глаза.
Другие заткнули уши, чтобы не услышать вопля укротительницы. Даже у дедушки
белокурой девочки чуть задрожала рука на набалдашнике из слоновой кости,
который украшал его трость. Он уже видел раз, как тигры растерзали
укротителя, и знает, что этим кончают почти все дрессировщики диких зверей.
Знает также, что звери в таких случаях бросаются на решетку, яростно рычат и
кусают друг друга.
-- Гоп!
Грациозный прыжок, и женщина снова на ногах, посреди арены.
Она встряхивает иссиня-черными кудрями и откидывает шуршащий шлейф
платья носком туфельки. Улыбается, кланяется публике и, отвечая на бурные
аплодисменты, посылает воздушные поцелуи в ложи, партер, на галерку.
На обтянутом красным сукном помосте оркестр заиграл марш всеми своими
барабанами, трубами, флейтами и кларнетами... Дзинь-дзинь!
Дзинь-дзинь! -- позвякивал треугольник под ударами серебряного
молоточка.
Марш торжественный, церемониальный.
Через ворота в глубине арены двенадцать бенгальских тигров возвращаются
в свои клетки.
Они идут гуськом, как смирные домашние кошки, помахивая тяжелыми
длинными хвостами, не глядя ни вправо, ни влево большими желтыми, словно
стеклянными глазами.
Бархатные лапы ступают по песку мягко, бесшумно.
I. ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА СТРУЦКОГО
Тигры выходили на арену по одному. Их бархатные лапы ступали по песку
мягко, бесшумно. Ни один не глянул желтыми, будто стеклянными глазами ни
вправо, ни влево.
По ту сторону решетки заполнявшая партер публика смотрела на них,
затаив дыхание, со страхом и нетерпением.
Но для бенгальских тигров публики не существовало: она даже не
заслуживала взгляда. Единственным существовавшим для них человеческим
существом была стоявшая среди арены женщина в платье из золотистых чешуек,
со сверкающими разноцветными камнями.
Зеленые глаза ее горели таким же огнем, как у тигров. Только у нее они
смотрели повелительно и беспощадно, тогда как в глазах зверей читалась
усталая покорность.
Их взгляды искали, выжидали друг друга, встречались. Этого было
достаточно: тигры понимали женщину и женщина понимала тигров.
Глаза укротительницы пронизывали зверей, глаза зверей послушно
опускались. В вытянутой руке она держала хлыстик с шелковой кисточкой на
конце. Кисточка указывала каждому тигру его место.
-- Ты сюда!.. Ты поближе!.. А ты туда!..
И тигры занимали свои места безропотно, подходя к шарам пружинистым
шагом, помахивая тяжелыми длинными хвостами.
По одну и по другую сторону от них лежало рядком по шесть огромных
деревянных шаров.
Крайний тигр потрогал лапой шар, взвился на него плавным, легким
прыжком, как кошка на ворота, и, поджидая других, зевнул -- распушил колючие
усы, показал небо, обнажил клыки.
У зрителей дрогнуло сердце. Одна мысль владела всеми: все знали, что
эти острые, могучие клыки, эти лапы с железными когтями могут в одну секунду
раздавить как воробья, растерзать в клочья женщину в платье из золотистых
чешуек, со сверкающими разноцветными камнями.
Но мисс Эллиан улыбалась. Так ее звали: мисс Эллиан. Она улыбалась как
ни в чем не бывало.
Мисс Эллиан была одна среди хищников. Никакого оружия: только хлыстик с
шелковой кисточкой да еще пронизывающий взгляд.
Но этого было достаточно для того, чтобы двенадцать бенгальских тигров
превратились в двенадцать смирных, послушных кошек.
-- Вся сила укротительницы -- в глазах! -- сказал занимавший место у
самой решетки старый господин сидевшей рядом внучке. -- Стоит ей отвести
взгляд, стоит тиграм почувствовать, что она задумалась или просто боится их,
как они в ту же секунду бросятся на нее и...
-- Мне страшно, когда ты так говоришь... Ужасно страшно! -- прошептала
девочка и прижалась к деду.
-- Шш... Тише...
Все замерли. Светлокудрая голубоглазая девочка в белой шубке еще крепче
прижалась к старому господину. Ей слышно, как бьется ее маленькое сердце.
Сидя на деревянных шарах, двенадцать бенгальских тигров напряженно ждут
команды, которую подадут им глаза мисс Эллиан.
Из купола цирка лился ослепительный электрический свет. Две тысячи
разместившихся в цирке локоть к локтю человек окаменели.
Публика была очень пестрая: старики и молодые женщины, родители с
детьми, школьницы со своими учительницами. Людей этих разделяли лишь ряды
скамеек или стульев да еще цена билетов. Одни, заполнявшие галерку, стояли;
другие сидели вокруг решетки в обитых красным плюшем креслах.
Все забыли о своих домашних заботах, о повседневных маленьких радостях
и огорчениях и не отрываясь глядели на арену.
Кто из них на улице не пугался какой-нибудь неожиданно залаявшей шавки
с хвостом закорючкой? А дома кто не вздрагивал ночью, когда вдруг скрипнет
мебель или из-под шкафа покажется мышка с глазами как черные бусинки?
Здесь все эти страхи казались смешными. Все чувствовали себя
участниками чего-то необычайного, чудесного.
Двенадцать диких, укрощенных зверей слушались одного женского взгляда,
хлопка хлыста с шелковой кисточкой, поданного кончиком пальца знака.
Тишина. Не слышно ни шелеста программ, ни разговоров, ни скрипа
скамеек, ни покашливания.
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
Так напечатано в программе.
Последнее, прощальное представление.
Завтра цирковая палатка будет сложена, а звери уедут в белых вагонах в
другой город. Может быть, они никогда больше сюда не вернутся. О них будет
напоминать лишь пустырь возле городского сада.
Взрослые вернутся к своим обычным занятиям и заботам; дети -- к
животным из войлока, плюша или раскрашенного дерева.
Мальчики, увлеченные своими играми, скоро забудут, что на свете
существуют звери дикой, несравненной красоты, с бархатной шкурой и желтыми,
будто стеклянными глазами; звери, прыжок которых описывает дугообразную
линию пущенного из рогатки камня. И опять пугливые девочки будут
вздрагивать, когда из-за забора вдруг залает на них шавка с хвостом
закорючкой или когда по комнате пробежит, как заводная игрушка, мышь.
Поэтому все они, мальчики и девочки, собрались сегодня здесь, чтобы еще
раз -- в последний раз -- увидеть два чуда, которые показывает на своем
прощальном представлении цирк Струцкого:
МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ФРАМ
Тигры, образуя круг, ждали на своих деревянных шарах.
Женщина в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими разноцветными
камнями отступила на шаг.
Двенадцать одинаковых, грациозных прыжков -- и тигры очутились возле
нее, легли кругом, положив морды на вытянутые лапы. Теперь казалось, что
вокруг женщины раскрылся гигантский подсолнечник с двенадцатью оранжевыми
лепестками, перечерченными блестящими бархатными черными полосами.
Рука женщины принялась гладить круглые головы, мягкие уши, влажные
морды. Она ласкала своих тигров. Она довольна ими.
Внучке старого господина стало стыдно при мысли, что дома ее не
слушается даже кот Пуфулец.
Еще на прошлой неделе в самом разгаре игры он ни с того, ни с сего
поцарапал ей щеку.
Выше, в заднем ряду, курносый мальчик с сияющими глазами поднялся на
цыпочки, чтобы лучше видеть.
Это -- Петруш, младший сынок рабочего одного из заводов города. Как и
многие другие его сверстники, он целую неделю торчал у входа в цирк и скопил
по грошам стоимость билета. Теперь ему хотелось не пропустить ничего из
того, что происходило на арене: не зря же он с таким напряженным вниманием
читал и перечитывал афишу, невзирая на холод и мокрый снег! И не зря с такой
завистью смотрел на входившую в цирк публику. Теперь, когда он наконец
здесь, как не превратиться в слух, не глядеть во все глаза?!
Окруженная тиграми мисс Эллиан подняла руки -- звери могут встать, --
потом щелкнула хлыстом. Резиновым, неслышным шагом тигры вернулись на свои
места, уселись на шары и замерли в ожидании новой команды. Женщина в
золотистом платье со сверкающими камнями подняла обтянутый бумагой обруч и
подожгла другой такой же, на железной подставке.
Снова щелкнул хлыст.
Один за другим звери отделяются от лакированных шаров, в длинном прыжке
пролетают сквозь бумажный круг и, едва коснувшись песка, плавно переносят
вытянутое туловище сквозь второй, пылающий круг.
Самый молодой и строптивый тигр не встретил повелительного взгляда
укротительницы. Притворяясь, будто он не понял, что от него хотят, зверь
пытается пролезть под объятым пламенем обручем, потом преспокойно
усаживается на свой шар и лениво, со скучающим видом зевает.
-- Это Раджа. Его зовут Раджа! -- шепчет девочка. -- Я запомнила его с
прошлого воскресенья. Самый из всех злой...
Укротительница не окликнула его по имени, не тронула шелковой кисточкой
хлыста, не копнула гневно песок носком туфельки. Она только раз пристально
взглянула на него и подняла круг.
Тигр оскалился.
-- Мне страшно! Идем домой, дедушка, мне страшно!.. -- испугалась
девочка и вцепилась в рукав деда.
-- Шш...
Но кудрявой голубоглазой девочке в белой шубке и белой шапочке нечего
было бояться.
Стальной взгляд укротительницы снова пересилил упрямство молодого
строптивого тигра.
Раджа потупился, гибким движением слез с шара, напряг мускулы под
бархатной шкурой и в два прыжка молниеносно пронесся через бумажные круги,
один из которых продолжал полыхать.
Потом смирно вернулся на свое место. Его глаза смущенно просили
прощения. Он знал, что его ждет.
Когда он вернется в свою клетку, его накажут несколькими сильными
ударами по морде, но не тем тоненьким хлыстиком с шелковой кисточкой,
которым укротительница пользуется на представлении, а кожаным арапником, что
очень больно. А когда придет время кормежки, вместо куска сырого мяса он
получит ведро воды. Наказание это было ему знакомо. Знаком ему был и другой
облик женщины в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими камнями, облик,
которого не видел никто из людей, заполнявших партер, ложи и галерку. За
кулисами мисс Эллиан меняла сверкающий туалет, в котором она появлялась
перед публикой, на старую кожаную тужурку и короткую запятнанную юбку. И уже
не улыбалась пленительно, посылая во все стороны воздушные поцелуи, в то
время как цирк сотрясался от аплодисментов.
Она вооружается острым железным прутом и арапником с вплетенным в конце
свинцом, хрипло кричит на тигров, бьет их и тычет им в ребра острым прутом.
Она груба и беспощадна с ними, потому что хозяин -- он же директор -- цирка,
человек куда более жестокий и жадный, чем его звери, не допускает ни
малейшего отклонения от своих приказаний. Ему вечно кажется, что все
лодырничают, мало работают. Ему хочется, чтобы номера программы были еще
более рискованными. Все артисты для него -- дармоеды.
-- Я вас на улицу выкину, -- то и дело грозится он. -- Подыхайте потом
с голоду!
Дрессировщиков он осыпает бранью, мечет громы и молнии. А те с перепугу
вымещают обиду на животных. Все страдают, все терпят. Все знают, что иного
выхода нет. Их тяжелый труд, их страдания, взимаемые с них по любому поводу
штрафы обогащают хозяина. Он богатеет с каждым днем, с каждым
представлением. Это -- самый опасный, самый ненасытный из всех зверей цирка.
Но все это происходит за кулисами, в зверинце, после того, как публика
расходится и огни гаснут.
Да, молодой строптивый Раджа знает, что его ждет. Знает он и то, что
его сейчас вызовут движением хлыста на середину арены.
Укротительница откроет ему руками пасть и вложит свою завитую головку
между его страшных клыков. Она проделает это с ним, Раджой, именно потому,
что у него репутация самого злого, самого непокорного из всех двенадцати
тигров, а мисс Эллиан хочет показать, что она ничего, решительно ничего не
боится. Номер этот повторяется три вечера сряду. "А что, -- думает Раджа, --
если чуточку, самую чуточку, сжать челюсти?" Череп ненавистной женщины
треснет, как яичная скорлупа, как кости тех антилоп, которых он убивал на
свободе, в джунглях далекой Бенгалии, бросаясь из чащи на свою жертву.
Раджа зевает на лакированном деревянном шаре.
Тигр знает, что никогда этого не сделает, -- он теперь во власти людей.
Взгляд горящих зеленых глаз укротительницы в самом зародыше убивает
всякую попытку сопротивления. Раджа сейчас такое же ничтожество, как
уродины-обезьяны в зверинце, которые угодливо попрошайничают, чтобы
полакомиться земляными орехами или мандаринами.
Тигр опускает веки на желтые, будто стеклянные глаза с раскосо
суженными зрачками, как у домашних кошек в полдень. Он больше не видит ни
мисс Эллиан, ни публику за решеткой.
Тигр видит то, что предстает перед ним всегда, как только он закроет
глаза.
Тропический лес. Широкая листва, непролазная чаща, свисающие до земли
лианы, птицы всех цветов радуги. С шелковистым шелестом проходят павлины,
порхают колибри, которые не больше насекомых, и громадные бабочки,
неуступающие в размере птицам. Что это раскачивается на дереве? Ветка или
змея? Откуда шорох: от ветра или среди широких листьев крадется другой тигр,
чужой? Ну, конечно, там есть заросшее бамбуком озерцо... Как хорошо известны
ему эти места! Сколько раз он прятался там, притаившись, выслеживая антилоп,
которые приходили на водопой! Ждал час и два, а то, случалось, и до поздней
ночи; менял место, смотря по направлению ветра, чтобы его не почуяли.
Наконец появлялись антилопы. Две, три, иногда только одна... Озираясь
пугливыми, влажными глазами, она нюхала воздух. Шагов на мягкой земле не
слышно. Вот она нагнулась к воде, вздрогнула, насторожила уши, вытянула шею
среди листьев лотоса. В этот миг он, как спущенная из лука стрела, прыгал из
чащи прямо на спину своей жертвы: она не успевала издать ни одного звука,
даже не дергалась в его клыках. Но бывало, что с добычей приходилось
повозиться. Трещали ветки, дебри оглашались диким ревом. Однажды дикий
буйвол... Раджа почуял его издали, подкараулил, прыгнул ему на хребет, но
буйвол перекинул его через голову, навалился на него, подмял под себя,
собираясь поддеть рогами. Лес замер в гробовом молчании. Обезьяны
попрятались по дуплам, остальные звери приникли к земле. Это был жестокий
поединок между хозяевами джунглей! Слышно было только их тяжелое дыхание,
прерываемое мычанием буйвола. Одолел все же он, Раджа... Потом, в другой
раз, было сражение со слоном, который схватил его хоботом, намереваясь
грохнуть оземь и раздавить толстыми, как бревна, ногами... Но в конце концов
убежал не Раджа, а слон с растерзанным в клочья хоботом и окровавленным
глазом. И долго еще среди ночи раздавался его гневный топот, ломались ветки,
срывались с деревьев пологи лиан, валились на землю заросли бамбука. А трое
вооруженных копьями охотников, которые хотели его окружить, и все трое
достались ему на обед!.. С тех пор о Радже пошла молва. Его боялась вся
округа. Все называли его ТИРАНОМ. Так называли его все. И у всех дрожали
поджилки, когда лес оглашался ревом. Никто больше не отваживался выходить на
лесные тропы. Люди поклялись предать его смерти, а сами смертельно боялись
его. Издали почуяв приближение человека, он подкрадывался к нему с такой
осторожностью, что не слышал своего дыхания. Делал несколько шагов,
останавливался... Еще шаг... прыжок. Удар клыками. Все! На водопое, куда
приходили антилопы, он неизменно оставался хозяином. Но однажды ночью его
лапу сжали железные тиски. Он попробовал разгрызть капкан. Лес огласился его
испуганным ревом. Пленник попытался вырваться, даже оставить свою лапу, в
капкане. Напрасная мука! Глубокая рана, нанесенная железом, дает о себе
знать до сих пор, когда холодно или идет дождь. Обессиленный болью и потерей
крови, он вытянулся на земле и стал ждать смерти, примиренно, не жалуясь на
судьбу. Только через неделю пришли люди с топорами, чтобы забрать его,
полумертвого от жажды и голода. Они отняли у него право спокойно умереть.
И вот он здесь.
Его отделяет от всего света железная решетка.
Его привезли сюда, и теперь он дрожит от страха, когда щелкает хлыст с
шелковой кисточкой. Этому предшествовали долгие, мучительные месяцы
дрессировки. Теперь он опускает глаза под взглядом женщины, единственное
оружие которой -- хлыстик с шелковой кисточкой. От нее нет спасения нигде!
Обезьяны бросают в него апельсинными и банановыми корками, строют рожи и
чешутся, карабкаясь по прутьям решетки, делают ему знаки своими неугомонными
лапами, когда его провозят мимо них в клетке на колесах. Только когда он
ревет, их внезапно обуревает ужас, как в джунглях, и тогда они смешно
корчатся, стараясь куда-нибудь спрятаться.
Шелковая кисточка слегка коснулась его морды. Это было совсем легкое,
воздушное прикосновение, почти ласка. Но тигр знал, что это выговор, знал,
что обещает такая ласка: злой арапник и железный прут.
Но куда денешься? Выбора нет. Поэтому он послушно слез с деревянного
шара, как того требовала программа представления.
Зрители затаили дыхание. В цирке водворилась такая тишина, что с
далекой улицы донеслись гудки автомобилей и грохот трамваев.
Двенадцать тигров улеглись среди арены, образовав круг. Мисс Эллиан
подобрала подол платья, бросила хлыст, легла на спину в середине этого
круга, скрестив на груди руки, и вложила голову в раскрытую пасть Раджи. Ее
затылок опирался на его клыки, как на откидной подголовник зубоврачебного
кресла.
Тигр моргает большими желтыми, будто стеклянными глазами. Вот если бы
немного придавить ненавистную голову зубами!.. Хоть немножко!.. Но глаза
женщины сверлят его. Он не видит их, но чувствует их пронизывающий взгляд.
Ах, как он его чувствует! И Раджа не сжимает челюстей, а лежит неподвижно,
как чучело, с открытой пастью.
Петруш, мальчик с блестящими глазами, сжал кулаки, вытянул шею и, сам
того не замечая, пробрался поближе к арене, чтобы лучше видеть, что там
происходит.
Девочка со светлыми локонами прикусила губку. Сердце ее бьется так
сильно, что того и гляди выскочит из маленькой груди. Кое-кто закрыл глаза.
Другие заткнули уши, чтобы не услышать вопля укротительницы. Даже у дедушки
белокурой девочки чуть задрожала рука на набалдашнике из слоновой кости,
который украшал его трость. Он уже видел раз, как тигры растерзали
укротителя, и знает, что этим кончают почти все дрессировщики диких зверей.
Знает также, что звери в таких случаях бросаются на решетку, яростно рычат и
кусают друг друга.
-- Гоп!
Грациозный прыжок, и женщина снова на ногах, посреди арены.
Она встряхивает иссиня-черными кудрями и откидывает шуршащий шлейф
платья носком туфельки. Улыбается, кланяется публике и, отвечая на бурные
аплодисменты, посылает воздушные поцелуи в ложи, партер, на галерку.
На обтянутом красным сукном помосте оркестр заиграл марш всеми своими
барабанами, трубами, флейтами и кларнетами... Дзинь-дзинь!
Дзинь-дзинь! -- позвякивал треугольник под ударами серебряного
молоточка.
Марш торжественный, церемониальный.
Через ворота в глубине арены двенадцать бенгальских тигров возвращаются
в свои клетки.
Они идут гуськом, как смирные домашние кошки, помахивая тяжелыми
длинными хвостами, не глядя ни вправо, ни влево большими желтыми, словно
стеклянными глазами.
Бархатные лапы ступают по песку мягко, бесшумно.
 * * *
* * *
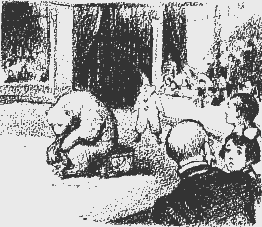 II. ФРАМ КАПРИЗНИЧАЕТ
Это был настоящий прощальный вечер.
Никогда еще у цирка Струцкого не было более богатой программы. Гимнасты
и эквилибристы. Лошади и слоны. Обезьяны и львы. Пантеры и собаки. Акробаты
и клоуны. И все они состязались в ловкости и смелости, в выносливости и
презрении к смерти, словно заранее решив оставить по себе неизгладимую
память.
Публика переходила от волнения к взрывам хохота, от изумления к
радости, доставляемой выходками паяцев в широких панталонах и колпаках с
колокольчиком.
Всех пробрала дрожь при виде сальто-мортале гимнастов в черном трико.
На груди у них был вышит белый череп. Они летали с одной трапеции на другую
без защитной сетки, которая обычно натягивалась под ними.
-- Хватит! Перестаньте! Довольно! -- слышались отовсюду, из партера и с
галерки, возгласы зрителей, испуганных этой безумной игрой со смертью.
Но гимнасты с белым черепом на черном трико только трясли головой: что
значит "довольно"? Терпение, господа, у нас есть и другие номера!
Их было четверо: двое мужчин и две женщины.
Они раскачивались в воздухе на тонких трапециях, прикрепленных к
колосникам цирка-шапито, под ослепительно горевшими лампочками.
Перекликались, звали друг друга, повисая над пустотой то тут, то там и через
секунду опять возвращаясь на прежнее место. Они скрещивались в воздухе,
скользили, меняя руки, с одной трапеции на другую, соединялись в одну черную
гроздь тел, разматывались цепочкой и вновь оказывались на раскачивающихся
трапециях, улыбаясь онемевшей от страха публике и натирая ладони белым
порошком, чтобы начать все снова.
Гимнасты соперничали в ловкости с белками, которые живут в лесу, но у
белок нет на груди черепа. Им не грозит опасность сорваться от малейшей
ошибки и разбиться насмерть на песке, утоптанном ногами людей и копытами
лошадей.
Потом настал черед громадных слонов с пепельной кожей и ушами, как
лопухи. Они грузно выступали на своих похожих на толстые бревна ногах,
поднимали хобот, чтобы, как из душа, окатить себе спину холодной водой,
вставали на дыбы и танцевали в такт музыке. Это были добродушные великаны.
Они слушались тоненького прутика и забавно дудели в горн хоботом.
Не преминул появиться на арене и глупый Августин.
Как всегда, этот лопоухий простофиля показался совершенно некстати в
глубине арены из-за бархатного, вишневого цвета занавеса. Фалды его фрака
волочились по песку. Длиннейшие туфли напоминали лыжи. Высоченный
крахмальный воротничок казался надетой на шею манжетой. Костюм его дополняли
пять напяленных один на другой жилетов и пестрый галстук. Нос у Августина
напоминал спелый помидор, а кирпичного цвета волосы торчали, как иглы
испуганного ежа. На пощечины и удары по голове широкой доской он не обращал
никакого внимания. Внезапно на лбу у него выросла увенчанная красной
лампочкой шишка, из волос вырвались пламя и дым. Когда он упал, споткнувшись
о ковер, где-то в задней части панталон у него сама собой заиграла губная
гармошка. Потом он стащил кухонные ходики и, пристегнув их на цепочку,
принялся горделиво расхаживать по арене, подражая важному барину на главной
улице города. Ходики оказались в то же время будильником и зазвонили у него
в кармане в ту секунду, когда их хозяин обратился к нему с вопросом: не
знает ли Августин, кто украл у него часы? После новых проделок,
сопровождавшихся, по обыкновению, неистовым враньем, он поссорился с другими
клоунами, Тото и Тэнасе, мешая им петь и требуя, чтоб они научили его этому
искусству.
И как полагается, простофиля Августин неизменно оставался в дураках.
Голубоглазая девочка в белой шапочке забыла про только что испытанные
страхи и уже не цепляется за рукав дедушки: раскрасневшаяся от хохота, она
топает ножками.
Топал ногами и Петруш в своем поношенном пальтишке. Не обращая внимания
на строгий взгляд билетера в синей ливрее с позолоченными пуговицами, он все
еще стоял в партере, у самой арены.
К счастью, в это время сзади к Августину подошел осел, схватил его
зубами за панталоны и уволок с арены, чтоб тот не путался под ногами.
Японские акробаты виртуозно жонглировали тарелками, бутылками, мячами,
апельсинами и серсо. Потом был парад лошадей, и наездница в короткой юбочке
показала чудеса вольтижировки. Ее сменил силач, который выдержал на груди
тяжесть мельничного жернова с пятью стоявшими на нем людьми, пока другие
атлеты не разбили жернова молотками. Обезьяны обедали за столом и катались
на автомобильчике, который был не больше детской коляски. Шофером была тоже
обезьяна. Она умела ездить только на большой скорости и отчаянно, не
переставая, сигналила. На крутом вираже автомобильчик перевернулся посреди
арены, и самая старая из обезьян в наказанье схватила незадачливого шофера
за уши и пинком прогнала его прочь. Но самой забавной была обезьянка,
умевшая играть на гармонике и курить.
Вдоволь насмеявшись, зрители снова склонились над программами.
Послышался нетерпеливый шорох.
Недоставало Фрама, белого медведя.
Почему Фрам заставляет себя ждать?
Этого еще никогда не бывало.
Фрам превосходил в искусстве всех цирковых зверей. Он не нуждался в
укротителе. Не нужно было понукать его хлыстом или показывать что делать. Он
выходил на арену один, на задних лапах, выпрямившись во весь рост, как
человек. Отвешивал поклоны вправо и влево, вперед и назад. Под грохот
аплодисментов прогуливался вокруг арены, заложив передние лапы за спину.
Потом требовал лапой тишины и самостоятельно начинал свою программу: лазил
на шест, как матрос на мачту корабля, катался на громадном велосипеде,
уверенно переезжая шаткие мостики, делал двойные сальто-мортале и пил из
бутылки пиво.
Он умел быть смешным и серьезным.
Лапой вызывал из партера или с галерки охотников бороться с ним или
боксировать. И на галерке всегда находился желающий помериться с ним силами.
Обычно это был один из цирковых атлетов, нарочно с этой целью смешавшийся с
толпой. Поединок вызывал дружный смех, потому что Фрам был очень сильный, но
в то же время совсем ручной и большой шутник. Одним мягким толчком он
нокаутировал противника, потом, размахивая лапой, принимался считать; раз,
два, три, четыре, пять... Покончив со счетом, он хватал противника под
мышки, поднимал его и кидал, как тюк, на песок. Тот кубарем катился под ноги
публике и вставал, отряхиваясь, под всеобщий хохот.
Расправившись с одним, Фрам лапой вызывал другого: кто еще охотник?
Выходи, не робей!
Но охотников больше не находилось. В ответ ему слышался смех. Белый
медведь с презрительной жалостью складывал лапы: чего ж, мол, смеетесь?
Кишка тонка?.. Там, наверху-то, каждый храбрец!..
Его прыжки через голову, его акробатические упражнения на передних
лапах, номер, когда он шел колесом вокруг арены, вызывали изумление и бурный
восторг.
Дети любили Фрама за то, что он их смешил.
Взрослые восторгались им потому, что было и в самом деле удивительно,
как громоздкий и дикий зверь, завезенный из ледяных пустынь, может быть
таким ручным, понятливым и подвижным.
Представление, на котором отсутствовал Фрам, было как обед без
сладкого.
Другое дело мисс Эллиан со своими двенадцатью бенгальскими тиграми. Ее
номер показывал, что может сделать женщина только взглядом и тоненьким
хлыстиком из самых свирепых хищников азиатских лесов. Она держала всех в
напряжении. Когда тигры уходили, публика облегченно вздыхала.
Появление Фрама зрители встречали совсем иначе. Это был громадный,
могучий зверь, рожденный в стране вечных льдов, но кроткий, как ягненок, и
понятливый, как человек. Для его номеров не нужно было ни хлыста, ни
повелительного взгляда. Не нужно было показывать ему место на арене или
напоминать ежеминутно, что он должен делать. Его наградой были аплодисменты.
А Фрам любил аплодисменты.
Видно было, что он понимает их смысл и ждет их, что они доставляют ему
удовольствие.
Да, он любил аплодисменты и любил публику, особенно детей. Заметив, что
мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу; пусть угостит и его.
Благодарил, по-солдатски прикладывая лапу к голове. Если ему доставалось
несколько конфет, он съедал только одну, а остальные предлагал, вытянув
перевернутую лапу, другим детям, словно догадываясь, что не все они
одинаково часто лакомятся сластями. Какой-нибудь смельчак спускался на арену
за гостинцем. Фрам гладил его по головке огромной лапой, внезапно
становившейся легкой и мягкой, как рука матери.
Мальчика, получавшего конфеты, он не отпускал обратно на галерку, где
тесно и плохо видно, а, перегнувшись через барьер, подхватывал лапой стул,
ставил его в ложу и знаком приглашал счастливца сесть. Если же тот не
решался, конфузился или боялся, белый медведь поднимал его двумя лапами, сам
сажал на стул и, приложив к морде коготь, приказывал сидеть смирно и ничего
не бояться. Потом поворачивался к билетерам, показывал им на мальчика и клал
себе лапу на грудь: пусть знают, что это его подопечный и что он за него
отвечает.
Как же после этого было не любить Фрама? Как мог он не быть всеобщим
баловнем?
II. ФРАМ КАПРИЗНИЧАЕТ
Это был настоящий прощальный вечер.
Никогда еще у цирка Струцкого не было более богатой программы. Гимнасты
и эквилибристы. Лошади и слоны. Обезьяны и львы. Пантеры и собаки. Акробаты
и клоуны. И все они состязались в ловкости и смелости, в выносливости и
презрении к смерти, словно заранее решив оставить по себе неизгладимую
память.
Публика переходила от волнения к взрывам хохота, от изумления к
радости, доставляемой выходками паяцев в широких панталонах и колпаках с
колокольчиком.
Всех пробрала дрожь при виде сальто-мортале гимнастов в черном трико.
На груди у них был вышит белый череп. Они летали с одной трапеции на другую
без защитной сетки, которая обычно натягивалась под ними.
-- Хватит! Перестаньте! Довольно! -- слышались отовсюду, из партера и с
галерки, возгласы зрителей, испуганных этой безумной игрой со смертью.
Но гимнасты с белым черепом на черном трико только трясли головой: что
значит "довольно"? Терпение, господа, у нас есть и другие номера!
Их было четверо: двое мужчин и две женщины.
Они раскачивались в воздухе на тонких трапециях, прикрепленных к
колосникам цирка-шапито, под ослепительно горевшими лампочками.
Перекликались, звали друг друга, повисая над пустотой то тут, то там и через
секунду опять возвращаясь на прежнее место. Они скрещивались в воздухе,
скользили, меняя руки, с одной трапеции на другую, соединялись в одну черную
гроздь тел, разматывались цепочкой и вновь оказывались на раскачивающихся
трапециях, улыбаясь онемевшей от страха публике и натирая ладони белым
порошком, чтобы начать все снова.
Гимнасты соперничали в ловкости с белками, которые живут в лесу, но у
белок нет на груди черепа. Им не грозит опасность сорваться от малейшей
ошибки и разбиться насмерть на песке, утоптанном ногами людей и копытами
лошадей.
Потом настал черед громадных слонов с пепельной кожей и ушами, как
лопухи. Они грузно выступали на своих похожих на толстые бревна ногах,
поднимали хобот, чтобы, как из душа, окатить себе спину холодной водой,
вставали на дыбы и танцевали в такт музыке. Это были добродушные великаны.
Они слушались тоненького прутика и забавно дудели в горн хоботом.
Не преминул появиться на арене и глупый Августин.
Как всегда, этот лопоухий простофиля показался совершенно некстати в
глубине арены из-за бархатного, вишневого цвета занавеса. Фалды его фрака
волочились по песку. Длиннейшие туфли напоминали лыжи. Высоченный
крахмальный воротничок казался надетой на шею манжетой. Костюм его дополняли
пять напяленных один на другой жилетов и пестрый галстук. Нос у Августина
напоминал спелый помидор, а кирпичного цвета волосы торчали, как иглы
испуганного ежа. На пощечины и удары по голове широкой доской он не обращал
никакого внимания. Внезапно на лбу у него выросла увенчанная красной
лампочкой шишка, из волос вырвались пламя и дым. Когда он упал, споткнувшись
о ковер, где-то в задней части панталон у него сама собой заиграла губная
гармошка. Потом он стащил кухонные ходики и, пристегнув их на цепочку,
принялся горделиво расхаживать по арене, подражая важному барину на главной
улице города. Ходики оказались в то же время будильником и зазвонили у него
в кармане в ту секунду, когда их хозяин обратился к нему с вопросом: не
знает ли Августин, кто украл у него часы? После новых проделок,
сопровождавшихся, по обыкновению, неистовым враньем, он поссорился с другими
клоунами, Тото и Тэнасе, мешая им петь и требуя, чтоб они научили его этому
искусству.
И как полагается, простофиля Августин неизменно оставался в дураках.
Голубоглазая девочка в белой шапочке забыла про только что испытанные
страхи и уже не цепляется за рукав дедушки: раскрасневшаяся от хохота, она
топает ножками.
Топал ногами и Петруш в своем поношенном пальтишке. Не обращая внимания
на строгий взгляд билетера в синей ливрее с позолоченными пуговицами, он все
еще стоял в партере, у самой арены.
К счастью, в это время сзади к Августину подошел осел, схватил его
зубами за панталоны и уволок с арены, чтоб тот не путался под ногами.
Японские акробаты виртуозно жонглировали тарелками, бутылками, мячами,
апельсинами и серсо. Потом был парад лошадей, и наездница в короткой юбочке
показала чудеса вольтижировки. Ее сменил силач, который выдержал на груди
тяжесть мельничного жернова с пятью стоявшими на нем людьми, пока другие
атлеты не разбили жернова молотками. Обезьяны обедали за столом и катались
на автомобильчике, который был не больше детской коляски. Шофером была тоже
обезьяна. Она умела ездить только на большой скорости и отчаянно, не
переставая, сигналила. На крутом вираже автомобильчик перевернулся посреди
арены, и самая старая из обезьян в наказанье схватила незадачливого шофера
за уши и пинком прогнала его прочь. Но самой забавной была обезьянка,
умевшая играть на гармонике и курить.
Вдоволь насмеявшись, зрители снова склонились над программами.
Послышался нетерпеливый шорох.
Недоставало Фрама, белого медведя.
Почему Фрам заставляет себя ждать?
Этого еще никогда не бывало.
Фрам превосходил в искусстве всех цирковых зверей. Он не нуждался в
укротителе. Не нужно было понукать его хлыстом или показывать что делать. Он
выходил на арену один, на задних лапах, выпрямившись во весь рост, как
человек. Отвешивал поклоны вправо и влево, вперед и назад. Под грохот
аплодисментов прогуливался вокруг арены, заложив передние лапы за спину.
Потом требовал лапой тишины и самостоятельно начинал свою программу: лазил
на шест, как матрос на мачту корабля, катался на громадном велосипеде,
уверенно переезжая шаткие мостики, делал двойные сальто-мортале и пил из
бутылки пиво.
Он умел быть смешным и серьезным.
Лапой вызывал из партера или с галерки охотников бороться с ним или
боксировать. И на галерке всегда находился желающий помериться с ним силами.
Обычно это был один из цирковых атлетов, нарочно с этой целью смешавшийся с
толпой. Поединок вызывал дружный смех, потому что Фрам был очень сильный, но
в то же время совсем ручной и большой шутник. Одним мягким толчком он
нокаутировал противника, потом, размахивая лапой, принимался считать; раз,
два, три, четыре, пять... Покончив со счетом, он хватал противника под
мышки, поднимал его и кидал, как тюк, на песок. Тот кубарем катился под ноги
публике и вставал, отряхиваясь, под всеобщий хохот.
Расправившись с одним, Фрам лапой вызывал другого: кто еще охотник?
Выходи, не робей!
Но охотников больше не находилось. В ответ ему слышался смех. Белый
медведь с презрительной жалостью складывал лапы: чего ж, мол, смеетесь?
Кишка тонка?.. Там, наверху-то, каждый храбрец!..
Его прыжки через голову, его акробатические упражнения на передних
лапах, номер, когда он шел колесом вокруг арены, вызывали изумление и бурный
восторг.
Дети любили Фрама за то, что он их смешил.
Взрослые восторгались им потому, что было и в самом деле удивительно,
как громоздкий и дикий зверь, завезенный из ледяных пустынь, может быть
таким ручным, понятливым и подвижным.
Представление, на котором отсутствовал Фрам, было как обед без
сладкого.
Другое дело мисс Эллиан со своими двенадцатью бенгальскими тиграми. Ее
номер показывал, что может сделать женщина только взглядом и тоненьким
хлыстиком из самых свирепых хищников азиатских лесов. Она держала всех в
напряжении. Когда тигры уходили, публика облегченно вздыхала.
Появление Фрама зрители встречали совсем иначе. Это был громадный,
могучий зверь, рожденный в стране вечных льдов, но кроткий, как ягненок, и
понятливый, как человек. Для его номеров не нужно было ни хлыста, ни
повелительного взгляда. Не нужно было показывать ему место на арене или
напоминать ежеминутно, что он должен делать. Его наградой были аплодисменты.
А Фрам любил аплодисменты.
Видно было, что он понимает их смысл и ждет их, что они доставляют ему
удовольствие.
Да, он любил аплодисменты и любил публику, особенно детей. Заметив, что
мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу; пусть угостит и его.
Благодарил, по-солдатски прикладывая лапу к голове. Если ему доставалось
несколько конфет, он съедал только одну, а остальные предлагал, вытянув
перевернутую лапу, другим детям, словно догадываясь, что не все они
одинаково часто лакомятся сластями. Какой-нибудь смельчак спускался на арену
за гостинцем. Фрам гладил его по головке огромной лапой, внезапно
становившейся легкой и мягкой, как рука матери.
Мальчика, получавшего конфеты, он не отпускал обратно на галерку, где
тесно и плохо видно, а, перегнувшись через барьер, подхватывал лапой стул,
ставил его в ложу и знаком приглашал счастливца сесть. Если же тот не
решался, конфузился или боялся, белый медведь поднимал его двумя лапами, сам
сажал на стул и, приложив к морде коготь, приказывал сидеть смирно и ничего
не бояться. Потом поворачивался к билетерам, показывал им на мальчика и клал
себе лапу на грудь: пусть знают, что это его подопечный и что он за него
отвечает.
Как же после этого было не любить Фрама? Как мог он не быть всеобщим
баловнем?
 И вдруг теперь Фрам почему-то заставляет себя ждать. Его нет. Программа
близится к концу. Его номер давно позади.
Публика начинает громко протестовать.
В первую очередь, конечно, галерка. Потом дети в партере и ложах:
-- Фрам!
-- Где Фрам?
-- Почему нет Фрама?
-- Фрама!
Голоса сливаются в хор и скандируют:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Раздавались в этом хоре и голоса совсем маленьких ребят, которые еще
даже не умели как следует произносить слова, но тоже требовали права
участвовать в общей радости:
-- Фла-ма!
-- Фла-ма!
Светлокудрая девочка в белой шапочке вовсе позабыла о том, как она в
страхе просила дедушку отвести ее домой. Теперь и она изо всех сил хлопает в
ладошки:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама! -- кричит Петруш, который видел ученого белого медведя только
на расклеенных в городе афишах, но знал про него все от других мальчиков.
-- Фрама!
-- Дамы и господа! Уважаемая публика!.. -- попробовал успокоить
зрителей директор, выйдя на середину арены.
Но никто его не слушал. Голоса перебивали его, публика продолжала
требовать:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Глупый Августин, Тото и Тэнасе появились в шкуре белого медведя. Так
обычно изображали они, дурачась, Фрама, вызывая хохот публики, когда его
номер кончался.
Но прежде их ждал на арене настоящий Фрам.
Он садился на барьер, как человек, подпирал морду лапой и
снисходительно смотрел на дурачества паяцев. Он понимал шутки и, возможно,
даже смеялся про себя.
Когда ему казалось, что клоуны играли свою роль плохо и подражали ему
неудачно, он вставал и вступал в игру: хватал обеими лапами медвежью шкуру,
под которой скрывались Тото и Тэнасе, и тряс ее, как мешок с орехами, потом
подбирал вывалившихся паяцев, сажал их на барьер -- Тото по одну сторону от
себя, Тэнасе по другую-- и прижимал им головы лапой, чтобы они сидели
смирно, глядели на него и учились клоунскому искусству.
Для наглядности Фрам принимался изображать самого себя. Его смешные
гримасы повторяли все, что он раньше проделывал внимательно и всерьез.
Глупый Августин топтался вокруг него и орал во всю глотку, открывая
накрашенный до ушей рот:
-- Учись, Тэнасе! Учись, Тото!.. Браво, Фрам!..
Он топал ногами, катался по песку, вставал и снова принимался
паясничать, пока Фрам не поворачивался к нему, глядя на него строгими
глазами и словно говоря: "Слушай, рожа, не довольно ли валять дурака?"
Тогда Августин пятился, путаясь в фалдах фрака, и не произносил больше
ни слова.
Теперь тройка клоунов никого не развеселила. Из их появления в
медвежьей шкуре и подражания Фраму ничего не вышло. Публика снова принялась
свистеть и топать ногами, вызывая белого медведя:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Вишневый занавес в глубине арены, из-за которого выходили животные,
гимнасты и акробаты, заколыхался, то раздвигаясь, то сходясь обратно.
Там что-то происходило, но что именно -- никто не знал.
Директор еще два раза появлялся на арене, но ему даже не давали начать:
"Дамы и господа, уважаемая публика!.." "Уважаемая публика" затыкала ему рот
неимоверным гамом:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Директор пожимал плечами и ретировался за вишневый занавес.
-- Не понимаю, что происходит, -- сказал старый господин белокурой
внучке. -- Уж не заболел ли Фрам? Возможно, он не в состоянии выступать...
Но девочка ничего не слышала, не желала слышать: хлопая в ладошки и
топая ногами, она кричала вместе со всеми:
-- Фрама! Фрама!
-- Этот медведь начал капризничать. Слишком его избаловали!.. Он,
наверно, воображает себя великим артистом. Точь-в-точь, как люди, милочка,
-- сказала своей соседке дама с острым носом и тонкими губами.
-- Я того же мнения, дорогая, -- согласилась с ней ее соседка, такая же
остроносая, но с еще более тонкими губами.
Обе страдали желудком. Им было прописано есть только вареный картофель,
и то без соли. Поэтому все на свете казалось им скверным и скучным, все, по
их мнению, капризничали. Весь вечер они морщили нос и ни разу не
аплодировали. Мисс Эллиан с бенгальскими тиграми им не понравилась. Не
угодили и гимнасты в черном трико с вышитым белым шелком черепом, которые
ежесекундно рисковали жизнью. Ни одной улыбки не мелькнуло на их постных
лицах, когда выступали со своими комичными проделками глупый Августин, Тото
и Тэнасе.
Это были очень надменные дамы. Лучше бы они вообще остались дома и
легли спать. Но тогда нельзя было бы рассказывать завтра обо всем, что они
видели и раскритиковали.
-- Все ясно. Медведь просто капризничает. Издевается над публикой.
Кудрявая девочка в белой шапочке перестала топать. Она слышала этот
разговор, потому что остроносые дамы сидели в ложе рядом. Она покраснела,
набралась храбрости и выступила в защиту своего любимца:
-- Он вовсе не капризничает. Фрам никогда не капризничает.
-- Это еще что такое? Ты, девочка, просто нахалка!
Дамы обиделись и надменно посмотрели на нее сквозь лорнет.
Девочка залилась румянцем.
Но оказавшийся тут же Петруш чуть не захлопал в ладоши, чуть было не
крикнул: "Молодчина! Так им и надо! Правильно, что ты поставила их на
место!"
-- Веди себя прилично, Лилика! -- пожурил ее дед, впрочем, больше для
вида, потому что в душе был с ней согласен.
-- Но ведь они сказали, дедушка, что Фрам капризничает и издевается над
нами... Фрам никогда не капризничает!
Дедушка хотел еще что-то прибавить, но не успел.
В цирке вдруг стало тихо.
Топание и крики прекратились, и на арену ковром легла тишина. Такая
тишина, какой не было ни когда с трапеции на трапецию перелетали гимнасты в
черном трико, ни когда мисс Эллиан клала голову в пасть тигру.
Из-за бархатного вишневого занавеса показался Фрам.
Одна лапа еще держала поднятый край занавеса.
Он остановился и обвел взглядом цирк: множество голов, множество глаз в
ложах, партере и на галерке.
Медведь выпустил занавес.
Прошествовал на середину арены. Поклонился, как всегда, публике,
-- Фрам!
-- Браво, Фрам!
-- Ура! Браво, Фрам! Ура!
Фрам неподвижно стоял среди арены, громадный, белый как снег. Точно так
стоят его братья в стране вечных снегов на плавучих ледяных островах,
поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше видеть, как другие белые медведи
уплывают в безбрежный океан на других ледяных островах.
Он стоял и глядел в пространство.
Потом шагнул вперед и провел лапой по глазам, словно снимая лежавшую на
них пелену.
Аплодисменты стихли.
Все ждали что будет дальше.
Все думали, что Фрам готовит какой-то сюрприз. Вероятно, новый номер,
труднее всех прежних. Обычно он начинал свою программу без промедления. И
тишины требовал сам. Теперь же она, казалось, удивляла его.
-- Фокусы! Смотрите, как он ломается! -- пискливым голосом заметила
одна из остроносых дам.
Петруш едва сдерживался, переступая с ноги на ногу и покусывая губы.
Голубоглазая девочка пронзила надменных дам возмущенным взглядом, но
ничего не сказала: дедушкина рука лежала на ее плече...
Рядом с Фрамом возвышался обтянутый белым сукном помост, на который он
обычно поднимался, чтобы поиграть гирями и показать эквилибристику с шестом.
Публика кидала ему апельсины, а он ловил их пастью.
Вот он уселся на край помоста и стиснул голову передними лапами -- поза
человека, которому хочется собраться с мыслями или вспомнить что-то важное,
а может, и такого, который что-то потерял и пришел в отчаяние.
-- Видишь, милочка, как он над нами издевается! -- обиженно проговорила
одна из остроносых дам. -- И за что, спрашивается, мы платим деньги?! За то,
чтобы над нами издевался какой-то медведь!..
Дедушкина рука чуть сжала плечо кудрявой девочки в белой шапочке. Он
чувствовал, что внучка кипит и готова ринуться в бой за своего Фрама.
Но Фрам и в самом деле вел себя на этот раз непонятно. Медведь,
казалось, забыл, где он, забыл, чего ждет от него публика.
Забыл, что две тысячи человек глядят на него двумя тысячами пар глаз.
-- Фрам! -- раздался чей-то ободряющий голос. Белый медведь вскинул
глаза...
"Ах да, -- словно говорил его взгляд. -- Вы правы! Я -- Фрам, и моя
обязанность вас развлекать..."
Он беспомощно развел лапами, поднес правую ко лбу, потом к сердцу,
потом снова ко лбу и опять к сердцу. Что-то, видно, не ладилось, произошла
какая-то заминка...
Еще несколько мгновений назад, раздвигая вишневый занавес, он думал,
что все будет по-прежнему: публика, дети, аплодисменты подтверждали эту
иллюзию.
А теперь опять все забылось. Зачем он здесь? Что хотят от него эти
люди?
-- Он болен, дедушка! -- дрогнувшим от жалости голосом произнесла
голубоглазая девочка. -- Болен!.. Почему его не оставят в покое, если он
нездоров?
Девочка забыла, что она тоже топала ножками, хлопала в ладоши и кричала
вместе со всеми: "Фрама! Фрама!"
Как мучает ее теперь за это совесть! В голубых глазах стоят слезы
раскаяния.
Но дедушка, который был учителем, много повидал на своем веку и прочел
много книжек, дал другое объяснение:
-- Нет, Лилика, он не болен! Тут что-то более серьезное... Настал час,
когда он больше не пригоден для цирка. Так бывает со всем белыми медведями.
Четыре, пять или шесть лет они не знают себе равных как артисты. Потом на
них что-то находит. Никто не знает, почему. Может быть, это -- зов ледяной
пустыни, где они родились... Но они уже больше не в состоянии проделывать те
штуки, которые всех удивляли. Они снова становятся обыкновенными белыми
медведями и живут так много лет, может быть, слишком много... Иногда они
вспоминают то, что знали прежде, принимаются плясать, повторяют когда-то
выученные движения. Но бессознательно, бессвязно, невпопад. Как цирковой
артист, Фрам с сегодняшнего вечера больше не существует!..
-- Не может этого быть, дедушка! Не говори так, дедушка!
По голосу внучки, по тому, как дрожало под его рукой ее плечо, старый
учитель понял, что она сейчас расплачется. Но промолчал.
Курносый мальчик с блестящими глазами все слышал. Ему тоже не верилось.
И страшно хотелось как-нибудь утешить Фрама.
А Фрам закрыл глаза лапами и стал очень похож на плачущего человека.
Наконец он встал и сделал всем прощальный знак, протягивая лапы, как он
делал каждый вечер, когда кончался его номер и гром аплодисментов
сопровождал его до самого выхода.
Потом опустился на все четыре лапы и сразу превратился в обыкновенное
животное.
И все так же, на четырех лапах, понурив голову, направился к вишневому
занавесу.
Публика опешила. Никто ничего не понимал. Никто не кричал, никто не
свистел, никто не звал его обратно.
Петруш, курносый мальчик с блестящими глазами, подавил горестный вздох.
Вишневый бархатный занавес сдвинулся и скрыл Фрама.
Все сторонились его в узких кулисах, которые вели к конюшням и
зверинцу. Никто не осмеливался приблизиться к Фраму. Белый медведь сам вошел
в свою клетку и улегся, положив голову на вытянутые лапы, в самом темном
углу, мордой к стенке.
-- Что все это означает? Чистое издевательство!.. -- послышался
сердитый голос одной из остроносых дам. -- Мы заплатили деньги. В программе
напечатано: "Белый медведь Фрам. Сенсационное прощальное представление!"
Сенсационная глупость! Сенсационное издевательство над публикой!..
В глазах девочки стояли слезы. Петруш только глянул на надменных дам и
с досады принялся крутить на своем пальтишке пуговицу. Пуговица оторвалась.
-- Ах, черт!
Надменные дамы сердито посмотрели на мальчика, вероятно, подумали, что
это восклицание относится к ним, а не к пуговице.
Появившийся на арене глупый Августин кувыркался, расплющивая о песок
свой похожий на помидор нос, гонялся за собственной тенью.
Но он никого не развеселил. Никто не смеялся.
За вишневым занавесом директор цирка просматривал список артистов и
животных. Список был прибит гвоздями к черной доске. Вид у директора был
мрачный. В руке он держал синий карандаш.
Наконец он решился и жирной чертой вычеркнул из списка имя Фрама,
белого медведя.
И вдруг теперь Фрам почему-то заставляет себя ждать. Его нет. Программа
близится к концу. Его номер давно позади.
Публика начинает громко протестовать.
В первую очередь, конечно, галерка. Потом дети в партере и ложах:
-- Фрам!
-- Где Фрам?
-- Почему нет Фрама?
-- Фрама!
Голоса сливаются в хор и скандируют:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Раздавались в этом хоре и голоса совсем маленьких ребят, которые еще
даже не умели как следует произносить слова, но тоже требовали права
участвовать в общей радости:
-- Фла-ма!
-- Фла-ма!
Светлокудрая девочка в белой шапочке вовсе позабыла о том, как она в
страхе просила дедушку отвести ее домой. Теперь и она изо всех сил хлопает в
ладошки:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама! -- кричит Петруш, который видел ученого белого медведя только
на расклеенных в городе афишах, но знал про него все от других мальчиков.
-- Фрама!
-- Дамы и господа! Уважаемая публика!.. -- попробовал успокоить
зрителей директор, выйдя на середину арены.
Но никто его не слушал. Голоса перебивали его, публика продолжала
требовать:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Глупый Августин, Тото и Тэнасе появились в шкуре белого медведя. Так
обычно изображали они, дурачась, Фрама, вызывая хохот публики, когда его
номер кончался.
Но прежде их ждал на арене настоящий Фрам.
Он садился на барьер, как человек, подпирал морду лапой и
снисходительно смотрел на дурачества паяцев. Он понимал шутки и, возможно,
даже смеялся про себя.
Когда ему казалось, что клоуны играли свою роль плохо и подражали ему
неудачно, он вставал и вступал в игру: хватал обеими лапами медвежью шкуру,
под которой скрывались Тото и Тэнасе, и тряс ее, как мешок с орехами, потом
подбирал вывалившихся паяцев, сажал их на барьер -- Тото по одну сторону от
себя, Тэнасе по другую-- и прижимал им головы лапой, чтобы они сидели
смирно, глядели на него и учились клоунскому искусству.
Для наглядности Фрам принимался изображать самого себя. Его смешные
гримасы повторяли все, что он раньше проделывал внимательно и всерьез.
Глупый Августин топтался вокруг него и орал во всю глотку, открывая
накрашенный до ушей рот:
-- Учись, Тэнасе! Учись, Тото!.. Браво, Фрам!..
Он топал ногами, катался по песку, вставал и снова принимался
паясничать, пока Фрам не поворачивался к нему, глядя на него строгими
глазами и словно говоря: "Слушай, рожа, не довольно ли валять дурака?"
Тогда Августин пятился, путаясь в фалдах фрака, и не произносил больше
ни слова.
Теперь тройка клоунов никого не развеселила. Из их появления в
медвежьей шкуре и подражания Фраму ничего не вышло. Публика снова принялась
свистеть и топать ногами, вызывая белого медведя:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Вишневый занавес в глубине арены, из-за которого выходили животные,
гимнасты и акробаты, заколыхался, то раздвигаясь, то сходясь обратно.
Там что-то происходило, но что именно -- никто не знал.
Директор еще два раза появлялся на арене, но ему даже не давали начать:
"Дамы и господа, уважаемая публика!.." "Уважаемая публика" затыкала ему рот
неимоверным гамом:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Директор пожимал плечами и ретировался за вишневый занавес.
-- Не понимаю, что происходит, -- сказал старый господин белокурой
внучке. -- Уж не заболел ли Фрам? Возможно, он не в состоянии выступать...
Но девочка ничего не слышала, не желала слышать: хлопая в ладошки и
топая ногами, она кричала вместе со всеми:
-- Фрама! Фрама!
-- Этот медведь начал капризничать. Слишком его избаловали!.. Он,
наверно, воображает себя великим артистом. Точь-в-точь, как люди, милочка,
-- сказала своей соседке дама с острым носом и тонкими губами.
-- Я того же мнения, дорогая, -- согласилась с ней ее соседка, такая же
остроносая, но с еще более тонкими губами.
Обе страдали желудком. Им было прописано есть только вареный картофель,
и то без соли. Поэтому все на свете казалось им скверным и скучным, все, по
их мнению, капризничали. Весь вечер они морщили нос и ни разу не
аплодировали. Мисс Эллиан с бенгальскими тиграми им не понравилась. Не
угодили и гимнасты в черном трико с вышитым белым шелком черепом, которые
ежесекундно рисковали жизнью. Ни одной улыбки не мелькнуло на их постных
лицах, когда выступали со своими комичными проделками глупый Августин, Тото
и Тэнасе.
Это были очень надменные дамы. Лучше бы они вообще остались дома и
легли спать. Но тогда нельзя было бы рассказывать завтра обо всем, что они
видели и раскритиковали.
-- Все ясно. Медведь просто капризничает. Издевается над публикой.
Кудрявая девочка в белой шапочке перестала топать. Она слышала этот
разговор, потому что остроносые дамы сидели в ложе рядом. Она покраснела,
набралась храбрости и выступила в защиту своего любимца:
-- Он вовсе не капризничает. Фрам никогда не капризничает.
-- Это еще что такое? Ты, девочка, просто нахалка!
Дамы обиделись и надменно посмотрели на нее сквозь лорнет.
Девочка залилась румянцем.
Но оказавшийся тут же Петруш чуть не захлопал в ладоши, чуть было не
крикнул: "Молодчина! Так им и надо! Правильно, что ты поставила их на
место!"
-- Веди себя прилично, Лилика! -- пожурил ее дед, впрочем, больше для
вида, потому что в душе был с ней согласен.
-- Но ведь они сказали, дедушка, что Фрам капризничает и издевается над
нами... Фрам никогда не капризничает!
Дедушка хотел еще что-то прибавить, но не успел.
В цирке вдруг стало тихо.
Топание и крики прекратились, и на арену ковром легла тишина. Такая
тишина, какой не было ни когда с трапеции на трапецию перелетали гимнасты в
черном трико, ни когда мисс Эллиан клала голову в пасть тигру.
Из-за бархатного вишневого занавеса показался Фрам.
Одна лапа еще держала поднятый край занавеса.
Он остановился и обвел взглядом цирк: множество голов, множество глаз в
ложах, партере и на галерке.
Медведь выпустил занавес.
Прошествовал на середину арены. Поклонился, как всегда, публике,
-- Фрам!
-- Браво, Фрам!
-- Ура! Браво, Фрам! Ура!
Фрам неподвижно стоял среди арены, громадный, белый как снег. Точно так
стоят его братья в стране вечных снегов на плавучих ледяных островах,
поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше видеть, как другие белые медведи
уплывают в безбрежный океан на других ледяных островах.
Он стоял и глядел в пространство.
Потом шагнул вперед и провел лапой по глазам, словно снимая лежавшую на
них пелену.
Аплодисменты стихли.
Все ждали что будет дальше.
Все думали, что Фрам готовит какой-то сюрприз. Вероятно, новый номер,
труднее всех прежних. Обычно он начинал свою программу без промедления. И
тишины требовал сам. Теперь же она, казалось, удивляла его.
-- Фокусы! Смотрите, как он ломается! -- пискливым голосом заметила
одна из остроносых дам.
Петруш едва сдерживался, переступая с ноги на ногу и покусывая губы.
Голубоглазая девочка пронзила надменных дам возмущенным взглядом, но
ничего не сказала: дедушкина рука лежала на ее плече...
Рядом с Фрамом возвышался обтянутый белым сукном помост, на который он
обычно поднимался, чтобы поиграть гирями и показать эквилибристику с шестом.
Публика кидала ему апельсины, а он ловил их пастью.
Вот он уселся на край помоста и стиснул голову передними лапами -- поза
человека, которому хочется собраться с мыслями или вспомнить что-то важное,
а может, и такого, который что-то потерял и пришел в отчаяние.
-- Видишь, милочка, как он над нами издевается! -- обиженно проговорила
одна из остроносых дам. -- И за что, спрашивается, мы платим деньги?! За то,
чтобы над нами издевался какой-то медведь!..
Дедушкина рука чуть сжала плечо кудрявой девочки в белой шапочке. Он
чувствовал, что внучка кипит и готова ринуться в бой за своего Фрама.
Но Фрам и в самом деле вел себя на этот раз непонятно. Медведь,
казалось, забыл, где он, забыл, чего ждет от него публика.
Забыл, что две тысячи человек глядят на него двумя тысячами пар глаз.
-- Фрам! -- раздался чей-то ободряющий голос. Белый медведь вскинул
глаза...
"Ах да, -- словно говорил его взгляд. -- Вы правы! Я -- Фрам, и моя
обязанность вас развлекать..."
Он беспомощно развел лапами, поднес правую ко лбу, потом к сердцу,
потом снова ко лбу и опять к сердцу. Что-то, видно, не ладилось, произошла
какая-то заминка...
Еще несколько мгновений назад, раздвигая вишневый занавес, он думал,
что все будет по-прежнему: публика, дети, аплодисменты подтверждали эту
иллюзию.
А теперь опять все забылось. Зачем он здесь? Что хотят от него эти
люди?
-- Он болен, дедушка! -- дрогнувшим от жалости голосом произнесла
голубоглазая девочка. -- Болен!.. Почему его не оставят в покое, если он
нездоров?
Девочка забыла, что она тоже топала ножками, хлопала в ладоши и кричала
вместе со всеми: "Фрама! Фрама!"
Как мучает ее теперь за это совесть! В голубых глазах стоят слезы
раскаяния.
Но дедушка, который был учителем, много повидал на своем веку и прочел
много книжек, дал другое объяснение:
-- Нет, Лилика, он не болен! Тут что-то более серьезное... Настал час,
когда он больше не пригоден для цирка. Так бывает со всем белыми медведями.
Четыре, пять или шесть лет они не знают себе равных как артисты. Потом на
них что-то находит. Никто не знает, почему. Может быть, это -- зов ледяной
пустыни, где они родились... Но они уже больше не в состоянии проделывать те
штуки, которые всех удивляли. Они снова становятся обыкновенными белыми
медведями и живут так много лет, может быть, слишком много... Иногда они
вспоминают то, что знали прежде, принимаются плясать, повторяют когда-то
выученные движения. Но бессознательно, бессвязно, невпопад. Как цирковой
артист, Фрам с сегодняшнего вечера больше не существует!..
-- Не может этого быть, дедушка! Не говори так, дедушка!
По голосу внучки, по тому, как дрожало под его рукой ее плечо, старый
учитель понял, что она сейчас расплачется. Но промолчал.
Курносый мальчик с блестящими глазами все слышал. Ему тоже не верилось.
И страшно хотелось как-нибудь утешить Фрама.
А Фрам закрыл глаза лапами и стал очень похож на плачущего человека.
Наконец он встал и сделал всем прощальный знак, протягивая лапы, как он
делал каждый вечер, когда кончался его номер и гром аплодисментов
сопровождал его до самого выхода.
Потом опустился на все четыре лапы и сразу превратился в обыкновенное
животное.
И все так же, на четырех лапах, понурив голову, направился к вишневому
занавесу.
Публика опешила. Никто ничего не понимал. Никто не кричал, никто не
свистел, никто не звал его обратно.
Петруш, курносый мальчик с блестящими глазами, подавил горестный вздох.
Вишневый бархатный занавес сдвинулся и скрыл Фрама.
Все сторонились его в узких кулисах, которые вели к конюшням и
зверинцу. Никто не осмеливался приблизиться к Фраму. Белый медведь сам вошел
в свою клетку и улегся, положив голову на вытянутые лапы, в самом темном
углу, мордой к стенке.
-- Что все это означает? Чистое издевательство!.. -- послышался
сердитый голос одной из остроносых дам. -- Мы заплатили деньги. В программе
напечатано: "Белый медведь Фрам. Сенсационное прощальное представление!"
Сенсационная глупость! Сенсационное издевательство над публикой!..
В глазах девочки стояли слезы. Петруш только глянул на надменных дам и
с досады принялся крутить на своем пальтишке пуговицу. Пуговица оторвалась.
-- Ах, черт!
Надменные дамы сердито посмотрели на мальчика, вероятно, подумали, что
это восклицание относится к ним, а не к пуговице.
Появившийся на арене глупый Августин кувыркался, расплющивая о песок
свой похожий на помидор нос, гонялся за собственной тенью.
Но он никого не развеселил. Никто не смеялся.
За вишневым занавесом директор цирка просматривал список артистов и
животных. Список был прибит гвоздями к черной доске. Вид у директора был
мрачный. В руке он держал синий карандаш.
Наконец он решился и жирной чертой вычеркнул из списка имя Фрама,
белого медведя.
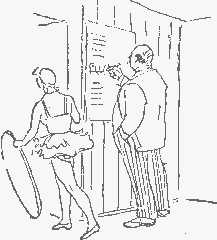 * * *
* * *
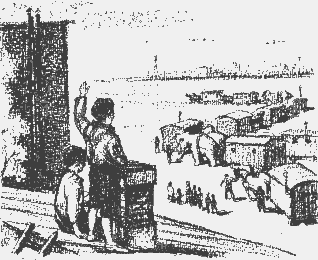 III. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦИРКА
Цирк Струцкого уехал.
Клетки со зверями, сложенное брезентовое шапито, станки конюшен,
которые разбираются и собираются, как игрушечные картонные домики, -- все
погрузили в белые вагоны и увезли.
Остался только безобразный, унылый пустырь.
Здесь еще пахнет конюшней и зверьем.
Ребята все еще приходят сюда смотреть на отпечатавшиеся на земле следы
цирка. Среди них -- Петруш. Он тоже с сожалением смотрит на эти следы.
Утоптанная, круглая площадка. Это -- арена. Здесь был вход. Там --
зверинец.
Хлопьями падает снег. До завтра он покроет все. Опечаленным отъездом
цирка детям снова станет весело. Они будут играть в снежки, строить
закоченевшими руками крепости из снега и лепить снежных баб.
Петруш уже решил созвать завтра своих приятелей и вылепить вместе с
ними из снега белого медведя -- Фрама. Изобразить его таким, каким он был и
каким все его любили: добрым, кротким великаном на задних лапах, с черными,
как уголь, глазками и мордой, которая на лету ловила апельсины.
В городе все вернулись к своим делам и заботам. Приближались праздники.
Одни стараются собрать денег на теплую одежду, другие смазывают лыжи,
готовясь ехать в горы. Дети, как завороженные, стоят у витрин, наполненных
не всем доступными игрушками и книжками.
Когда дома у Петруша спросили, на какую книжку в витрине он дольше
всего глядел, он не задумываясь сказал о своем заветном желании:
-- Я видел книжку про белых медведей, про их жизнь в полярных льдах.
Отец снисходительно улыбнулся в усы:
-- Может, ты решил стать укротителем?
-- Нет, папа, -- ответил Петруш. -- Мне хочется стать полярным
исследователем... Страшно интересно узнать, что написано в этой книжке.
-- Посмотрим, Петруш. Если так, посмотрим! -- сказал отец и тут же
решил непременно достать денег и купить мальчику книжку, которая его так
заинтересовала.
Но в городе началась эпидемия гриппа. Много ребят лежит в кровати,
вместе того чтобы кататься с горки на санках, носиться на коньках или
строить из снега крепости.
Больна и голубоглазая девочка со светлыми локонами.
Сначала она мечтала стать укротительницей, как мисс Эллиан. Она даже
переименовала своего серого кота: назвала его Раджой. Затем принялась его
муштровать, как мисс Эллиан муштровала своих бенгальских тигров, -- при
помощи хлыстика с шелковой кисточкой. Но коту такая игра вовсе не
понравилась. И девочка не внушала ему никакого страха. Он взъерошился,
поцарапал ее и спрятался под диван.
После обеда Лилика начала кашлять.
Вечером у нее горели щеки и щипало в глазах.
-- У ребенка жар! -- испугалась мать, погладив влажный от испарины лоб
девочки. -- Вызовем доктора!..
Доктор приехал. Он был старый, приятель дедушки. Доктор вынул из
футляра градусник и поставил его девочке под мышку, потом взял ее руку в том
месте, где в жилке отдается биение сердца. Вынул карманные часы на цепочке и
стал считать удары.
Дедушка ждал, сидя в кресле и опираясь подбородком на трость с
набалдашником из слоновой кости. Еще более озабочена была мать девочки,
которая тоже переболела гриппом, что было видно по ее осунувшемуся, бледному
лицу и усталым глазам.
-- Ничего страшного, -- произнес доктор, посмотрев на градусник,
который тут же встряхнул и вложил обратно в металлическую трубочку. -- Грипп
в легкой форме... Весь город болен гриппом. Температура еще немного
повысится. Не пугайтесь. Через неделю девочка будет на ногах. Через десять
дней можете выпустить ее на улицу поиграть.
Мама с дедушкой облегченно вздохнули.
Доктор оказался прав. Температура повысилась. На следующий день .
вечером Лилика уже не знала, спит она или нет.
Глаза у нее были открыты, но она видела сны и разговаривала сама с
собой -- бредила. Ей представлялось, будто она видит укротительницу тигров:
мисс Эллиан вошла к ней в комнату в шуршащем платье из золотистых чешуек и
разноцветных камней, с хлыстом в руке.
-- Где Пуфулец? -- спросила мисс Эллиан, шаря хлыстом под диваном, где,
как она знала, прячется кот.
Пуфулец вылез с поджатым хвостом.
-- Ага! -- обрадовалась больная девочка. -- Ага! Ну-с, господин
Пуфулец, посмотрим теперь, как вы будете себя вести. Это вам не я!
Мисс Эллиан щелкнула шелковой кисточкой, и кот превратился в Раджу,
бенгальского тигра.
-- Ну и потеха! -- засмеялась девочка в бреду. -- Такого я еще не
запомню! Значит, господин Пуфулец все время был бенгальским тигром, Раджой,
и ни разу в этом не признался? Притворялся котом...
Мисс Эллиан взяла Пуфулеца за загривок и перенесла на середину комнаты.
Началась муштра:
-- Понял теперь, с кем имеешь дело? Со мной шутки плохи. Ты останешься
котом Пуфулецом, пока я не отнесу тебя в цирк Струцкого, чтобы заменить
Раджу!.. А до тех пор будешь слушаться Лилику и перестанешь ее царапать. И
не смей больше мяукать, когда она дергает тебя за хвост. Уважающий себя
бенгальский тигр не мяукает. Это ниже его достоинства. Гоп!
Она щелкнула бичом и исчезла. Исчез и Пуфулец...
Теперь посреди комнаты перелетали с трапеции на трапецию гимнасты в
черном трико. Их трапеции были подвешены к потолку, рядом с люстрой.
Гимнасты прыгают и почему-то бьют в ладоши. Странно! Один из них похож на
дедушку. Это-таки дедушка. "Вот уж никогда не поверила бы, что дедушка
гимнаст, -- думает Лилика. -- Бросил свою трость с костяным набалдашником,
больше не жалуется на ревматизм и не кашляет, а летает с трапеции на
трапецию в черном трико с вышитым на груди белым черепом".
-- Молодец, дедушка! Браво! -- бьет в ладоши девочка.
На минуту к ней возвращается сознание. Голова словно налита свинцом,
лоб влажный от испарины. Одеяло давит ее.
Ей нестерпимо жарко. Она сбрасывает с себя одеяло, но мать снова
укрывает ее.
Опять все путается, и девочка начинает плакать.
-- Где Фрам? -- спрашивает она.
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Она слышит, как кричат другие. Вокруг нее теперь вся публика,
заполнявшая цирк на прощальном представлении. Все хлопают в ладоши, стучат
ногами:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Одна из надменных остроносых дам с пискливым голосом встала и обвела
публику сердитым взглядом. Особенно грозно взглянула она на Лилику. Девочка
съежилась и не посмела даже поднять глаз.
-- Глупые вы! -- сказала дама. -- Вас надули. Вы заплатили деньги, а
вас надули. Перестаньте вызывать Фрама. Все это -- сплошное надувательство!
Вам обещали показать дрессированного белого медведя. Самого большого, самого
умного, самого ученого. Вам наврали! Фрам -- просто глупый медведь. Самое
обыкновенное глупое животное, даже глупее других! Перестаньте его вызывать.
Разве вы не видели, что он ходит на четырех лапах, как собака?
Девочка мечется, зарывшись головой в подушку, плачет. Дама с острым
носом и злым голосом говорит неправду. То, что она сказала, не может быть
правдой. Но почему же Фрам не появляется?
-- Фрама! -- присоединяет она свой голос к другим.
-- Фрама!
Она открывает глаза. Мягкая рука легла ей на лоб. Ей чудится, что это
-- легкая лапа Фрама, та лапа, которая ласкала детей с галерки и сажала их в
ложи. Она чувствует ее легкое, нежное прикосновение.
-- Спасибо, Фрам! -- говорит девочка, открывая глаза. -- Какой ты
добрый, Фрам!
Но это не Фрам, а мама. Она склонилась над кроваткой, чтобы заглянуть
Лилике в глаза, и это мамина рука, а не медвежья лапа легла ей на лоб. Мать
хочет успокоить девочку, которая мечется в бреду.
Она обнимает ее, нежно целует и баюкает.
-- Какая ты добрая, мамочка!
-- Добрее Фрама? -- лукаво улыбается мать.
-- Фрам -- совсем другое! -- отвечает голубоглазая дочка. -- Бедный
Фрам! Где-то он теперь?
Мама довольна: речь Лилики стала более связной. Она отдает себе отчет в
том, что говорит. Значит, кризис миновал.
-- И где-то он теперь?!. -- повторяет девочка. Мама показывает рукой
вдаль:
-- Далеко, Лилика. В другой стране, в другом городе...
Через неделю Лилика выздоровела. А еще через несколько дней ей
позволили выйти на улицу.
Как красиво кружатся снежинки, какое наслаждение вдыхать холодный
воздух, который щиплет ноздри, как газированная вода!
Однажды на улице девочка остановилась перед наклеенной на стене старой
афишей. Это была афиша цирка Струцкого. В самом центре ее был изображен
Фрам, весело раскланивающийся, как в дни своей славы.
-- Бедный Фрам!.. -- услышала она ребячий голос.
Лилика быстро повернулась и очень обрадовалась, узнав курносого
мальчугана, которого видела на прощальном представлении цирка. Петруш тоже
узнал белокурую кудрявую девочку в белой шапочке.
-- Ты меня помнишь? -- спросил он.
-- А как же! Ты был в цирке, когда это случилось с Фрамом. Бедный Фрам!
-- Как это я тебя с тех пор не встречал?
-- Я была больна. Такая скука лежать в кровати!
-- Да, скучно, -- посочувствовал Петруш, хотя сам он никогда в кровати
не лежал и не мог знать, насколько это скучно.
-- Хорошо еще, что дедушка приносил книжки с картинками. Одна была про
белых медведей. Понимаешь?
Петруш сразу воодушевился:
-- У него есть книжка про белых медведей? -- выпалил он нетерпеливо.
-- И не одна, а много... Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что давно уже хочу прочитать книжку про белых медведей... На
Новый год мой папа подарил мне книжку о полярных экспедициях. А про белых
медведей в книжных магазинах больше книжек нет. Все раскупили. А если бы и
были, у нас все равно не хватило бы на них денег.
Девочка задумалась. Ей нравился этот курносый мальчишка с блестящими
глазами, который так независимо держал себя в цирке с надменными остроносыми
дамами, а теперь не обращает внимания на мороз, хотя мороз сегодня здорово
кусается. Глаза у него веселые, такие же, как в цирке, когда они хором
кричали: "Фрама! Фрама!" и так же, как тогда, он притоптывает ногами.
-- Знаешь что? Я поговорю с дедушкой. Приходи к нам за книжками. Он
даст тебе почитать сколько хочешь, -- дружелюбно предложила она.
-- Думаешь, можно?
-- Конечно, можно! Я попрошу его... Дедушка любит детей, которые
читают. Он был учителем, знаешь?
-- И у него, говоришь, много книжек про зверей?
-- Всякие! Честное слово... Есть и про наших зверей, и про тех, что
живут в других странах... Про всех, которых мы видели в цирке.
Петруш даже зажмурился, приплясывая на снегу от нетерпения:
-- Когда прийти?..
-- Когда хочешь...
-- Завтра можно?
-- Завтра, так завтра... Знаешь, где мы живем?
-- Нет.
-- Давай я тебе покажу... У нас и собака есть! -- сообщила девочка. --
Не боишься?..
-- Я собак не боюсь, не беспокойся: мы с ней подружимся... Лилика
посмотрела на Петруша с восхищением. Он показался ей больше и сильнее, чем
был на самом деле. Он -- не трус, как соседский Турел, который вопил и звал
на помощь каждый раз, когда на него лаял Гривей. Случалось, что от страха
этот трусишка даже ронял бублик, который пес тут же подхватывал. Ребята со
всей улицы помирали со смеху, глядя, как Гривей улепетывает с бубликом.
Петруш почувствовал себя обязанным сообщить девочке о своем решении
стать полярным исследователем.
-- И ты поедешь туда, где белые медведи? -- воодушевилась Лилика.
-- Непременно поеду. Из-за Фрама... Думаю об этом с того самого вечера.
Бедный Фрам! Где-то он теперь?
-- Далеко! В другой стране, в другом городе... -- слово в слово
повторила девочка то, что ей сказала мать.
Фрам действительно находился далеко, в другой стране, в другом городе,
в большом, чужом городе, куда приехал цирк Струцкого и где говорили на
другом языке.
На другом языке написаны расклеенные по стенам громадные афиши. желтые,
красные, зеленые. Они возвещают о первом представлении, о гимнастах и о мисс
Эллиан, укротительнице двенадцати бенгальских тигров.
Но о Фраме, белом медведе, в афишах ни слова.
Дети и там толпятся вокруг только что расположившегося на пустыре
цирка. Из зверинца доносится рев львов и тигров.
Ребята эти говорят на другом языке. Но радостное возбуждение их такое
же, как у ребят во всем мире. Они не находят себе места от нетерпения, ждут
не дождутся вечера, когда начнется представление.
По улице, ведущей с вокзала, прошествовали индийские слоны с толстыми,
как бревна, ногами и словно резиновыми хоботами, которые они то и дело
поворачивали к тротуару, пугая прохожих. Во главе шествия выступал жираф с
длинной, как телеграфный столб, шеей. Далее следовали клетки со львами и
тиграми, лошади с блестящей, как лаковые туфли, шерстью, пони в новой желтой
упряжи с бубенцами. Обезьяны в красных и зеленых, как у паяцев, панталонах
строили рожи и клянчили с протянутой лапой -- выпрашивали земляные орехи и
фисташки.
Цирк вырос словно из-под земли.
Там, где только что было унылое, пустое поле, возникла громадная серая
палатка с развевающимся на макушке флагом. Вокруг разместились конюшни и
зверинец. Везде снуют, хлопочут рабочие. Один навешивает дверь, другой
вбивает столб, третий ввинчивает наверху лампочку. Слышится рев хищников.
Ветер доносит странные звериные запахи. Внутри музыканты пробуют
инструменты.
-- А в одной клетке я видел белого медведя! -- хвастается один
мальчуган на своем иностранном языке. -- Громадина!.. Папа говорит, что в
цирке Струцкого самый ученый в мире белый медведь... Зовут его не то Фрам,
не то Прам, не то Риам...
-- Я читал афишу! -- перечит ему другой. -- Прочел всю, от первого
слова до последнего. Никакого медведя на афише нет. Ни белого, ни бурого, ни
черного. Никакого.
-- Не может быть!
-- Пари?
-- Идет.
-- На что? На два пирожных или на твой перочинный ножик?
-- Так пари не держат. Надо, чтоб справедливо: если проиграю я -- нож
твой. Проиграешь ты -- отдашь мне книжку про Робинзона в коленкоровом
переплете.
-- Ладно! По рукам... А теперь идем читать афишу.
Они пошли и прочли афишу. Потом попросили у одного дяди в красном
мундире программу.
Нигде о белом медведе не упоминалось.
Нигде не говорилось о звере с кличкой Фрам, Фирам, Прам, Приам или
Пирам.
-- Давай спросим еще раз! -- огорченно предложил хозяин перочинного
ножика.
Ножик этот он получил на свой день рождения. Он был совсем новый. Все
ребята в школе ему завидовали. Раз он одолжил его учителю в классе, чтобы
отточить карандаш. Учитель рассмотрел его со всех сторон и сказал:
"Замечательный ножик! Смотри только, не начни его пробовать на парте, не
вздумай вырезывать свое имя".
В общем, нетрудно представить себе, как тяжело было мальчику
расставаться с таким сокровищем.
-- Идем, что ли, спросим.
-- Ладно, идем, если хочешь, -- согласился его товарищ, уже видевший
себя владельцем ножика, составлявшего предмет зависти всего класса.
Мальчики подошли к дяди в красном мундире с такими закрученными вверх
усищами, что на них, казалось, можно было повесить шляпу, как на вешалку.
Они начали разговор издалека, потом спросили прямо.
-- Никакой белый медведь у нас не выступает, -- ответил цирковой
служитель, подкручивая усы и косясь на них, наверно, чтобы убедиться в том,
что они одинаковой длины. -- Ни сегодня, ни завтра. И выступать не будет. С
Фрамом кончено... Он ни на что больше не годен. Только корм даром переводит.
Весь день спит в клетке. На арене вы его не увидите, идите в зверинец.
Униформист повернулся к ним спиной и ушел, подкручивая усы.
Между приятелями разгорелся горячий спор.
Владелец перочинного ножа утверждал, что выиграл он:
-- Значит, в цирке есть белый медведь! Его зовут Фрам. Ты проиграл
пари. Давай Робинзона!
-- Вовсе нет, -- уперся другой мальчик. -- Ты говорил, что в цирке
выступит самый ученый в мире белый медведь. Сам слышал, что нам сказали. Он
не выступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Есть какой-то
глупый медведь. Ему грош цена. Даром ест корм. Давай ножик!
-- Даже не подумаю.
-- Скажи прямо, что не хочешь сдержать слова!
-- Ты думаешь, я дурак?
-- Нашелся умник!
-- Давай Робинзона.
-- Дожидайся! Как же!
-- Можешь схлопотать по носу.
-- Отдай лучше ножик!
-- Получай задаток!
Кулак владельца перочинного ножа встретился с носом владельца Робинзона
Крузо.
Тот не остался в долгу.
Последовала драка по всем правилам. В результате оба заработали по
шишке, не уступавшей в размере той, которая выскакивала на лбу глупого
Августина -- когда из его волос вырывался дым вперемешку с пламенем -- и
была увенчана красной лампочкой.
Потом они помирились.
Дома оба сказали, что оступились и упали: оттого и шишка.
Отец мальчика с перочинным ножиком страшно рассердился:
-- Хорош! Теперь, пока у тебя на лбу шишка, будешь сидеть дома и в цирк
вечером не пойдешь.
-- Очень красиво! -- сказала мама мальчика с Робинзоном. -- Вечером ты
в цирк не пойдешь, посидишь дома. В другой раз не будь раззявой, смотри себе
под ноги.
-- Но послушай, папа...
-- Ничего я слушать не желаю.
-- Понимаешь, мамочка...
-- Ничего я не понимаю. Удивляюсь, что ты еще оправдываешься. Самому
должно быть стыдно показаться в таком виде на людях. Подумают, что ты драчун
и забияка...
И тот, и другой поспешили поставить себе холодный компресс. Оба терли
лоб снегом до тех пор, пока шишки не исчезли. Вечером, когда сели ужинать, у
каждого на лбу оставалось лишь по небольшому синяку.
В конце концов родители их простили.
Для цирка оба нарядились по-воскресному, навели блеск на ботинки,
пригладили волосы щеткой. Но на макушке у каждого все же торчало по вихру,
как у глупого Августина.
На представление они пришли присмиревшие, в покаянном настроении,
вместе с родителями, от которых не отходили ни на шаг, чтобы не потеряться в
толпе.
Завидев друг друга, мальчики обменялись радостными приветствиями,
словно вовсе не они дрались кулаками, стали посмешищем товарищей и
заработали дома выговор.
-- Представьте себе, -- сказал отец мальчика с перочинным ножиком
матери владельца Робинзона, -- мой явился домой с такой шишкой на лбу, что я
уже решил было не брать его на представление...
-- И мой тоже! -- воскликнула мама мальчика с Робинзоном Крузо...
Пришел домой с шишкой с грецкий орех. Упал будто бы... Не знаю, что выйдет
из этого ребенка! Никогда не смотрит себе под ноги!..
Пристыженные мальчики глядели в землю. В душе оба поклялись никогда
больше не врать таким добрым и отходчивым родителям.
Публика нетерпеливо зааплодировала, затопала ногами.
Духовой оркестр на дощатом помосте грянул марш, и представление
началось.
По-прежнему на галерке, в партере и ложах уместилось не менее двух
тысяч человек. Они говорили на другом языке, потому что это был другой народ
и другая страна. Но волновались они совершенно так же, как в том, первом
городе, когда мисс Эллиан вложила голову в пасть Раджи, бенгальского тигра.
И у всех трепетало сердце, когда гимнасты перелетали с трапеции на трапецию,
и все так же смеялись до слез проделкам глупого Августина, который всегда
оставался в дураках.
На этот раз, однако, никто не вызывал Фрама, ученого белого медведя.
Они ничего не знали о Фраме, никогда о нем не слышали.
Здесь некому было умиляться его кротостью, поражаться его уму,
восхищаться его великанским ростом.
Фрам лежал в своей клетке, в глубине зверинца, где его соседями были
самые глупые животные, неспособные чему-либо научиться.
-- Не хотите ли взглянуть на зверинец? -- обратился отец мальчика с
перочинным ножиком к матери мальчика с Робинзоном.
-- Я как раз собиралась доставить это удовольствие детям. Редкий для
них случай: увидеть Ноев ковчег в полном составе.
Мальчики обрадовались и побежали вперед, держась за руку и украдкой
оглядывая друг друга: им было интересно, в каком состоянии шишки.
III. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦИРКА
Цирк Струцкого уехал.
Клетки со зверями, сложенное брезентовое шапито, станки конюшен,
которые разбираются и собираются, как игрушечные картонные домики, -- все
погрузили в белые вагоны и увезли.
Остался только безобразный, унылый пустырь.
Здесь еще пахнет конюшней и зверьем.
Ребята все еще приходят сюда смотреть на отпечатавшиеся на земле следы
цирка. Среди них -- Петруш. Он тоже с сожалением смотрит на эти следы.
Утоптанная, круглая площадка. Это -- арена. Здесь был вход. Там --
зверинец.
Хлопьями падает снег. До завтра он покроет все. Опечаленным отъездом
цирка детям снова станет весело. Они будут играть в снежки, строить
закоченевшими руками крепости из снега и лепить снежных баб.
Петруш уже решил созвать завтра своих приятелей и вылепить вместе с
ними из снега белого медведя -- Фрама. Изобразить его таким, каким он был и
каким все его любили: добрым, кротким великаном на задних лапах, с черными,
как уголь, глазками и мордой, которая на лету ловила апельсины.
В городе все вернулись к своим делам и заботам. Приближались праздники.
Одни стараются собрать денег на теплую одежду, другие смазывают лыжи,
готовясь ехать в горы. Дети, как завороженные, стоят у витрин, наполненных
не всем доступными игрушками и книжками.
Когда дома у Петруша спросили, на какую книжку в витрине он дольше
всего глядел, он не задумываясь сказал о своем заветном желании:
-- Я видел книжку про белых медведей, про их жизнь в полярных льдах.
Отец снисходительно улыбнулся в усы:
-- Может, ты решил стать укротителем?
-- Нет, папа, -- ответил Петруш. -- Мне хочется стать полярным
исследователем... Страшно интересно узнать, что написано в этой книжке.
-- Посмотрим, Петруш. Если так, посмотрим! -- сказал отец и тут же
решил непременно достать денег и купить мальчику книжку, которая его так
заинтересовала.
Но в городе началась эпидемия гриппа. Много ребят лежит в кровати,
вместе того чтобы кататься с горки на санках, носиться на коньках или
строить из снега крепости.
Больна и голубоглазая девочка со светлыми локонами.
Сначала она мечтала стать укротительницей, как мисс Эллиан. Она даже
переименовала своего серого кота: назвала его Раджой. Затем принялась его
муштровать, как мисс Эллиан муштровала своих бенгальских тигров, -- при
помощи хлыстика с шелковой кисточкой. Но коту такая игра вовсе не
понравилась. И девочка не внушала ему никакого страха. Он взъерошился,
поцарапал ее и спрятался под диван.
После обеда Лилика начала кашлять.
Вечером у нее горели щеки и щипало в глазах.
-- У ребенка жар! -- испугалась мать, погладив влажный от испарины лоб
девочки. -- Вызовем доктора!..
Доктор приехал. Он был старый, приятель дедушки. Доктор вынул из
футляра градусник и поставил его девочке под мышку, потом взял ее руку в том
месте, где в жилке отдается биение сердца. Вынул карманные часы на цепочке и
стал считать удары.
Дедушка ждал, сидя в кресле и опираясь подбородком на трость с
набалдашником из слоновой кости. Еще более озабочена была мать девочки,
которая тоже переболела гриппом, что было видно по ее осунувшемуся, бледному
лицу и усталым глазам.
-- Ничего страшного, -- произнес доктор, посмотрев на градусник,
который тут же встряхнул и вложил обратно в металлическую трубочку. -- Грипп
в легкой форме... Весь город болен гриппом. Температура еще немного
повысится. Не пугайтесь. Через неделю девочка будет на ногах. Через десять
дней можете выпустить ее на улицу поиграть.
Мама с дедушкой облегченно вздохнули.
Доктор оказался прав. Температура повысилась. На следующий день .
вечером Лилика уже не знала, спит она или нет.
Глаза у нее были открыты, но она видела сны и разговаривала сама с
собой -- бредила. Ей представлялось, будто она видит укротительницу тигров:
мисс Эллиан вошла к ней в комнату в шуршащем платье из золотистых чешуек и
разноцветных камней, с хлыстом в руке.
-- Где Пуфулец? -- спросила мисс Эллиан, шаря хлыстом под диваном, где,
как она знала, прячется кот.
Пуфулец вылез с поджатым хвостом.
-- Ага! -- обрадовалась больная девочка. -- Ага! Ну-с, господин
Пуфулец, посмотрим теперь, как вы будете себя вести. Это вам не я!
Мисс Эллиан щелкнула шелковой кисточкой, и кот превратился в Раджу,
бенгальского тигра.
-- Ну и потеха! -- засмеялась девочка в бреду. -- Такого я еще не
запомню! Значит, господин Пуфулец все время был бенгальским тигром, Раджой,
и ни разу в этом не признался? Притворялся котом...
Мисс Эллиан взяла Пуфулеца за загривок и перенесла на середину комнаты.
Началась муштра:
-- Понял теперь, с кем имеешь дело? Со мной шутки плохи. Ты останешься
котом Пуфулецом, пока я не отнесу тебя в цирк Струцкого, чтобы заменить
Раджу!.. А до тех пор будешь слушаться Лилику и перестанешь ее царапать. И
не смей больше мяукать, когда она дергает тебя за хвост. Уважающий себя
бенгальский тигр не мяукает. Это ниже его достоинства. Гоп!
Она щелкнула бичом и исчезла. Исчез и Пуфулец...
Теперь посреди комнаты перелетали с трапеции на трапецию гимнасты в
черном трико. Их трапеции были подвешены к потолку, рядом с люстрой.
Гимнасты прыгают и почему-то бьют в ладоши. Странно! Один из них похож на
дедушку. Это-таки дедушка. "Вот уж никогда не поверила бы, что дедушка
гимнаст, -- думает Лилика. -- Бросил свою трость с костяным набалдашником,
больше не жалуется на ревматизм и не кашляет, а летает с трапеции на
трапецию в черном трико с вышитым на груди белым черепом".
-- Молодец, дедушка! Браво! -- бьет в ладоши девочка.
На минуту к ней возвращается сознание. Голова словно налита свинцом,
лоб влажный от испарины. Одеяло давит ее.
Ей нестерпимо жарко. Она сбрасывает с себя одеяло, но мать снова
укрывает ее.
Опять все путается, и девочка начинает плакать.
-- Где Фрам? -- спрашивает она.
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Она слышит, как кричат другие. Вокруг нее теперь вся публика,
заполнявшая цирк на прощальном представлении. Все хлопают в ладоши, стучат
ногами:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Одна из надменных остроносых дам с пискливым голосом встала и обвела
публику сердитым взглядом. Особенно грозно взглянула она на Лилику. Девочка
съежилась и не посмела даже поднять глаз.
-- Глупые вы! -- сказала дама. -- Вас надули. Вы заплатили деньги, а
вас надули. Перестаньте вызывать Фрама. Все это -- сплошное надувательство!
Вам обещали показать дрессированного белого медведя. Самого большого, самого
умного, самого ученого. Вам наврали! Фрам -- просто глупый медведь. Самое
обыкновенное глупое животное, даже глупее других! Перестаньте его вызывать.
Разве вы не видели, что он ходит на четырех лапах, как собака?
Девочка мечется, зарывшись головой в подушку, плачет. Дама с острым
носом и злым голосом говорит неправду. То, что она сказала, не может быть
правдой. Но почему же Фрам не появляется?
-- Фрама! -- присоединяет она свой голос к другим.
-- Фрама!
Она открывает глаза. Мягкая рука легла ей на лоб. Ей чудится, что это
-- легкая лапа Фрама, та лапа, которая ласкала детей с галерки и сажала их в
ложи. Она чувствует ее легкое, нежное прикосновение.
-- Спасибо, Фрам! -- говорит девочка, открывая глаза. -- Какой ты
добрый, Фрам!
Но это не Фрам, а мама. Она склонилась над кроваткой, чтобы заглянуть
Лилике в глаза, и это мамина рука, а не медвежья лапа легла ей на лоб. Мать
хочет успокоить девочку, которая мечется в бреду.
Она обнимает ее, нежно целует и баюкает.
-- Какая ты добрая, мамочка!
-- Добрее Фрама? -- лукаво улыбается мать.
-- Фрам -- совсем другое! -- отвечает голубоглазая дочка. -- Бедный
Фрам! Где-то он теперь?
Мама довольна: речь Лилики стала более связной. Она отдает себе отчет в
том, что говорит. Значит, кризис миновал.
-- И где-то он теперь?!. -- повторяет девочка. Мама показывает рукой
вдаль:
-- Далеко, Лилика. В другой стране, в другом городе...
Через неделю Лилика выздоровела. А еще через несколько дней ей
позволили выйти на улицу.
Как красиво кружатся снежинки, какое наслаждение вдыхать холодный
воздух, который щиплет ноздри, как газированная вода!
Однажды на улице девочка остановилась перед наклеенной на стене старой
афишей. Это была афиша цирка Струцкого. В самом центре ее был изображен
Фрам, весело раскланивающийся, как в дни своей славы.
-- Бедный Фрам!.. -- услышала она ребячий голос.
Лилика быстро повернулась и очень обрадовалась, узнав курносого
мальчугана, которого видела на прощальном представлении цирка. Петруш тоже
узнал белокурую кудрявую девочку в белой шапочке.
-- Ты меня помнишь? -- спросил он.
-- А как же! Ты был в цирке, когда это случилось с Фрамом. Бедный Фрам!
-- Как это я тебя с тех пор не встречал?
-- Я была больна. Такая скука лежать в кровати!
-- Да, скучно, -- посочувствовал Петруш, хотя сам он никогда в кровати
не лежал и не мог знать, насколько это скучно.
-- Хорошо еще, что дедушка приносил книжки с картинками. Одна была про
белых медведей. Понимаешь?
Петруш сразу воодушевился:
-- У него есть книжка про белых медведей? -- выпалил он нетерпеливо.
-- И не одна, а много... Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что давно уже хочу прочитать книжку про белых медведей... На
Новый год мой папа подарил мне книжку о полярных экспедициях. А про белых
медведей в книжных магазинах больше книжек нет. Все раскупили. А если бы и
были, у нас все равно не хватило бы на них денег.
Девочка задумалась. Ей нравился этот курносый мальчишка с блестящими
глазами, который так независимо держал себя в цирке с надменными остроносыми
дамами, а теперь не обращает внимания на мороз, хотя мороз сегодня здорово
кусается. Глаза у него веселые, такие же, как в цирке, когда они хором
кричали: "Фрама! Фрама!" и так же, как тогда, он притоптывает ногами.
-- Знаешь что? Я поговорю с дедушкой. Приходи к нам за книжками. Он
даст тебе почитать сколько хочешь, -- дружелюбно предложила она.
-- Думаешь, можно?
-- Конечно, можно! Я попрошу его... Дедушка любит детей, которые
читают. Он был учителем, знаешь?
-- И у него, говоришь, много книжек про зверей?
-- Всякие! Честное слово... Есть и про наших зверей, и про тех, что
живут в других странах... Про всех, которых мы видели в цирке.
Петруш даже зажмурился, приплясывая на снегу от нетерпения:
-- Когда прийти?..
-- Когда хочешь...
-- Завтра можно?
-- Завтра, так завтра... Знаешь, где мы живем?
-- Нет.
-- Давай я тебе покажу... У нас и собака есть! -- сообщила девочка. --
Не боишься?..
-- Я собак не боюсь, не беспокойся: мы с ней подружимся... Лилика
посмотрела на Петруша с восхищением. Он показался ей больше и сильнее, чем
был на самом деле. Он -- не трус, как соседский Турел, который вопил и звал
на помощь каждый раз, когда на него лаял Гривей. Случалось, что от страха
этот трусишка даже ронял бублик, который пес тут же подхватывал. Ребята со
всей улицы помирали со смеху, глядя, как Гривей улепетывает с бубликом.
Петруш почувствовал себя обязанным сообщить девочке о своем решении
стать полярным исследователем.
-- И ты поедешь туда, где белые медведи? -- воодушевилась Лилика.
-- Непременно поеду. Из-за Фрама... Думаю об этом с того самого вечера.
Бедный Фрам! Где-то он теперь?
-- Далеко! В другой стране, в другом городе... -- слово в слово
повторила девочка то, что ей сказала мать.
Фрам действительно находился далеко, в другой стране, в другом городе,
в большом, чужом городе, куда приехал цирк Струцкого и где говорили на
другом языке.
На другом языке написаны расклеенные по стенам громадные афиши. желтые,
красные, зеленые. Они возвещают о первом представлении, о гимнастах и о мисс
Эллиан, укротительнице двенадцати бенгальских тигров.
Но о Фраме, белом медведе, в афишах ни слова.
Дети и там толпятся вокруг только что расположившегося на пустыре
цирка. Из зверинца доносится рев львов и тигров.
Ребята эти говорят на другом языке. Но радостное возбуждение их такое
же, как у ребят во всем мире. Они не находят себе места от нетерпения, ждут
не дождутся вечера, когда начнется представление.
По улице, ведущей с вокзала, прошествовали индийские слоны с толстыми,
как бревна, ногами и словно резиновыми хоботами, которые они то и дело
поворачивали к тротуару, пугая прохожих. Во главе шествия выступал жираф с
длинной, как телеграфный столб, шеей. Далее следовали клетки со львами и
тиграми, лошади с блестящей, как лаковые туфли, шерстью, пони в новой желтой
упряжи с бубенцами. Обезьяны в красных и зеленых, как у паяцев, панталонах
строили рожи и клянчили с протянутой лапой -- выпрашивали земляные орехи и
фисташки.
Цирк вырос словно из-под земли.
Там, где только что было унылое, пустое поле, возникла громадная серая
палатка с развевающимся на макушке флагом. Вокруг разместились конюшни и
зверинец. Везде снуют, хлопочут рабочие. Один навешивает дверь, другой
вбивает столб, третий ввинчивает наверху лампочку. Слышится рев хищников.
Ветер доносит странные звериные запахи. Внутри музыканты пробуют
инструменты.
-- А в одной клетке я видел белого медведя! -- хвастается один
мальчуган на своем иностранном языке. -- Громадина!.. Папа говорит, что в
цирке Струцкого самый ученый в мире белый медведь... Зовут его не то Фрам,
не то Прам, не то Риам...
-- Я читал афишу! -- перечит ему другой. -- Прочел всю, от первого
слова до последнего. Никакого медведя на афише нет. Ни белого, ни бурого, ни
черного. Никакого.
-- Не может быть!
-- Пари?
-- Идет.
-- На что? На два пирожных или на твой перочинный ножик?
-- Так пари не держат. Надо, чтоб справедливо: если проиграю я -- нож
твой. Проиграешь ты -- отдашь мне книжку про Робинзона в коленкоровом
переплете.
-- Ладно! По рукам... А теперь идем читать афишу.
Они пошли и прочли афишу. Потом попросили у одного дяди в красном
мундире программу.
Нигде о белом медведе не упоминалось.
Нигде не говорилось о звере с кличкой Фрам, Фирам, Прам, Приам или
Пирам.
-- Давай спросим еще раз! -- огорченно предложил хозяин перочинного
ножика.
Ножик этот он получил на свой день рождения. Он был совсем новый. Все
ребята в школе ему завидовали. Раз он одолжил его учителю в классе, чтобы
отточить карандаш. Учитель рассмотрел его со всех сторон и сказал:
"Замечательный ножик! Смотри только, не начни его пробовать на парте, не
вздумай вырезывать свое имя".
В общем, нетрудно представить себе, как тяжело было мальчику
расставаться с таким сокровищем.
-- Идем, что ли, спросим.
-- Ладно, идем, если хочешь, -- согласился его товарищ, уже видевший
себя владельцем ножика, составлявшего предмет зависти всего класса.
Мальчики подошли к дяди в красном мундире с такими закрученными вверх
усищами, что на них, казалось, можно было повесить шляпу, как на вешалку.
Они начали разговор издалека, потом спросили прямо.
-- Никакой белый медведь у нас не выступает, -- ответил цирковой
служитель, подкручивая усы и косясь на них, наверно, чтобы убедиться в том,
что они одинаковой длины. -- Ни сегодня, ни завтра. И выступать не будет. С
Фрамом кончено... Он ни на что больше не годен. Только корм даром переводит.
Весь день спит в клетке. На арене вы его не увидите, идите в зверинец.
Униформист повернулся к ним спиной и ушел, подкручивая усы.
Между приятелями разгорелся горячий спор.
Владелец перочинного ножа утверждал, что выиграл он:
-- Значит, в цирке есть белый медведь! Его зовут Фрам. Ты проиграл
пари. Давай Робинзона!
-- Вовсе нет, -- уперся другой мальчик. -- Ты говорил, что в цирке
выступит самый ученый в мире белый медведь. Сам слышал, что нам сказали. Он
не выступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Есть какой-то
глупый медведь. Ему грош цена. Даром ест корм. Давай ножик!
-- Даже не подумаю.
-- Скажи прямо, что не хочешь сдержать слова!
-- Ты думаешь, я дурак?
-- Нашелся умник!
-- Давай Робинзона.
-- Дожидайся! Как же!
-- Можешь схлопотать по носу.
-- Отдай лучше ножик!
-- Получай задаток!
Кулак владельца перочинного ножа встретился с носом владельца Робинзона
Крузо.
Тот не остался в долгу.
Последовала драка по всем правилам. В результате оба заработали по
шишке, не уступавшей в размере той, которая выскакивала на лбу глупого
Августина -- когда из его волос вырывался дым вперемешку с пламенем -- и
была увенчана красной лампочкой.
Потом они помирились.
Дома оба сказали, что оступились и упали: оттого и шишка.
Отец мальчика с перочинным ножиком страшно рассердился:
-- Хорош! Теперь, пока у тебя на лбу шишка, будешь сидеть дома и в цирк
вечером не пойдешь.
-- Очень красиво! -- сказала мама мальчика с Робинзоном. -- Вечером ты
в цирк не пойдешь, посидишь дома. В другой раз не будь раззявой, смотри себе
под ноги.
-- Но послушай, папа...
-- Ничего я слушать не желаю.
-- Понимаешь, мамочка...
-- Ничего я не понимаю. Удивляюсь, что ты еще оправдываешься. Самому
должно быть стыдно показаться в таком виде на людях. Подумают, что ты драчун
и забияка...
И тот, и другой поспешили поставить себе холодный компресс. Оба терли
лоб снегом до тех пор, пока шишки не исчезли. Вечером, когда сели ужинать, у
каждого на лбу оставалось лишь по небольшому синяку.
В конце концов родители их простили.
Для цирка оба нарядились по-воскресному, навели блеск на ботинки,
пригладили волосы щеткой. Но на макушке у каждого все же торчало по вихру,
как у глупого Августина.
На представление они пришли присмиревшие, в покаянном настроении,
вместе с родителями, от которых не отходили ни на шаг, чтобы не потеряться в
толпе.
Завидев друг друга, мальчики обменялись радостными приветствиями,
словно вовсе не они дрались кулаками, стали посмешищем товарищей и
заработали дома выговор.
-- Представьте себе, -- сказал отец мальчика с перочинным ножиком
матери владельца Робинзона, -- мой явился домой с такой шишкой на лбу, что я
уже решил было не брать его на представление...
-- И мой тоже! -- воскликнула мама мальчика с Робинзоном Крузо...
Пришел домой с шишкой с грецкий орех. Упал будто бы... Не знаю, что выйдет
из этого ребенка! Никогда не смотрит себе под ноги!..
Пристыженные мальчики глядели в землю. В душе оба поклялись никогда
больше не врать таким добрым и отходчивым родителям.
Публика нетерпеливо зааплодировала, затопала ногами.
Духовой оркестр на дощатом помосте грянул марш, и представление
началось.
По-прежнему на галерке, в партере и ложах уместилось не менее двух
тысяч человек. Они говорили на другом языке, потому что это был другой народ
и другая страна. Но волновались они совершенно так же, как в том, первом
городе, когда мисс Эллиан вложила голову в пасть Раджи, бенгальского тигра.
И у всех трепетало сердце, когда гимнасты перелетали с трапеции на трапецию,
и все так же смеялись до слез проделкам глупого Августина, который всегда
оставался в дураках.
На этот раз, однако, никто не вызывал Фрама, ученого белого медведя.
Они ничего не знали о Фраме, никогда о нем не слышали.
Здесь некому было умиляться его кротостью, поражаться его уму,
восхищаться его великанским ростом.
Фрам лежал в своей клетке, в глубине зверинца, где его соседями были
самые глупые животные, неспособные чему-либо научиться.
-- Не хотите ли взглянуть на зверинец? -- обратился отец мальчика с
перочинным ножиком к матери мальчика с Робинзоном.
-- Я как раз собиралась доставить это удовольствие детям. Редкий для
них случай: увидеть Ноев ковчег в полном составе.
Мальчики обрадовались и побежали вперед, держась за руку и украдкой
оглядывая друг друга: им было интересно, в каком состоянии шишки.
 * * *
* * *
 IV. В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ
Мама мальчика, у которого была книжка про Робинзона Крузо в
коленкоровом переплете и с большими цветными иллюстрациями, не ошиблась.
Она ничуть не ошиблась, уподобив цирк Струцкого Ноеву ковчегу,
легендарному кораблю, в котором спаслись от потопа все виды населявших землю
животных и который носился по волнам до тех пор, пока голубь с оливковой
ветвью в клюве не возвестил, что небо сменило гнев на милость. Тогда радуга
перекинула арочный мост из дивных красок с одного края земли на другой, воды
отступили. Ной причалил к освободившейся от воды суше и выпустил на волю
всех тварей -- красивых и безобразных, кротких и злых, -- чтобы каждая
заняла на земле подобающее ей место.
Так гласит легенда, которой никто больше не верит, но на которую все
ссылаются, как и на многие другие сказки древних времен.
Хозяин цирка Струцкого, жадный до наживы делец, тоже собрал в свой
ковчег всяких зверей, упрятал их в клетки и возит из города в город, из
страны в страну, чтобы показывать людям, какие есть на свете чудеса. Чудеса
эти можно было видеть, купив билет. Билеты стоили дорого.
Охотники бродят по лесам в далеких тропиках, по песчаным пустыням, по
полярным просторам, где никогда не тает снег; лазят по горам и спускаются в
дикие ущелья, куда не ступала еще нога человека. Они расставляют
изобретенные ими хитрые капканы, находят тайные логова зверей и достают из
них только что родившихся, еще беззубых животных.
Оттуда, из-за тридевять земель, из-за морей и океанов, из знойных
пустынь и вечных льдов, они шлют на пароходах и по железной дороге клетки и
ящики с пойманными зверями: кто львенка, кто маленького крокодила, кто
слоненка, кто жирафика с длинной тонкой шеей.
И все эти звери нашли себе место в пронумерованных, помеченных
табличками клетках знаменитого цирка Струцкого. Заплатишь за билет --
увидишь зверей, не заплатишь -- не увидишь.
Толпа переходит от одной клетки к другой. Дивится и читает таблички, на
которых значатся названия зверя и страны, откуда он привезен, его возраст, а
иногда, вкратце, и его обычаи.
Есть в цирковом зверинце животные упрямые и тупые, которые не могут
ничему научиться. Таков, например, уродина носорог с угрожающим рогом на
носу и глазами, как пуговички. Или громадный гиппопотам с головой, как
большой чемодан, и блестящей кожей, который почти все время проводит в воде.
Он ничего не понимает. По одной его голове и бессмысленному взору сразу
видно, что это за тупица. Крокодилы лежат так неподвижно, что кажутся
мертвыми. Вы приняли бы их за чучела, если бы не маленькие, живые, серые
глаза, которые внимательно следят за каждым вашим движением. Черепахи похожи
на большие, подобранные у реки булыжники. Но булыжник вдруг оживает,
высовывает тонкую змеиную голову и четыре лапы, на которых он передвигается
по клетке, потом начинает хрустать листик салата. Спят истомленные жарой
змеи. Изредка то одна, то другая из них зевает, и тогда из ее рта
выбрасывается двумя стрелками черный раздвоенный язык. Жираф помещается в
высокой клетке без потолка. Ворочая маленькой, словно насаженной на
березовый шест головой, он глядит на шляпы посетителей. Опустив нижнюю губу,
сонно мигают верблюды. Они охотно подходят к решетке, хотя их часто
обманывают, предлагая вместо бублика кусок картона. Страус, тот по крайней
мере глотает оптом пуговицы и гвозди. Уж не устроил ли он у себя в желудке
склад где можно приобрести все, что угодно: ключи, пряжки, винты или шпильки
для волос. Черная пантера целый день без отдыха ходит по клетке. Она ни на
кого не глядит, только иногда толкает мордой решетку -- воображает,
вероятно, что решетка каким-то чудом вывалится сама собой, чтобы выпустить
ее на свободу. Но чудес в зверинце не бывает, и пантера продолжает
бесконечно кружить за решеткой. Когда глядишь на нее, кружится голова. Есть
тут и другие звери, один смешнее другого. Например, что-то вроде свиньи с
иглами, как у ежа, и длиннющей мордой: муравьед. Или утконос, названный так
за сходство с уткой.
Не будем говорить о попугаях. Эти говорят сами за себя!.. Говорят на
разных неизвестных языках -- на языках стран, где их поймали, откуда их
прислали сюда.
Вокруг клеток с обезьянами вечное веселье. У них старушечьи лица и
безволосые ладони. С ними никогда не соскучишься. Дурачествам нет конца.
Обезьяны цепляются за решетку и протягивают руку за подачкой. Одна умеет
колоть орехи и очищать их от скорлупы; другая, если вы попробуете ее
обмануть, подсунув пуговицу от пальто, запустит ею вам в голову, сделает вас
всеобщим посмешищем; третья строит толпе рожи; четвертая научилась
смотреться в зеркало. Находятся даже такие, которые ковыряют в зубах
зубочисткой или требуют гребешок, чтобы сделать себе прическу, как у
укротителя львов.
Некоторые из них величиной не больше кулака. Зато горилла больше
первобытного волосатого человека, пещерного жителя.
Горилла всегда грустная. Она медленно ест бананы или апельсины,
задумчиво чистит их и бросает корки -- может быть, вспоминает тропический
лес, где родилась и куда никогда больше не вернется.
В другом крыле помещаются клетки с дрессированными, выступающими в
цирке животными: львами и тиграми, слонами, собаками, зеброй и даже змеями,
которые поднимают голову и раскачиваются в такт музыке, когда индус в чалме
играет им на рожке.
Клетки тут выше и вместительнее. Уход за животными лучше и кормят их
сытнее. Публику сюда иногда не пускают, чтобы не утомлять и не раздражать
зверей перед представлением.
Здесь в самой высокой и просторной клетке когда-то помещался Фрам,
белый медведь.
Не нужно было закрывать за ним дверцу клетки, запирать ее, как у
других, на засов или вешать на нее замок. Он запирал ее сам. А если,
случалось, его забудут напоить, Фрам открывал дверцу и самостоятельно
отправлялся туда, где можно было утолить жажду. Люди пугались и с криком
шарахались от него в сторону, а он невозмутимо шел на задних лапах требовать
свою порцию воды, потом так же спокойно возвращался в клетку.
Теперь Фрама здесь уже нет. Его переселили в глубь зверинца, где живут
самые упрямые и тупые звери, не поддающиеся никакой выучке.
Он лежит спиной к публике.
Некоторые зовут его по имени, стараются соблазнить апельсинами,
булками, бубликами или бананами, но все напрасно.
Фрам даже не поворачивает голову. Положив морду на вытянутые лапы, он
лежит в самом темном углу с закрытыми глазами, будто спит.
Но он не спит.
Он хочет понять, что с ним произошло, и не может. Не может потому, что
мозг самого умного животного не в состоянии постигнуть и тысячной доли того,
что сознает и объясняет себе человек. Но все же что-то туманно ему
вспоминается.
Когда-то он был искусным гимнастом и эквилибристом. Умел шутить и
понимал людские шутки. Любил детей и был любим детьми. Любил аплодисменты, и
публика всегда ему аплодировала.
Но голова его внезапно опустела. Он забыл все, что знал. А теперь его
посадили сюда, в самую темную часть зверинца, среди ревущих, мычащих,
ворчащих зверей, которые после стольких лет все еще не привыкли и людям и не
желают на них глядеть, когда те подходят к клеткам.
Иногда прежний дрессировщик Фрама, который его очень любит, приходит
его проведать.
Он входит в клетку и ласково гладит его косматую белую шкуру.
-- Что поделалось с тобой, приятель? -- участливо спрашивает
дрессировщик.
Фрам поднимает грустные глаза, словно просит у него прощения, словно
хочет сказать: "Сам не понимаю! Поглупел... Такая уж, видно, судьба у нас, у
белых медведей".
Дрессировщик качает головой и протягивает ему конфету. У него в кармане
припасены конфеты для любимцев. Фрам берет конфету с ладони и делает вид,
что рад.
Но как только дрессировщик уходит, он бросает конфету. Фрам взял ее по
старой привычке, теперь она ему ни к чему... Она напоминает ему о тех
временах, когда какой-нибудь мальчуган в цирке давал ему целую горсть
конфет, и он подзывал других ребят, чтобы поделиться с ними гостинцем. Все
это кончилось. Теперь никто уже не кричит: "Фрама!" Никто не хлопает в
ладоши: "Браво, Фрам!" Служители цирка бросают ему корм и суют в клетку
ведро с водой, как дармоеду, как никчемной скотине.
Его бывший дрессировщик гладит его, как больного.
Целыми днями лежит Фрам, уткнувшись мордой в вытянутые лапы, в самом
темном углу клетки. Представление кончается, большие огни гаснут, все спят.
Бодрствует один Фрам. Ему не спится.
Он прислушивается к тишине, в которую погружен неизвестный ему город.
Издали доносится шум запоздалых экипажей, последних трамваев,
автомобильные гудки. Слышится дыхание спящих в клетках зверей. Некоторые из
них стонут или рычат во сне. Им снятся родные края. Они видят себя на
свободе, среди песков пустыни или в девственных джунглях. Им представляется,
что они подстерегают или преследуют добычу, резвятся и играют на воле.
Иногда застонет во сне Раджа, строптивый бенгальский тигр. Ему снится, что
его лапа зажата в капкане. Он просыпается, вскакивает и больно ударяется о
решетку: явь ужаснее сна, страшнее капкана. Тогда, когда его лапа попала в
капкан, он бился семь дней и семь ночей, потом лег и затих в ожидании
смерти. Теперь его угнетает нечто более страшное, чем сама смерть: он навеки
заключен в клетку и должен слушаться шелкового хлыстика. Обезьяны кидают в
него сквозь решетку апельсинными корками, и он обречен терпеть их
издевательства. Вспомнив все это, Раджа принимается реветь и будит всех
зверей. Сонные видения исчезают. Очнувшись от сна, звери отдают себе отчет в
том, что они в тюрьме и никогда уже больше не увидят родных лесов, рек,
озер, гор, пустынь и вечных льдов. Никогда. И только во сне они принимаются
жаловаться на все голоса...
Зверинец оглашается звериным ревом.
От страха у собак в городе шерсть становится дыбом. Они тоже начинают
лаять и выть.
Такое соревнование будит спящий город.
Потом рев и стоны утихают. Звери снова засыпают. И снова сны переносят
их в далекие края, которых они никогда больше не увидят наяву.
Тиграм снится, что они снова в джунглях родной Бенгалии, где с деревьев
свисают до земли лианы, где бабочки больше птиц, а иные птицы меньше
насекомых. Их ноздри обманчиво щекотят испарения озер, насыщенные
благоуханием лотоса. Они поднимают морду и принюхиваются, стараясь отличить
запах антилопы, добычи, от запахов своего брата, тигра. Но в нос им ударяет
застоявшийся смрад конюшни и мусорной ямы. Все исчезает. Остается лишь
тяжелый сон.
В полуночной тишине и темноте Фрам поднимается на задние лапы и
пытается повторить все, что он знал и умел, когда выходил один на арену и
публика встречала его аплодисментами.
Он становится на передние лапы, делает так несколько шагов, пробует
перекувыркнуться через голову, сначала вперед, потом назад. Кланяется
направо и налево невидимой публике -- благодарит за аплодисменты. Знал он,
как будто, и другие штуки. Но что именно -- позабылось. Да и клетка у него
слишком тесная.
Фрам опускается на все четыре лапы и снова чувствует себя обыкновенным
зверем.
Свернувшись клубком в своем углу, он пытается заснуть.
Хоть бы во сне увидеть белые просторы с вечным льдом и вечными снегами,
с пургой и морозом, который щиплет нос.
Но сны у него короткие, а далекие воспоминания чересчур туманны.
IV. В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ
Мама мальчика, у которого была книжка про Робинзона Крузо в
коленкоровом переплете и с большими цветными иллюстрациями, не ошиблась.
Она ничуть не ошиблась, уподобив цирк Струцкого Ноеву ковчегу,
легендарному кораблю, в котором спаслись от потопа все виды населявших землю
животных и который носился по волнам до тех пор, пока голубь с оливковой
ветвью в клюве не возвестил, что небо сменило гнев на милость. Тогда радуга
перекинула арочный мост из дивных красок с одного края земли на другой, воды
отступили. Ной причалил к освободившейся от воды суше и выпустил на волю
всех тварей -- красивых и безобразных, кротких и злых, -- чтобы каждая
заняла на земле подобающее ей место.
Так гласит легенда, которой никто больше не верит, но на которую все
ссылаются, как и на многие другие сказки древних времен.
Хозяин цирка Струцкого, жадный до наживы делец, тоже собрал в свой
ковчег всяких зверей, упрятал их в клетки и возит из города в город, из
страны в страну, чтобы показывать людям, какие есть на свете чудеса. Чудеса
эти можно было видеть, купив билет. Билеты стоили дорого.
Охотники бродят по лесам в далеких тропиках, по песчаным пустыням, по
полярным просторам, где никогда не тает снег; лазят по горам и спускаются в
дикие ущелья, куда не ступала еще нога человека. Они расставляют
изобретенные ими хитрые капканы, находят тайные логова зверей и достают из
них только что родившихся, еще беззубых животных.
Оттуда, из-за тридевять земель, из-за морей и океанов, из знойных
пустынь и вечных льдов, они шлют на пароходах и по железной дороге клетки и
ящики с пойманными зверями: кто львенка, кто маленького крокодила, кто
слоненка, кто жирафика с длинной тонкой шеей.
И все эти звери нашли себе место в пронумерованных, помеченных
табличками клетках знаменитого цирка Струцкого. Заплатишь за билет --
увидишь зверей, не заплатишь -- не увидишь.
Толпа переходит от одной клетки к другой. Дивится и читает таблички, на
которых значатся названия зверя и страны, откуда он привезен, его возраст, а
иногда, вкратце, и его обычаи.
Есть в цирковом зверинце животные упрямые и тупые, которые не могут
ничему научиться. Таков, например, уродина носорог с угрожающим рогом на
носу и глазами, как пуговички. Или громадный гиппопотам с головой, как
большой чемодан, и блестящей кожей, который почти все время проводит в воде.
Он ничего не понимает. По одной его голове и бессмысленному взору сразу
видно, что это за тупица. Крокодилы лежат так неподвижно, что кажутся
мертвыми. Вы приняли бы их за чучела, если бы не маленькие, живые, серые
глаза, которые внимательно следят за каждым вашим движением. Черепахи похожи
на большие, подобранные у реки булыжники. Но булыжник вдруг оживает,
высовывает тонкую змеиную голову и четыре лапы, на которых он передвигается
по клетке, потом начинает хрустать листик салата. Спят истомленные жарой
змеи. Изредка то одна, то другая из них зевает, и тогда из ее рта
выбрасывается двумя стрелками черный раздвоенный язык. Жираф помещается в
высокой клетке без потолка. Ворочая маленькой, словно насаженной на
березовый шест головой, он глядит на шляпы посетителей. Опустив нижнюю губу,
сонно мигают верблюды. Они охотно подходят к решетке, хотя их часто
обманывают, предлагая вместо бублика кусок картона. Страус, тот по крайней
мере глотает оптом пуговицы и гвозди. Уж не устроил ли он у себя в желудке
склад где можно приобрести все, что угодно: ключи, пряжки, винты или шпильки
для волос. Черная пантера целый день без отдыха ходит по клетке. Она ни на
кого не глядит, только иногда толкает мордой решетку -- воображает,
вероятно, что решетка каким-то чудом вывалится сама собой, чтобы выпустить
ее на свободу. Но чудес в зверинце не бывает, и пантера продолжает
бесконечно кружить за решеткой. Когда глядишь на нее, кружится голова. Есть
тут и другие звери, один смешнее другого. Например, что-то вроде свиньи с
иглами, как у ежа, и длиннющей мордой: муравьед. Или утконос, названный так
за сходство с уткой.
Не будем говорить о попугаях. Эти говорят сами за себя!.. Говорят на
разных неизвестных языках -- на языках стран, где их поймали, откуда их
прислали сюда.
Вокруг клеток с обезьянами вечное веселье. У них старушечьи лица и
безволосые ладони. С ними никогда не соскучишься. Дурачествам нет конца.
Обезьяны цепляются за решетку и протягивают руку за подачкой. Одна умеет
колоть орехи и очищать их от скорлупы; другая, если вы попробуете ее
обмануть, подсунув пуговицу от пальто, запустит ею вам в голову, сделает вас
всеобщим посмешищем; третья строит толпе рожи; четвертая научилась
смотреться в зеркало. Находятся даже такие, которые ковыряют в зубах
зубочисткой или требуют гребешок, чтобы сделать себе прическу, как у
укротителя львов.
Некоторые из них величиной не больше кулака. Зато горилла больше
первобытного волосатого человека, пещерного жителя.
Горилла всегда грустная. Она медленно ест бананы или апельсины,
задумчиво чистит их и бросает корки -- может быть, вспоминает тропический
лес, где родилась и куда никогда больше не вернется.
В другом крыле помещаются клетки с дрессированными, выступающими в
цирке животными: львами и тиграми, слонами, собаками, зеброй и даже змеями,
которые поднимают голову и раскачиваются в такт музыке, когда индус в чалме
играет им на рожке.
Клетки тут выше и вместительнее. Уход за животными лучше и кормят их
сытнее. Публику сюда иногда не пускают, чтобы не утомлять и не раздражать
зверей перед представлением.
Здесь в самой высокой и просторной клетке когда-то помещался Фрам,
белый медведь.
Не нужно было закрывать за ним дверцу клетки, запирать ее, как у
других, на засов или вешать на нее замок. Он запирал ее сам. А если,
случалось, его забудут напоить, Фрам открывал дверцу и самостоятельно
отправлялся туда, где можно было утолить жажду. Люди пугались и с криком
шарахались от него в сторону, а он невозмутимо шел на задних лапах требовать
свою порцию воды, потом так же спокойно возвращался в клетку.
Теперь Фрама здесь уже нет. Его переселили в глубь зверинца, где живут
самые упрямые и тупые звери, не поддающиеся никакой выучке.
Он лежит спиной к публике.
Некоторые зовут его по имени, стараются соблазнить апельсинами,
булками, бубликами или бананами, но все напрасно.
Фрам даже не поворачивает голову. Положив морду на вытянутые лапы, он
лежит в самом темном углу с закрытыми глазами, будто спит.
Но он не спит.
Он хочет понять, что с ним произошло, и не может. Не может потому, что
мозг самого умного животного не в состоянии постигнуть и тысячной доли того,
что сознает и объясняет себе человек. Но все же что-то туманно ему
вспоминается.
Когда-то он был искусным гимнастом и эквилибристом. Умел шутить и
понимал людские шутки. Любил детей и был любим детьми. Любил аплодисменты, и
публика всегда ему аплодировала.
Но голова его внезапно опустела. Он забыл все, что знал. А теперь его
посадили сюда, в самую темную часть зверинца, среди ревущих, мычащих,
ворчащих зверей, которые после стольких лет все еще не привыкли и людям и не
желают на них глядеть, когда те подходят к клеткам.
Иногда прежний дрессировщик Фрама, который его очень любит, приходит
его проведать.
Он входит в клетку и ласково гладит его косматую белую шкуру.
-- Что поделалось с тобой, приятель? -- участливо спрашивает
дрессировщик.
Фрам поднимает грустные глаза, словно просит у него прощения, словно
хочет сказать: "Сам не понимаю! Поглупел... Такая уж, видно, судьба у нас, у
белых медведей".
Дрессировщик качает головой и протягивает ему конфету. У него в кармане
припасены конфеты для любимцев. Фрам берет конфету с ладони и делает вид,
что рад.
Но как только дрессировщик уходит, он бросает конфету. Фрам взял ее по
старой привычке, теперь она ему ни к чему... Она напоминает ему о тех
временах, когда какой-нибудь мальчуган в цирке давал ему целую горсть
конфет, и он подзывал других ребят, чтобы поделиться с ними гостинцем. Все
это кончилось. Теперь никто уже не кричит: "Фрама!" Никто не хлопает в
ладоши: "Браво, Фрам!" Служители цирка бросают ему корм и суют в клетку
ведро с водой, как дармоеду, как никчемной скотине.
Его бывший дрессировщик гладит его, как больного.
Целыми днями лежит Фрам, уткнувшись мордой в вытянутые лапы, в самом
темном углу клетки. Представление кончается, большие огни гаснут, все спят.
Бодрствует один Фрам. Ему не спится.
Он прислушивается к тишине, в которую погружен неизвестный ему город.
Издали доносится шум запоздалых экипажей, последних трамваев,
автомобильные гудки. Слышится дыхание спящих в клетках зверей. Некоторые из
них стонут или рычат во сне. Им снятся родные края. Они видят себя на
свободе, среди песков пустыни или в девственных джунглях. Им представляется,
что они подстерегают или преследуют добычу, резвятся и играют на воле.
Иногда застонет во сне Раджа, строптивый бенгальский тигр. Ему снится, что
его лапа зажата в капкане. Он просыпается, вскакивает и больно ударяется о
решетку: явь ужаснее сна, страшнее капкана. Тогда, когда его лапа попала в
капкан, он бился семь дней и семь ночей, потом лег и затих в ожидании
смерти. Теперь его угнетает нечто более страшное, чем сама смерть: он навеки
заключен в клетку и должен слушаться шелкового хлыстика. Обезьяны кидают в
него сквозь решетку апельсинными корками, и он обречен терпеть их
издевательства. Вспомнив все это, Раджа принимается реветь и будит всех
зверей. Сонные видения исчезают. Очнувшись от сна, звери отдают себе отчет в
том, что они в тюрьме и никогда уже больше не увидят родных лесов, рек,
озер, гор, пустынь и вечных льдов. Никогда. И только во сне они принимаются
жаловаться на все голоса...
Зверинец оглашается звериным ревом.
От страха у собак в городе шерсть становится дыбом. Они тоже начинают
лаять и выть.
Такое соревнование будит спящий город.
Потом рев и стоны утихают. Звери снова засыпают. И снова сны переносят
их в далекие края, которых они никогда больше не увидят наяву.
Тиграм снится, что они снова в джунглях родной Бенгалии, где с деревьев
свисают до земли лианы, где бабочки больше птиц, а иные птицы меньше
насекомых. Их ноздри обманчиво щекотят испарения озер, насыщенные
благоуханием лотоса. Они поднимают морду и принюхиваются, стараясь отличить
запах антилопы, добычи, от запахов своего брата, тигра. Но в нос им ударяет
застоявшийся смрад конюшни и мусорной ямы. Все исчезает. Остается лишь
тяжелый сон.
В полуночной тишине и темноте Фрам поднимается на задние лапы и
пытается повторить все, что он знал и умел, когда выходил один на арену и
публика встречала его аплодисментами.
Он становится на передние лапы, делает так несколько шагов, пробует
перекувыркнуться через голову, сначала вперед, потом назад. Кланяется
направо и налево невидимой публике -- благодарит за аплодисменты. Знал он,
как будто, и другие штуки. Но что именно -- позабылось. Да и клетка у него
слишком тесная.
Фрам опускается на все четыре лапы и снова чувствует себя обыкновенным
зверем.
Свернувшись клубком в своем углу, он пытается заснуть.
Хоть бы во сне увидеть белые просторы с вечным льдом и вечными снегами,
с пургой и морозом, который щиплет нос.
Но сны у него короткие, а далекие воспоминания чересчур туманны.
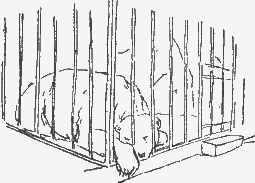 * * *
* * *
 V. ФРАМ РОДИЛСЯ ДАЛЕКО, В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ
Когда веки его наконец смыкались, Фрам видел всегда один и тот же сон
-- о немногих и смутных событиях своего далекого, давно забытого детства.
Это была история белого медвежонка, пойманного совсем маленьким
эскимосами в Заполярье, привезенного оттуда одним матросом в теплый порт и
проданного цирку.
Медвежонок этот стал сразу отличаться от своих маленьких белых
собратьев. Он был менее пуглив, чем они, сильнее и ловчее их. Быстро
усваивал то, чему его учили. Подружился с людьми. Рано понял, что им
нравится и что не нравится, что дозволено и что запрещено.
Представление следовало за представлением, и мало-помалу он превратился
в знаменитого Фрама, громадного белого медведя, который самостоятельно
выходил на арену, выполнял свою программу без дрессировщика, придумывая
каждый раз что-нибудь новое. Он понимал шутку, знал жалость.
Все прежнее забылось. Забылась белая пустыня и вечные льды, где ночь
длится шесть месяцев и столько же месяцев день, где сутки равны году. Мысль
его никогда больше не возвращалась туда.
Он жил среди людей. Был их другом и любимцем, умел читать по глазам их
желания. Угадывал их радости и, казалось, понимал даже их горести.
И вдруг теперь в нем пробудился весь тот далекий, давнишний мир. Все
забытое снова возникло из дали лет во сне.
И сон этот был всегда один и тот же.
Начиналось с кромешной тьмы. Сырая, студеная ночь в ледяной берлоге.
В этой берлоге на окруженном льдами острове родился Фрам. Родился
ночью, которая длится там полгода. Полгода не всходит солнце. Светят лишь
звезды в морозном небе и иногда луна. Но чаще всего царит глубокий мрак,
потому что луну и звезды скрывают облака. Пурга мчит снежные смерчи,
хохочет, свистит, стонет; льдины трещат от холода: такая страсть, что шерсть
становится дыбом. Как и все медвежата, Фрам родился слепым. Глаза у него
открылись только на шестую неделю.
Пурга не проникала в берлогу. Ее завывания доносились туда снаружи. Но
сверху и снизу был лед, а вокруг -- гладкие ледяные стены.
Спать медвежонку было тепло: шкура медведицы закрывала его и защищала
от холода.
Он находил носом сосок матери -- источник теплого молока. Чувствовал,
как она мыла его языком и ласкала лапой.
Иногда он просыпался один: медведицы не было. Это означало, что она
ушла на добычу.
Но всего медвежонок не понимал. Проснувшись один в темноте, он
принимался тихонько скулить, жалобно звать мать и пугался собственного
голоса. Испуганный, несчастный, лежал он в берлоге, уткнувшись мордой в
ледяную стенку. Было холодно. Вокруг с грохотом лопались льды, пурга
ворочала ледяными глыбами, медвежонку чудились шаги.
Полузамерзший, он засыпал снова. И еще сквозь сон ощутив радость,
просыпался согретый и счастливый. Теплая шкура опять была тут; рядом был
источник молока; мягкая, шелковистая лапа ласкала его и прижимала к брюху.
Медвежонок понимал, что вернулось большое, доброе существо, которое
защищало, согревало и кормило его: мать. Преисполненный благодарности, он
пытался лизнуть ее в нос.
Но какой он еще был неловкий, какой глупый!
Конечно, он не сознавал, какой заботой окружала его мать и как трудно
ей было с ним расставаться: она уходила на охоту только тогда, когда ее
донимал голод.
Наконец у детеныша открылись глаза. Но ничего, кроме мрака, он не
увидел. Темно было и внутри, в берлоге, и снаружи, когда он осмеливался
выглянуть из ледяной пещеры.
Раз, только раз он увидел чудо: в небе полыхало огромное пламя. Потом
возникла радуга. Свет играл далеко в океане, на сверкающих торосах. Северное
сияние. Но откуда было знать медвежонку, что это такое? Он взревел со
страху. Пляшущее в небе пламя мгновенно угасло. И снова медвежонка окутала
непроглядная тьма. Теперь ему было уже жалко света...
По глупости он решил, что свет убежал, испугавшись его рева. Ему
захотелось рассказать матери об этой проделке, и он очень гордо заурчал:
знай, мол, наших. Но у матери были другие заботы. Теперь она уже брала его с
собой на охоту недалеко от берлоги -- учила законам белых медведей.
Мать прижимала его лапой, чтоб он смирно сидел на торосе, пока сама она
спускалась к воде. Он не решался посмотреть вниз. Слышал, как шумит,
ударяясь о лед, вода, как сталкиваются льдины, но все равно ничего не
понимал. Он еще не видел воды, не знал, как плавают гонимые ветром льдины,
как они иногда спаиваются морозом и образуют громадное, сколько хватает
глаз, поле.
Медведица возвращалась с окровавленной мордой. Это означало, что она
ловила рыбу или ей удалось убить моржа, тюленя или другого водного зверя.
Возвращалась она с охоты сытая. Оба отправлялись домой, в берлогу. И всегда
медведица подталкивала детеныша мордой, чтоб он шел впереди. Она же
следовала за ним, охраняя его от неведомых хищников.
Привыкнув к темноте, медвежонок думал, что ночь продолжается
бесконечно. Он еще не видел дневного света, не видел солнца и потому не
представлял себе, что это такое. Жизнь казалась ему прекрасной и так, в
темноте. У него был надежный защитник. Теплого молока было вдоволь. Правда,
его пятки немного мерзли, когда приходилось долго идти по льду, но кожа у
белых медведей толстая, потому что они живут в стране вечных снегов, в самых
холодных местах земного шара.
С некоторых пор медведица стала проявлять признаки беспокойства. Она
все чаще вставала, подходила к устью берлоги и смотрела всегда в одну и ту
же сторону. Потом возвращалась. А немного погодя уходила снова.
Медвежонок следовал за ней, как щенок. Он лишь позднее понял, чего
ждала мать. Там, куда она смотрела, край неба начал постепенно синеть.
Сперва ночь просто стала светлее, затем над горизонтом появился синеватый
просвет. Потом -- медвежонок дважды успел за это время выспаться и четыре
раза поесть -- синева стала краснеть. А еще через столько же времени на том
месте показалась багровая полоска. Полоска длиннела, ширилась, росла
ввысь... И после еще одного сна медвежонок с изумлением и даже некоторым
страхом увидел в небе огненный шар.
Он повернул морду в ту сторону и завыл.
Но этот шар, не в пример северному сиянию, не испугался его и не угас,
а наоборот, поднялся еще выше, и все ледяные поля, все торосы так
заискрились, что на них стало больно смотреть. Прошло достаточно времени,
пока глаза медвежонка привыкли к яркому свету и он осмелился взглянуть в ту
сторону, не рыча.
Так состоялось его первое знакомство с солнцем и дневным светом. С
солнцем, которое в Заполярье больше, чем где бы то ни было на свете, и
которое не заходит несколько месяцев кряду.
Так начался самый длинный день.
Мороз, однако, сдал не сразу. Прошло немало времени, пока наконец снега
и льды растаяли местами от теплого ветра, подувшего издалека, невесть из
каких стран.
Все кругом искрилось и сверкало белизной. Гребни гор на их острове
блестели, как зеркала... Далеко на горизонте плавали громадные ледяные
острова. Они то удалялись друг от друга, то сближались и спаивались, образуя
бесконечный мост. Иногда перед медвежонком открывались обширные зеленые
разводья. Однажды он увидел, как на льдине проплыли другие белые медведицы с
детенышами.
У всех было по два медвежонка. Только он был у матери один.
Медведица стала собираться в дорогу. Медвежонок не понимал, зачем это
нужно, и не хотел уходить из берлоги. Тут у него было хорошее, надежно
защищенное от пурги логово. Он боялся, как бы опять не началась ужасная
темная ночь.
Ему неоткуда было знать, как долго продлится полярный день и через
сколько месяцев снова закатится солнце. Не знал он и того, что белые медведи
путешествуют на ледяных плавучих островах туда, где много моржей и тюленей,
рыбы и зайцев-беляков.
Они пустились в путь. Медвежонок, как всегда, шел впереди, медведица за
ним.
Когда им встречались трещины или торчавшие изо льда скалы, медвежонок
оборачивался -- спрашивал у матери, как быть. Медведица выходила вперед на
несколько шагов и осматривала местность, потом брала медвежонка передними
лапами и, поднявшись на задние, переправляла его через скалу или бережно
переносила через трещину, на дне которой тонкими струйками сочилась вода.
Они остановились только тогда, когда увидели перед собой большое
ледяное поле, приткнувшееся к суше.
С большими предосторожностями мать с сыном спустились на него. Поле
отделилось от берега и поплыло вместе с ними, уносимое океанским течением.
На их плавучем острове попадались широкие полыньи, где иногда показывались
страшные и блестящие черные головы. Они быстро уходили под воду, потом снова
появлялись на поверхности, цепляясь за кромку льда длинными, изогнутыми
наподобие багра клыками. Это были моржи -- самая лакомая добыча для белых
медведей.
Возле одной из таких полыней медведица прижала детеныша лапой, чтобы он
сидел смирно, и медвежонок послушно вдавился в снег. Она тоже легла, скрытая
торосом.
Ждать пришлось долго.
Наконец у края полыньи показалась блестящая круглая голова и зацепилась
за лед клыками. Голова осмотрелась -- не грозит ли опасность? Потом из воды
поднялось туловище, опираясь на короткие обрубки, не то ноги, не то крылья,
-- ласты. Зверь выбрался на лед и разлегся на солнышке. За ним последовал
второй, потом третий, четвертый...
Вскарабкавшись на лед, они выискивали себе место, ложились и засыпали.
Медведица крадучись обошла их, отрезав им путь к отступлению, к воде,
и, дождавшись подходящего момента, бросилась на крайнего моржа. Ух, как
заколотилось у медвежонка сердце!..
Медведица вцепилась моржу в голову. Медвежонок услышал, как у него
хрустнули кости, увидел, как морское чудовище задергалось в предсмертных
судорогах. Остальные с испуганным ревом сползли в воду и ушли вглубь.
Когда добыча перестала подавать признаки жизни, медведица негромким
урчанием подозвала к себе медвежонка. Тот опасливо подошел, делая два шага
вперед и шаг назад. Он еще никогда не видел смерти и не знал, что мертвый
зверь не опасен. Распоров моржу брюхо когтями, медведица принялась есть
теплое мясо и запивать его горячей кровью, урчанием приглашая медвежонка
попробовать.
Он попробовал, но вначале не нашел в моржовом мясе особого вкуса. Оно
показалось ему чересчур жирным. И запах у него был противный. Есть мясо он
научился позднее, когда этот запах стал возбуждать у него голод.
Но к охоте пристрастился сразу...
Они поплыли дальше, переходя с одной льдины на другую. Завидев
греющегося на солнце моржа или целое моржовое стадо, медвежонок вцеплялся
зубами в шкуру матери -- сигнализировал. Медведица отталкивала его лапой:
сиди, мол, смирно, не дело глупого детеныша учить мать охотиться! Она
никогда не делала оплошностей, никогда не упускала добычу.
Но охотилась она только тогда, когда ее одолевал голод. Когда она
убивала моржа, они надолго прерывали свое путешествие, отсыпались,
обследовали окрестности, всегда возвращаясь к остаткам добычи, пока не
обгладывали последней косточки. Все это время десятки моржей могли спокойно
вылезать на лед: сытая медведица даже не поворачивала головы, чтобы на них
посмотреть.
Однажды их плавучий остров уперся в высокий, скалистый берег острова.
Берег тянулся, сколько хватал глаз, -- ледяные глыбы вперемешку со скалами.
Медведица обрадовалась: видно, не подозревала, что ее ждет здесь
погибель. Она весело вскарабкалась по обледенелой скалистой круче.
Наверху расстилалось плоскогорье, прорезанное неширокими распадками.
Медвежонок очень удивился, впервые увидев в них бархатный мох, зеленые
лужайки и нечто уже вовсе непонятное: лужицы крови.
Он было сунулся их лизать, но тут же испуганно отпрянул. Это была не
кровь. Это были цветы. Цветы полярного мака.
Медведица принялась рыться во мху мордой -- искать какие-то коренья.
Она урчала от удовольствия и звала к себе детеныша -- пусть он тоже
полакомится. Очевидно, моржовое мясо и жир ей приелись. Ее организм требовал
чего-то более свежего и ароматного.
Дальше они шли уже гораздо медленнее и осторожнее.
На снегу виднелись странные следы. Следы неведомых зверей, следы птиц.
Следы эти терялись в распадках, где снег уже стаял, зеленела чахлая
травка и цвели цветы. Медведица не отпускала от себя медвежонка и часто
нюхала воздух. Влажный ветер приносил чуждые ей запахи. Почуяв их, она
быстро убегала, то и дело оборачиваясь, и пряталась за скалы или вздыбленные
льдины.
Именно тут медвежонок впервые услышал собачий лай.
Когда до его слуха донесся этот новый для него звук, он замер на месте,
с поднятой лапой.
Медведица тотчас подошла к нему, готовая защитить его от невидимой
опасности, медленно поднялась на задние лапы и навострила уши, вращая
глазами и широко раздувая ноздри.
Но лай отдалился. Он слышался теперь все слабее и слабее, пока вовсе не
смолк.
Несколько минут они ждали не двигаясь. Потом медведица стала
поворачиваться на задних лапах, как на винтовом стуле, принюхиваясь к ветру.
Лай не возобновился, но ветер продолжал приносить странный, незнакомый
кислый запах. Это был запах людей и собак, неизвестный не только медвежонку,
но и медведице.
Коротким урчанием она подала ему знак: надо сейчас же уходить.
Оставаться тут было небезопасно. В неприятном запахе и лае неведомого
животного таилась угроза.
Они поспешили к берегу, но ледяные острова успели тем временем
отделиться от скал. Их унесло океанским течением. Впереди простиралась
безбрежная зеленая пучина, в рябой поверхности которой солнце отражалось,
как в миллионах чешуек. Лишь далеко-далеко, там, где небо встречается с
океаном, маячили плавучие ледяные горы.
Медведица поняла, что она и ее детеныш -- пленники острова. Острова,
где слышен лай неизвестных животных, где ветер приносит чужой, кислый и
противный запах, который отравляет чистый, как родниковая вода, воздух.
Она принялась лизать мордочку медвежонка с удвоенной нежностью, словно
знала, что скоро потеряет его, словно предчувствовала свою гибель.
Но несмысленыш-медвежонок стал беззаботно играть и резвиться.
Солнце стояло высоко среди неба. Лучи его преломлялись во льдах. В
соседнем распадке стиснутая со всех сторон льдом и снегом зеленела полоска
мха, росла травка и алели цветы.
Катаясь по мягкому мху, медвежонок срывал зубами чахлые полярные маки.
V. ФРАМ РОДИЛСЯ ДАЛЕКО, В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ
Когда веки его наконец смыкались, Фрам видел всегда один и тот же сон
-- о немногих и смутных событиях своего далекого, давно забытого детства.
Это была история белого медвежонка, пойманного совсем маленьким
эскимосами в Заполярье, привезенного оттуда одним матросом в теплый порт и
проданного цирку.
Медвежонок этот стал сразу отличаться от своих маленьких белых
собратьев. Он был менее пуглив, чем они, сильнее и ловчее их. Быстро
усваивал то, чему его учили. Подружился с людьми. Рано понял, что им
нравится и что не нравится, что дозволено и что запрещено.
Представление следовало за представлением, и мало-помалу он превратился
в знаменитого Фрама, громадного белого медведя, который самостоятельно
выходил на арену, выполнял свою программу без дрессировщика, придумывая
каждый раз что-нибудь новое. Он понимал шутку, знал жалость.
Все прежнее забылось. Забылась белая пустыня и вечные льды, где ночь
длится шесть месяцев и столько же месяцев день, где сутки равны году. Мысль
его никогда больше не возвращалась туда.
Он жил среди людей. Был их другом и любимцем, умел читать по глазам их
желания. Угадывал их радости и, казалось, понимал даже их горести.
И вдруг теперь в нем пробудился весь тот далекий, давнишний мир. Все
забытое снова возникло из дали лет во сне.
И сон этот был всегда один и тот же.
Начиналось с кромешной тьмы. Сырая, студеная ночь в ледяной берлоге.
В этой берлоге на окруженном льдами острове родился Фрам. Родился
ночью, которая длится там полгода. Полгода не всходит солнце. Светят лишь
звезды в морозном небе и иногда луна. Но чаще всего царит глубокий мрак,
потому что луну и звезды скрывают облака. Пурга мчит снежные смерчи,
хохочет, свистит, стонет; льдины трещат от холода: такая страсть, что шерсть
становится дыбом. Как и все медвежата, Фрам родился слепым. Глаза у него
открылись только на шестую неделю.
Пурга не проникала в берлогу. Ее завывания доносились туда снаружи. Но
сверху и снизу был лед, а вокруг -- гладкие ледяные стены.
Спать медвежонку было тепло: шкура медведицы закрывала его и защищала
от холода.
Он находил носом сосок матери -- источник теплого молока. Чувствовал,
как она мыла его языком и ласкала лапой.
Иногда он просыпался один: медведицы не было. Это означало, что она
ушла на добычу.
Но всего медвежонок не понимал. Проснувшись один в темноте, он
принимался тихонько скулить, жалобно звать мать и пугался собственного
голоса. Испуганный, несчастный, лежал он в берлоге, уткнувшись мордой в
ледяную стенку. Было холодно. Вокруг с грохотом лопались льды, пурга
ворочала ледяными глыбами, медвежонку чудились шаги.
Полузамерзший, он засыпал снова. И еще сквозь сон ощутив радость,
просыпался согретый и счастливый. Теплая шкура опять была тут; рядом был
источник молока; мягкая, шелковистая лапа ласкала его и прижимала к брюху.
Медвежонок понимал, что вернулось большое, доброе существо, которое
защищало, согревало и кормило его: мать. Преисполненный благодарности, он
пытался лизнуть ее в нос.
Но какой он еще был неловкий, какой глупый!
Конечно, он не сознавал, какой заботой окружала его мать и как трудно
ей было с ним расставаться: она уходила на охоту только тогда, когда ее
донимал голод.
Наконец у детеныша открылись глаза. Но ничего, кроме мрака, он не
увидел. Темно было и внутри, в берлоге, и снаружи, когда он осмеливался
выглянуть из ледяной пещеры.
Раз, только раз он увидел чудо: в небе полыхало огромное пламя. Потом
возникла радуга. Свет играл далеко в океане, на сверкающих торосах. Северное
сияние. Но откуда было знать медвежонку, что это такое? Он взревел со
страху. Пляшущее в небе пламя мгновенно угасло. И снова медвежонка окутала
непроглядная тьма. Теперь ему было уже жалко света...
По глупости он решил, что свет убежал, испугавшись его рева. Ему
захотелось рассказать матери об этой проделке, и он очень гордо заурчал:
знай, мол, наших. Но у матери были другие заботы. Теперь она уже брала его с
собой на охоту недалеко от берлоги -- учила законам белых медведей.
Мать прижимала его лапой, чтоб он смирно сидел на торосе, пока сама она
спускалась к воде. Он не решался посмотреть вниз. Слышал, как шумит,
ударяясь о лед, вода, как сталкиваются льдины, но все равно ничего не
понимал. Он еще не видел воды, не знал, как плавают гонимые ветром льдины,
как они иногда спаиваются морозом и образуют громадное, сколько хватает
глаз, поле.
Медведица возвращалась с окровавленной мордой. Это означало, что она
ловила рыбу или ей удалось убить моржа, тюленя или другого водного зверя.
Возвращалась она с охоты сытая. Оба отправлялись домой, в берлогу. И всегда
медведица подталкивала детеныша мордой, чтоб он шел впереди. Она же
следовала за ним, охраняя его от неведомых хищников.
Привыкнув к темноте, медвежонок думал, что ночь продолжается
бесконечно. Он еще не видел дневного света, не видел солнца и потому не
представлял себе, что это такое. Жизнь казалась ему прекрасной и так, в
темноте. У него был надежный защитник. Теплого молока было вдоволь. Правда,
его пятки немного мерзли, когда приходилось долго идти по льду, но кожа у
белых медведей толстая, потому что они живут в стране вечных снегов, в самых
холодных местах земного шара.
С некоторых пор медведица стала проявлять признаки беспокойства. Она
все чаще вставала, подходила к устью берлоги и смотрела всегда в одну и ту
же сторону. Потом возвращалась. А немного погодя уходила снова.
Медвежонок следовал за ней, как щенок. Он лишь позднее понял, чего
ждала мать. Там, куда она смотрела, край неба начал постепенно синеть.
Сперва ночь просто стала светлее, затем над горизонтом появился синеватый
просвет. Потом -- медвежонок дважды успел за это время выспаться и четыре
раза поесть -- синева стала краснеть. А еще через столько же времени на том
месте показалась багровая полоска. Полоска длиннела, ширилась, росла
ввысь... И после еще одного сна медвежонок с изумлением и даже некоторым
страхом увидел в небе огненный шар.
Он повернул морду в ту сторону и завыл.
Но этот шар, не в пример северному сиянию, не испугался его и не угас,
а наоборот, поднялся еще выше, и все ледяные поля, все торосы так
заискрились, что на них стало больно смотреть. Прошло достаточно времени,
пока глаза медвежонка привыкли к яркому свету и он осмелился взглянуть в ту
сторону, не рыча.
Так состоялось его первое знакомство с солнцем и дневным светом. С
солнцем, которое в Заполярье больше, чем где бы то ни было на свете, и
которое не заходит несколько месяцев кряду.
Так начался самый длинный день.
Мороз, однако, сдал не сразу. Прошло немало времени, пока наконец снега
и льды растаяли местами от теплого ветра, подувшего издалека, невесть из
каких стран.
Все кругом искрилось и сверкало белизной. Гребни гор на их острове
блестели, как зеркала... Далеко на горизонте плавали громадные ледяные
острова. Они то удалялись друг от друга, то сближались и спаивались, образуя
бесконечный мост. Иногда перед медвежонком открывались обширные зеленые
разводья. Однажды он увидел, как на льдине проплыли другие белые медведицы с
детенышами.
У всех было по два медвежонка. Только он был у матери один.
Медведица стала собираться в дорогу. Медвежонок не понимал, зачем это
нужно, и не хотел уходить из берлоги. Тут у него было хорошее, надежно
защищенное от пурги логово. Он боялся, как бы опять не началась ужасная
темная ночь.
Ему неоткуда было знать, как долго продлится полярный день и через
сколько месяцев снова закатится солнце. Не знал он и того, что белые медведи
путешествуют на ледяных плавучих островах туда, где много моржей и тюленей,
рыбы и зайцев-беляков.
Они пустились в путь. Медвежонок, как всегда, шел впереди, медведица за
ним.
Когда им встречались трещины или торчавшие изо льда скалы, медвежонок
оборачивался -- спрашивал у матери, как быть. Медведица выходила вперед на
несколько шагов и осматривала местность, потом брала медвежонка передними
лапами и, поднявшись на задние, переправляла его через скалу или бережно
переносила через трещину, на дне которой тонкими струйками сочилась вода.
Они остановились только тогда, когда увидели перед собой большое
ледяное поле, приткнувшееся к суше.
С большими предосторожностями мать с сыном спустились на него. Поле
отделилось от берега и поплыло вместе с ними, уносимое океанским течением.
На их плавучем острове попадались широкие полыньи, где иногда показывались
страшные и блестящие черные головы. Они быстро уходили под воду, потом снова
появлялись на поверхности, цепляясь за кромку льда длинными, изогнутыми
наподобие багра клыками. Это были моржи -- самая лакомая добыча для белых
медведей.
Возле одной из таких полыней медведица прижала детеныша лапой, чтобы он
сидел смирно, и медвежонок послушно вдавился в снег. Она тоже легла, скрытая
торосом.
Ждать пришлось долго.
Наконец у края полыньи показалась блестящая круглая голова и зацепилась
за лед клыками. Голова осмотрелась -- не грозит ли опасность? Потом из воды
поднялось туловище, опираясь на короткие обрубки, не то ноги, не то крылья,
-- ласты. Зверь выбрался на лед и разлегся на солнышке. За ним последовал
второй, потом третий, четвертый...
Вскарабкавшись на лед, они выискивали себе место, ложились и засыпали.
Медведица крадучись обошла их, отрезав им путь к отступлению, к воде,
и, дождавшись подходящего момента, бросилась на крайнего моржа. Ух, как
заколотилось у медвежонка сердце!..
Медведица вцепилась моржу в голову. Медвежонок услышал, как у него
хрустнули кости, увидел, как морское чудовище задергалось в предсмертных
судорогах. Остальные с испуганным ревом сползли в воду и ушли вглубь.
Когда добыча перестала подавать признаки жизни, медведица негромким
урчанием подозвала к себе медвежонка. Тот опасливо подошел, делая два шага
вперед и шаг назад. Он еще никогда не видел смерти и не знал, что мертвый
зверь не опасен. Распоров моржу брюхо когтями, медведица принялась есть
теплое мясо и запивать его горячей кровью, урчанием приглашая медвежонка
попробовать.
Он попробовал, но вначале не нашел в моржовом мясе особого вкуса. Оно
показалось ему чересчур жирным. И запах у него был противный. Есть мясо он
научился позднее, когда этот запах стал возбуждать у него голод.
Но к охоте пристрастился сразу...
Они поплыли дальше, переходя с одной льдины на другую. Завидев
греющегося на солнце моржа или целое моржовое стадо, медвежонок вцеплялся
зубами в шкуру матери -- сигнализировал. Медведица отталкивала его лапой:
сиди, мол, смирно, не дело глупого детеныша учить мать охотиться! Она
никогда не делала оплошностей, никогда не упускала добычу.
Но охотилась она только тогда, когда ее одолевал голод. Когда она
убивала моржа, они надолго прерывали свое путешествие, отсыпались,
обследовали окрестности, всегда возвращаясь к остаткам добычи, пока не
обгладывали последней косточки. Все это время десятки моржей могли спокойно
вылезать на лед: сытая медведица даже не поворачивала головы, чтобы на них
посмотреть.
Однажды их плавучий остров уперся в высокий, скалистый берег острова.
Берег тянулся, сколько хватал глаз, -- ледяные глыбы вперемешку со скалами.
Медведица обрадовалась: видно, не подозревала, что ее ждет здесь
погибель. Она весело вскарабкалась по обледенелой скалистой круче.
Наверху расстилалось плоскогорье, прорезанное неширокими распадками.
Медвежонок очень удивился, впервые увидев в них бархатный мох, зеленые
лужайки и нечто уже вовсе непонятное: лужицы крови.
Он было сунулся их лизать, но тут же испуганно отпрянул. Это была не
кровь. Это были цветы. Цветы полярного мака.
Медведица принялась рыться во мху мордой -- искать какие-то коренья.
Она урчала от удовольствия и звала к себе детеныша -- пусть он тоже
полакомится. Очевидно, моржовое мясо и жир ей приелись. Ее организм требовал
чего-то более свежего и ароматного.
Дальше они шли уже гораздо медленнее и осторожнее.
На снегу виднелись странные следы. Следы неведомых зверей, следы птиц.
Следы эти терялись в распадках, где снег уже стаял, зеленела чахлая
травка и цвели цветы. Медведица не отпускала от себя медвежонка и часто
нюхала воздух. Влажный ветер приносил чуждые ей запахи. Почуяв их, она
быстро убегала, то и дело оборачиваясь, и пряталась за скалы или вздыбленные
льдины.
Именно тут медвежонок впервые услышал собачий лай.
Когда до его слуха донесся этот новый для него звук, он замер на месте,
с поднятой лапой.
Медведица тотчас подошла к нему, готовая защитить его от невидимой
опасности, медленно поднялась на задние лапы и навострила уши, вращая
глазами и широко раздувая ноздри.
Но лай отдалился. Он слышался теперь все слабее и слабее, пока вовсе не
смолк.
Несколько минут они ждали не двигаясь. Потом медведица стала
поворачиваться на задних лапах, как на винтовом стуле, принюхиваясь к ветру.
Лай не возобновился, но ветер продолжал приносить странный, незнакомый
кислый запах. Это был запах людей и собак, неизвестный не только медвежонку,
но и медведице.
Коротким урчанием она подала ему знак: надо сейчас же уходить.
Оставаться тут было небезопасно. В неприятном запахе и лае неведомого
животного таилась угроза.
Они поспешили к берегу, но ледяные острова успели тем временем
отделиться от скал. Их унесло океанским течением. Впереди простиралась
безбрежная зеленая пучина, в рябой поверхности которой солнце отражалось,
как в миллионах чешуек. Лишь далеко-далеко, там, где небо встречается с
океаном, маячили плавучие ледяные горы.
Медведица поняла, что она и ее детеныш -- пленники острова. Острова,
где слышен лай неизвестных животных, где ветер приносит чужой, кислый и
противный запах, который отравляет чистый, как родниковая вода, воздух.
Она принялась лизать мордочку медвежонка с удвоенной нежностью, словно
знала, что скоро потеряет его, словно предчувствовала свою гибель.
Но несмысленыш-медвежонок стал беззаботно играть и резвиться.
Солнце стояло высоко среди неба. Лучи его преломлялись во льдах. В
соседнем распадке стиснутая со всех сторон льдом и снегом зеленела полоска
мха, росла травка и алели цветы.
Катаясь по мягкому мху, медвежонок срывал зубами чахлые полярные маки.
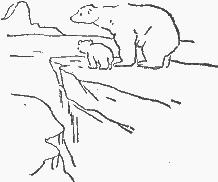 * * *
* * *
 VI. ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И РУЖЬЕ
В ледяных пустынях, где она родилась и прожила всю жизнь, белая
медведица ни разу еще не видела человека.
Она даже не подозревала, что на свете есть такое странное существо.
Она никогда еще не слышала ни собачьего лая, ни ружейного выстрела.
Запахи человека, собаки и пороха были ей неизвестны. Она не знала, что
этих трех заклятых врагов диких зверей связывала неразрывная дружба:
человек, собака и ружье никогда не отказывались от добычи, когда ее могла
достать пуля.
Медведица даже не боялась тоненькой стальной трубки, где в свинцовой
пуле притаилась смерть.
Слишком уж далеко от охотников и ружей протекала до сих пор ее жизнь в
этой самой нехоженой части земного шара.
Пустынность этого края вечных льдов и снегов защищена лютыми морозами и
метелями. Защищена полугодовой ночью и глубоким зеленым океаном.
В те месяцы, когда солнце стояло среди неба, по безбрежным водным
просторам на юг проплывали, как таинственные галеры без парусов, без руля и
без гребцов, ледяные горы -- айсберги.
Потом наступали долгие месяцы полярной ночи, и бескрайние просторы
океана превращались в ледяную равнину: миллионы квадратных километров лежали
под снежным покровом.
Все застывало в белом безмолвии.
Во всех странах, расположенных к югу от этой неприютной пустыни, светит
солнце, реют ласточки, на сочных пастбищах звенят овечьи колокольчики и
резвятся ягнята с кисточками в ушах.
Лютые морозы и ужасы полярной ночи обороняют царство белых медведей,
отгораживают его от остального мира стеной более надежной, чем самая
неприступная крепость.
Туда, за этот рубеж, не проникает ничего из жизни, бьющей ключом южнее,
где изумрудным ковром расстилаются весенние пастбища, где благоухает сирень
и в небе заливаются жаворонки.
Разве что иногда залетят вместе с теплыми ветрами из далеких стран стаи
белых, крикливых птиц.
Птицы машут крыльями с атласным шуршанием.
Они, возможно, видели пароходы, города и порты, церкви с колокольнями и
вокзалы, поезда и телефонные провода, арочные мосты и мчащиеся по
автострадам автомобили, парки с духовыми оркестрами, сады, полные роз,
площади с высокими памятниками и много других чудес, созданных руками
человека. Может быть, они знали, что эти же руки изобрели и другие чудеса,
беспощадные для диких обитателей лесов, степей и вод. Может быть, они даже
слышали выстрелы, знали, что в тонкой стальной трубке их подстерегает
непостижимая, удивительная смерть, которая мгновенно настигнет их, лишь
только приблизится человек и приложит к глазу ружье.
Но птицы не могли рассказать всего этого медведице и ее детенышу.
Их пронзительные крики нарушали застывшую тишину белой пустыни, вещая
что-то на им одним понятном языке.
Потом, когда начинали дуть злые, студеные ветры, предвестники
полугодовой ночи, белые птицы собирались станицами и улетали обратно, туда,
где весной цветет сирень.
Оставались лишь звери, хранившие верность вечным снегам: песцы, которых
не отличишь от сугробов, да зайцы-беляки, которые пускаются наутек от
малейшего шороха льдин. А на скалистые берега островов и на кромку
хрустальных плавучих льдов карабкалась излюбленная добыча белых медведей:
морской теленок -- тюлень и морской конь -- морж.
Они одни ложились черными пятнами на белое покрывало снега.
Кроме них, все было бело...
Белые сугробы, белый лед, белые медведи, белые песцы, белые зайцы,
белые полярные птицы, которые питаются рыбой и не могут далеко летать на
своих коротких крыльях.
Для белой медведицы животный мир этим ограничивался. Других тварей,
спасшихся от потопа в Ноевом ковчеге, она не знала.
Среди них у медведицы не было достойных противников. Одних спасало
бегство. Другие, зайцы, удирали, едва касаясь лапами ледяной глади,
проделывая акробатические прыжки; песцы прижимались к снегу и сливались с
его белизной.
Но песцы и зайцы были чересчур скудной добычей: мясо их не жирное, к
тому же его слишком мало для вместительного медвежьего желудка.
Охотиться стоило только на моржей и тюленей, дававших горы сытного
мяса.
На вид эти звери были очень страшные. Огромные, безобразные, с
блестящей шкурой, они лежали один возле другого на льдинах. Хриплый рев,
усатые, вислоухие морды моржей с загнутыми вниз клыками должны были бы
внушать ужас. Но они не умели по-настоящему драться, а тюлени были
безобиднее сосунка-волчонка. Бегать морские звери тоже не могли -- могли
только протащиться по льду несколько шагов. Защищаться они были неспособны.
Все их таланты сосредоточивались на глубинной рыбной ловле.
Медведица подстерегала их, укрывшись за торосами. Она выбирала добычу,
наваливалась всей своей тяжестью на блестящую громаду жира и мяса и вонзала
клыки в круглую голову. Трещал череп. Остальные звери скатывались в воду и
погружались в пучину.
Борьба этим заканчивалась. Несколько мгновений медведица была
всемогущей в этом снежном крае, где никакой другой наземный или водный зверь
не смел помериться с ней силами.
Там, дальше, командовала другая медведица. Они не ссорились, не
враждовали, не нарушали границ чужих владений. Когда морского зверя
становилось меньше или когда он по неизвестной причине уходил на другое
лежбище, медведицы со своим потомством перебирались на льдину и уплывали к
другому, видневшемуся на горизонте острову.
Льдина бороздила океанские просторы, как корабль без руля и без ветрил,
пока не приставала к другому замерзшему берегу.
Там снова открывалась взору сверкающая пустыня, куда еще не ступала
нога человека. Зато моржей и тюленей было вдоволь.
Путь передвижения белых медведей был отмечен кучами костей.
Их вскоре покрывал снег.
И все это происходило без посторонних свидетелей, между льдом и небом,
между океаном и небом.
Но на том острове, где очутилась наша медведица со своим детенышем, на
снегу виднелись незнакомые ей следы и ветер приносил неведомый, вселявший
тревогу запах. Скрытая угроза висела в воздухе.
Медвежонок свернулся в комок под боком у матери, где, он знал, всегда
тепло и безопасно. Зарылся мордой в ее густую белую шерсть, чуть постукивая
зубами и скуля так тихо, что его нельзя было бы услышать и в трех шагах.
Лай смолк. Ветер рассеял едкий, противный запах... Вновь наступила
обманчивая тишина. Слышался лишь лепет зеленых волн у прибрежных скал и
внизу, у ледяной кромки. Где-то между льдинами сочился ручеек.
Обманутый этой тишиной, медвежонок принялся играть и резвиться, кубарем
скатываясь с сугробов. Но медведица лапой вернула его обратно и уложила
рядом с собой, защищая мордой.
Потом поднялась на задние лапы -- проверить, не видно ли врагов на
горизонте.
Глаза у медведей маленькие и расположены по бокам головы: далей такими
глазами не охватишь. Вернее зрения и слуха служит им обоняние, но на этот
раз оно медведицу обмануло. Ветер повернул с юга на север и больше не
приносил встревожившего ее противного запаха незнакомых зверей.
Может, ей померещилось?
Медведица удовлетворенно заурчала: тем лучше! Когда с ней беспомощный
детеныш, она предпочитает места без непонятных угроз.
Можно было вернуться в нормальное положение: стать на все четыре лапы.
Но в ту самую минуту, когда она перестала беспокоиться, перед ней как
из-под земли выросли человек с ружьем и собака.
Они были очень близко.
Нарочно зашли против ветра, чтоб их не выдал запах.
Рассчитав, что у добычи нет никакой надежды на спасение, что ружье
наверняка достанет ее, охотник неожиданно появился из-за тороса.
Медведица величаво поднялась на задние лапы.
Теперь, когда она видела, как тщедушны противники, которые стояли перед
ней, ей не было страшно. Да и накопленный опыт подсказывал, что бояться
нечего. Если бы природа наградила ее способностью смеяться, она, вероятно,
захохотала бы на все Заполярье. Только и всего?! Стоило тревожиться из-за
этакой мелюзги!
Медведица смотрела на незнакомцев с большим любопытством и без всякой
враждебности. Ей хотелось подойти поближе, получше разглядеть, на что похожи
эти чудные животные.
Человек? Маленький, укутанный в кожу и меха, он казался ей
ничтожеством. Такого можно повалить одним прикосновением лапы!.. Пес?
Какой-то взъерошенный ублюдок, который зря разоряется: лает, рычит,
бросается вперед, скользит когтями по льду, отскакивает назад. Такому тоже
ничего не стоит легким ударом лапы перебить хребет, вышибить из него дух. В
руках у человека штуцер. Ничего более потешного и жалкого медведица не
видела в полярной пустыне. Палка, хворостинка. Она переломит ее пополам
одним ударом лапы, легко согнет зубами!
Медведица двинулась вперед. Рядом с ней -- медвежонок.
Человек шел ей навстречу. Она шла навстречу ему.
Шла урча, тяжело раскачиваясь на задних лапах. В ее урчании не было
ничего угрожающего. Ее толкало вперед любопытство. Интересно было, подойдя
поближе к этим диковинным, порожденным льдинами существам, узнать, что они
собой представляют. Обнюхать их, потом оглушить, повалить носом в снег:
пусть с ними повозится тогда ее игривый детеныш!
В этот-то миг и произошло чудо. Злое, страшное чудо.
Из тонкой черной трубки, из никчемной на вид хворостинки вырвалось
короткое пламя. Раздался короткий хлопок.
В глаза медведице ударил ослепительный свет. Ее захлестнула жестокая
боль, какой она еще никогда не испытывала.
Потом все померкло...
Снова хлопок, и где-то в глубине уха, за костью, новая страшная боль.
Потом великая тишина, бесчувствие, пустота. Вместе с булькающей кровью
вытекала жизнь....
Медведица рухнула на ледяное ложе и вытянулась без судорог, с обмякшими
лапами.
Она перешла рубеж смерти, не успев понять, что с ней произошло.
Быть может, она унесла с собой удивленный вопрос, который еще несколько
мгновений назад выражали ее любопытные черные глазки. И, может, ужас матери,
осознавшей в последний миг, что ее детеныша может ожидать та же участь.
Человек подошел, держа ружье под мышкой, отдавая собаке короткие
приказания.
Медвежонок зарылся мордой в теплую шерсть, покрывавшую брюхо матери.
Все, что произошло, было недоступно его пониманию.
Когда человек взял его за уши и попытался оторвать от матери,
медвежонок инстинктивно оскалился. Но рука человека бесцеремонно повернула
его. Тонкий ремешок стиснул морду, другой опутал ноги. Рядом с пронзительным
лаем вертелась ощетинившаяся собака. Человек два раза ударил ее: раз ногой и
раз прикладом ружья, чтоб она не искусала, не покалечила детеныша убитой
медведицы. Насчет этого детеныша у него были свои планы.
И действительно, начиная с этой минуты жизнь белого медвежонка
заполнилась множеством неслыханных приключений.
Появились другие закутанные в кожу и меха двуногие звери. От них несло
табаком. Едкий, отвратительный запах. Лица у них были широкие, кожа
желто-зеленая, глаза косые, борода жесткая, как щетина. Говорили и смеялись
они громко.
Их голоса пугали медвежонка.
Люди обступили лежавший в снегу труп медведицы. Достали ножи и ловко
вспороли ей брюхо. Потом содрали шкуру и поделили мясо. А дымящиеся, еще
хранившие тепло жизни потроха бросили собакам.
Связанный ремнями белый медвежонок беспомощно скулил.
Иногда двуногие звери давали ему пинка, катали по снегу, пытались
поднять его, чтобы узнать, много ли он весит.
Один из них, самый торопливый, с трубкой в зубах, из которой шел
вонючий и едкий дым, вынул из-за пояса нож и вытер лезвие о кожаные брюки.
Медвежонок не знал, что в этом лезвии таится смерть. Но на всякий
случай зарычал, показав клыки. Человек засмеялся и плашмя ударил его по
морде ножом.
К нему подошел другой человек, тот самый охотник, который убил
медведицу, и что-то крикнул, размахивая руками. Они шумно и сердито
заспорили. Потом стали торговаться.
Медвежонок, лежавший на спине, со связанными лапами и мордой, следил за
их спором своими маленькими, черными как ежевика глазами, не понимая, чего
они хотят.
Иногда он опускал веки, словно еще надеясь, что все это -- дурной сон,
вроде тех, которые пугали его в темной ледяной берлоге в первый месяц жизни.
Тогда он жалобно скулил просыпаясь и спешил зарыться мордой в теплый мех,
устроиться поближе к источнику теплого молока. Его гладила легкая лапа.
Материнский язык мыл ему глаза и нос. Он чувствовал себя в безопасности:
никакой заботы, никаких угроз.
Теперь дурной, непонятный сон не проходил.
В ушах звучали грубые, злые голоса. Невыносимый смрад не рассеивался.
Шаги скрипели по снегу совсем близко -- это приходили и уходили люди.
Потом его подняли и понесли, продев шест между связанными лапами. Несли
два человека. Другие тащили свернутую в трубку шкуру медведицы. Сани везли
груды мяса. Шли, перебираясь через сугробы и обледенелые горы.
Медвежонок скулил. У него ныли кости. То, что с ним происходило, было
непонятно и потому вдвойне мучительно. Но его жалобы никого не трогали.
Эскимосам такая чувствительность была неизвестна. Белые медведи для них --
самая желанная дичь, подобно тому, как моржи и тюлени -- самая желанная дичь
для белых медведей. Охотник на охоте не руководствуется жалостью, которая
ему совершенно ни к чему: дичь есть дичь! Особенно тут, в ледяных пустынях,
где охота -- не развлечение: туша белого медведя на некоторое время
обеспечивает пищей все племя.
Наконец дошли до стойбища, где было несколько круглых, сложенных из
льда и снега хижин с узким темным входом, который, казалось, вел в
подземелье.
Женщины и дети высыпали навстречу мужчинам. Опираясь на молодых,
притащились сгорбленные, немощные старики. Все бурно выказывали радость:
наконец-то удачная охота! Всю неделю у племени не было свежего мяса.
Питались соленой рыбой. Это было плохо: без свежего мяса немудрено заболеть
цынгой -- бичом страны вечных льдов.
Поэтому в стойбище началось шумное, безудержное веселье.
Медвежонка бросили в угол одной из хижин.
Там он впервые увидел огонь.
Это было лишь слабое, дымное пламя плошки с тюленьим жиром. Но
медвежонку оно показалось чудом, частицей солнца и в то же время напомнило
тот яркий, смертоносный свет, который вырвался из ружья. Потому он завыл и
забился.
Кругом него собрались детеныши человека -- маленькие эскимосы. Так же,
как взрослые, они были одеты в кожу и меха. И лица их были тоже закутаны
песцовыми и заячьими шкурками.
Один из них протянул медвежонку кость. Тот повернул голову. Маленький
человек засмеялся.
Наконец кто-то из ребят сжалился над пленником и развязал ремни.
Медвежонок со стоном подтащился к расстеленной в углу шкуре матери и,
улегшись на нее, стал искать источник теплого молока, искать лизавший его
язык, влажный нос. Но нос оказался сухим. И шкура была холодная. Источник
молока иссяк.
Медвежонок никак не мог понять этого страшного чуда.
Все переменилось.
Неизменным остался лишь запах: знакомый запах громадного, могучего,
доброго существа, возле которого он, медвежонок, всегда находил защиту,
приют и ласку.
Теперь это существо было просто медвежьей шкурой -- одной из самых
красивых шкур, когда-либо украшавших хижину эскимоса.
Медвежонок заскулил и свернулся клубком. Он ждал, что шкура вдруг
оживет и он вновь почувствует ласку легкой лапы, влажный язык промоет его
испуганные, печальные глаза, сосок опять набухнет теплым, вкусным молоком.
Наконец пришел сон. Вокруг плошки с тюленьим жиром заснули все
обитатели ледяной хижины: охотники и женщины, старики и дети.
Из плошки поднимался едкий, удушливый дым...
Усталые люди спали мертвым сном.
Снаружи донесся собачий лай. Но ответить на этот сигнал было уже
некому.
VI. ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И РУЖЬЕ
В ледяных пустынях, где она родилась и прожила всю жизнь, белая
медведица ни разу еще не видела человека.
Она даже не подозревала, что на свете есть такое странное существо.
Она никогда еще не слышала ни собачьего лая, ни ружейного выстрела.
Запахи человека, собаки и пороха были ей неизвестны. Она не знала, что
этих трех заклятых врагов диких зверей связывала неразрывная дружба:
человек, собака и ружье никогда не отказывались от добычи, когда ее могла
достать пуля.
Медведица даже не боялась тоненькой стальной трубки, где в свинцовой
пуле притаилась смерть.
Слишком уж далеко от охотников и ружей протекала до сих пор ее жизнь в
этой самой нехоженой части земного шара.
Пустынность этого края вечных льдов и снегов защищена лютыми морозами и
метелями. Защищена полугодовой ночью и глубоким зеленым океаном.
В те месяцы, когда солнце стояло среди неба, по безбрежным водным
просторам на юг проплывали, как таинственные галеры без парусов, без руля и
без гребцов, ледяные горы -- айсберги.
Потом наступали долгие месяцы полярной ночи, и бескрайние просторы
океана превращались в ледяную равнину: миллионы квадратных километров лежали
под снежным покровом.
Все застывало в белом безмолвии.
Во всех странах, расположенных к югу от этой неприютной пустыни, светит
солнце, реют ласточки, на сочных пастбищах звенят овечьи колокольчики и
резвятся ягнята с кисточками в ушах.
Лютые морозы и ужасы полярной ночи обороняют царство белых медведей,
отгораживают его от остального мира стеной более надежной, чем самая
неприступная крепость.
Туда, за этот рубеж, не проникает ничего из жизни, бьющей ключом южнее,
где изумрудным ковром расстилаются весенние пастбища, где благоухает сирень
и в небе заливаются жаворонки.
Разве что иногда залетят вместе с теплыми ветрами из далеких стран стаи
белых, крикливых птиц.
Птицы машут крыльями с атласным шуршанием.
Они, возможно, видели пароходы, города и порты, церкви с колокольнями и
вокзалы, поезда и телефонные провода, арочные мосты и мчащиеся по
автострадам автомобили, парки с духовыми оркестрами, сады, полные роз,
площади с высокими памятниками и много других чудес, созданных руками
человека. Может быть, они знали, что эти же руки изобрели и другие чудеса,
беспощадные для диких обитателей лесов, степей и вод. Может быть, они даже
слышали выстрелы, знали, что в тонкой стальной трубке их подстерегает
непостижимая, удивительная смерть, которая мгновенно настигнет их, лишь
только приблизится человек и приложит к глазу ружье.
Но птицы не могли рассказать всего этого медведице и ее детенышу.
Их пронзительные крики нарушали застывшую тишину белой пустыни, вещая
что-то на им одним понятном языке.
Потом, когда начинали дуть злые, студеные ветры, предвестники
полугодовой ночи, белые птицы собирались станицами и улетали обратно, туда,
где весной цветет сирень.
Оставались лишь звери, хранившие верность вечным снегам: песцы, которых
не отличишь от сугробов, да зайцы-беляки, которые пускаются наутек от
малейшего шороха льдин. А на скалистые берега островов и на кромку
хрустальных плавучих льдов карабкалась излюбленная добыча белых медведей:
морской теленок -- тюлень и морской конь -- морж.
Они одни ложились черными пятнами на белое покрывало снега.
Кроме них, все было бело...
Белые сугробы, белый лед, белые медведи, белые песцы, белые зайцы,
белые полярные птицы, которые питаются рыбой и не могут далеко летать на
своих коротких крыльях.
Для белой медведицы животный мир этим ограничивался. Других тварей,
спасшихся от потопа в Ноевом ковчеге, она не знала.
Среди них у медведицы не было достойных противников. Одних спасало
бегство. Другие, зайцы, удирали, едва касаясь лапами ледяной глади,
проделывая акробатические прыжки; песцы прижимались к снегу и сливались с
его белизной.
Но песцы и зайцы были чересчур скудной добычей: мясо их не жирное, к
тому же его слишком мало для вместительного медвежьего желудка.
Охотиться стоило только на моржей и тюленей, дававших горы сытного
мяса.
На вид эти звери были очень страшные. Огромные, безобразные, с
блестящей шкурой, они лежали один возле другого на льдинах. Хриплый рев,
усатые, вислоухие морды моржей с загнутыми вниз клыками должны были бы
внушать ужас. Но они не умели по-настоящему драться, а тюлени были
безобиднее сосунка-волчонка. Бегать морские звери тоже не могли -- могли
только протащиться по льду несколько шагов. Защищаться они были неспособны.
Все их таланты сосредоточивались на глубинной рыбной ловле.
Медведица подстерегала их, укрывшись за торосами. Она выбирала добычу,
наваливалась всей своей тяжестью на блестящую громаду жира и мяса и вонзала
клыки в круглую голову. Трещал череп. Остальные звери скатывались в воду и
погружались в пучину.
Борьба этим заканчивалась. Несколько мгновений медведица была
всемогущей в этом снежном крае, где никакой другой наземный или водный зверь
не смел помериться с ней силами.
Там, дальше, командовала другая медведица. Они не ссорились, не
враждовали, не нарушали границ чужих владений. Когда морского зверя
становилось меньше или когда он по неизвестной причине уходил на другое
лежбище, медведицы со своим потомством перебирались на льдину и уплывали к
другому, видневшемуся на горизонте острову.
Льдина бороздила океанские просторы, как корабль без руля и без ветрил,
пока не приставала к другому замерзшему берегу.
Там снова открывалась взору сверкающая пустыня, куда еще не ступала
нога человека. Зато моржей и тюленей было вдоволь.
Путь передвижения белых медведей был отмечен кучами костей.
Их вскоре покрывал снег.
И все это происходило без посторонних свидетелей, между льдом и небом,
между океаном и небом.
Но на том острове, где очутилась наша медведица со своим детенышем, на
снегу виднелись незнакомые ей следы и ветер приносил неведомый, вселявший
тревогу запах. Скрытая угроза висела в воздухе.
Медвежонок свернулся в комок под боком у матери, где, он знал, всегда
тепло и безопасно. Зарылся мордой в ее густую белую шерсть, чуть постукивая
зубами и скуля так тихо, что его нельзя было бы услышать и в трех шагах.
Лай смолк. Ветер рассеял едкий, противный запах... Вновь наступила
обманчивая тишина. Слышался лишь лепет зеленых волн у прибрежных скал и
внизу, у ледяной кромки. Где-то между льдинами сочился ручеек.
Обманутый этой тишиной, медвежонок принялся играть и резвиться, кубарем
скатываясь с сугробов. Но медведица лапой вернула его обратно и уложила
рядом с собой, защищая мордой.
Потом поднялась на задние лапы -- проверить, не видно ли врагов на
горизонте.
Глаза у медведей маленькие и расположены по бокам головы: далей такими
глазами не охватишь. Вернее зрения и слуха служит им обоняние, но на этот
раз оно медведицу обмануло. Ветер повернул с юга на север и больше не
приносил встревожившего ее противного запаха незнакомых зверей.
Может, ей померещилось?
Медведица удовлетворенно заурчала: тем лучше! Когда с ней беспомощный
детеныш, она предпочитает места без непонятных угроз.
Можно было вернуться в нормальное положение: стать на все четыре лапы.
Но в ту самую минуту, когда она перестала беспокоиться, перед ней как
из-под земли выросли человек с ружьем и собака.
Они были очень близко.
Нарочно зашли против ветра, чтоб их не выдал запах.
Рассчитав, что у добычи нет никакой надежды на спасение, что ружье
наверняка достанет ее, охотник неожиданно появился из-за тороса.
Медведица величаво поднялась на задние лапы.
Теперь, когда она видела, как тщедушны противники, которые стояли перед
ней, ей не было страшно. Да и накопленный опыт подсказывал, что бояться
нечего. Если бы природа наградила ее способностью смеяться, она, вероятно,
захохотала бы на все Заполярье. Только и всего?! Стоило тревожиться из-за
этакой мелюзги!
Медведица смотрела на незнакомцев с большим любопытством и без всякой
враждебности. Ей хотелось подойти поближе, получше разглядеть, на что похожи
эти чудные животные.
Человек? Маленький, укутанный в кожу и меха, он казался ей
ничтожеством. Такого можно повалить одним прикосновением лапы!.. Пес?
Какой-то взъерошенный ублюдок, который зря разоряется: лает, рычит,
бросается вперед, скользит когтями по льду, отскакивает назад. Такому тоже
ничего не стоит легким ударом лапы перебить хребет, вышибить из него дух. В
руках у человека штуцер. Ничего более потешного и жалкого медведица не
видела в полярной пустыне. Палка, хворостинка. Она переломит ее пополам
одним ударом лапы, легко согнет зубами!
Медведица двинулась вперед. Рядом с ней -- медвежонок.
Человек шел ей навстречу. Она шла навстречу ему.
Шла урча, тяжело раскачиваясь на задних лапах. В ее урчании не было
ничего угрожающего. Ее толкало вперед любопытство. Интересно было, подойдя
поближе к этим диковинным, порожденным льдинами существам, узнать, что они
собой представляют. Обнюхать их, потом оглушить, повалить носом в снег:
пусть с ними повозится тогда ее игривый детеныш!
В этот-то миг и произошло чудо. Злое, страшное чудо.
Из тонкой черной трубки, из никчемной на вид хворостинки вырвалось
короткое пламя. Раздался короткий хлопок.
В глаза медведице ударил ослепительный свет. Ее захлестнула жестокая
боль, какой она еще никогда не испытывала.
Потом все померкло...
Снова хлопок, и где-то в глубине уха, за костью, новая страшная боль.
Потом великая тишина, бесчувствие, пустота. Вместе с булькающей кровью
вытекала жизнь....
Медведица рухнула на ледяное ложе и вытянулась без судорог, с обмякшими
лапами.
Она перешла рубеж смерти, не успев понять, что с ней произошло.
Быть может, она унесла с собой удивленный вопрос, который еще несколько
мгновений назад выражали ее любопытные черные глазки. И, может, ужас матери,
осознавшей в последний миг, что ее детеныша может ожидать та же участь.
Человек подошел, держа ружье под мышкой, отдавая собаке короткие
приказания.
Медвежонок зарылся мордой в теплую шерсть, покрывавшую брюхо матери.
Все, что произошло, было недоступно его пониманию.
Когда человек взял его за уши и попытался оторвать от матери,
медвежонок инстинктивно оскалился. Но рука человека бесцеремонно повернула
его. Тонкий ремешок стиснул морду, другой опутал ноги. Рядом с пронзительным
лаем вертелась ощетинившаяся собака. Человек два раза ударил ее: раз ногой и
раз прикладом ружья, чтоб она не искусала, не покалечила детеныша убитой
медведицы. Насчет этого детеныша у него были свои планы.
И действительно, начиная с этой минуты жизнь белого медвежонка
заполнилась множеством неслыханных приключений.
Появились другие закутанные в кожу и меха двуногие звери. От них несло
табаком. Едкий, отвратительный запах. Лица у них были широкие, кожа
желто-зеленая, глаза косые, борода жесткая, как щетина. Говорили и смеялись
они громко.
Их голоса пугали медвежонка.
Люди обступили лежавший в снегу труп медведицы. Достали ножи и ловко
вспороли ей брюхо. Потом содрали шкуру и поделили мясо. А дымящиеся, еще
хранившие тепло жизни потроха бросили собакам.
Связанный ремнями белый медвежонок беспомощно скулил.
Иногда двуногие звери давали ему пинка, катали по снегу, пытались
поднять его, чтобы узнать, много ли он весит.
Один из них, самый торопливый, с трубкой в зубах, из которой шел
вонючий и едкий дым, вынул из-за пояса нож и вытер лезвие о кожаные брюки.
Медвежонок не знал, что в этом лезвии таится смерть. Но на всякий
случай зарычал, показав клыки. Человек засмеялся и плашмя ударил его по
морде ножом.
К нему подошел другой человек, тот самый охотник, который убил
медведицу, и что-то крикнул, размахивая руками. Они шумно и сердито
заспорили. Потом стали торговаться.
Медвежонок, лежавший на спине, со связанными лапами и мордой, следил за
их спором своими маленькими, черными как ежевика глазами, не понимая, чего
они хотят.
Иногда он опускал веки, словно еще надеясь, что все это -- дурной сон,
вроде тех, которые пугали его в темной ледяной берлоге в первый месяц жизни.
Тогда он жалобно скулил просыпаясь и спешил зарыться мордой в теплый мех,
устроиться поближе к источнику теплого молока. Его гладила легкая лапа.
Материнский язык мыл ему глаза и нос. Он чувствовал себя в безопасности:
никакой заботы, никаких угроз.
Теперь дурной, непонятный сон не проходил.
В ушах звучали грубые, злые голоса. Невыносимый смрад не рассеивался.
Шаги скрипели по снегу совсем близко -- это приходили и уходили люди.
Потом его подняли и понесли, продев шест между связанными лапами. Несли
два человека. Другие тащили свернутую в трубку шкуру медведицы. Сани везли
груды мяса. Шли, перебираясь через сугробы и обледенелые горы.
Медвежонок скулил. У него ныли кости. То, что с ним происходило, было
непонятно и потому вдвойне мучительно. Но его жалобы никого не трогали.
Эскимосам такая чувствительность была неизвестна. Белые медведи для них --
самая желанная дичь, подобно тому, как моржи и тюлени -- самая желанная дичь
для белых медведей. Охотник на охоте не руководствуется жалостью, которая
ему совершенно ни к чему: дичь есть дичь! Особенно тут, в ледяных пустынях,
где охота -- не развлечение: туша белого медведя на некоторое время
обеспечивает пищей все племя.
Наконец дошли до стойбища, где было несколько круглых, сложенных из
льда и снега хижин с узким темным входом, который, казалось, вел в
подземелье.
Женщины и дети высыпали навстречу мужчинам. Опираясь на молодых,
притащились сгорбленные, немощные старики. Все бурно выказывали радость:
наконец-то удачная охота! Всю неделю у племени не было свежего мяса.
Питались соленой рыбой. Это было плохо: без свежего мяса немудрено заболеть
цынгой -- бичом страны вечных льдов.
Поэтому в стойбище началось шумное, безудержное веселье.
Медвежонка бросили в угол одной из хижин.
Там он впервые увидел огонь.
Это было лишь слабое, дымное пламя плошки с тюленьим жиром. Но
медвежонку оно показалось чудом, частицей солнца и в то же время напомнило
тот яркий, смертоносный свет, который вырвался из ружья. Потому он завыл и
забился.
Кругом него собрались детеныши человека -- маленькие эскимосы. Так же,
как взрослые, они были одеты в кожу и меха. И лица их были тоже закутаны
песцовыми и заячьими шкурками.
Один из них протянул медвежонку кость. Тот повернул голову. Маленький
человек засмеялся.
Наконец кто-то из ребят сжалился над пленником и развязал ремни.
Медвежонок со стоном подтащился к расстеленной в углу шкуре матери и,
улегшись на нее, стал искать источник теплого молока, искать лизавший его
язык, влажный нос. Но нос оказался сухим. И шкура была холодная. Источник
молока иссяк.
Медвежонок никак не мог понять этого страшного чуда.
Все переменилось.
Неизменным остался лишь запах: знакомый запах громадного, могучего,
доброго существа, возле которого он, медвежонок, всегда находил защиту,
приют и ласку.
Теперь это существо было просто медвежьей шкурой -- одной из самых
красивых шкур, когда-либо украшавших хижину эскимоса.
Медвежонок заскулил и свернулся клубком. Он ждал, что шкура вдруг
оживет и он вновь почувствует ласку легкой лапы, влажный язык промоет его
испуганные, печальные глаза, сосок опять набухнет теплым, вкусным молоком.
Наконец пришел сон. Вокруг плошки с тюленьим жиром заснули все
обитатели ледяной хижины: охотники и женщины, старики и дети.
Из плошки поднимался едкий, удушливый дым...
Усталые люди спали мертвым сном.
Снаружи донесся собачий лай. Но ответить на этот сигнал было уже
некому.
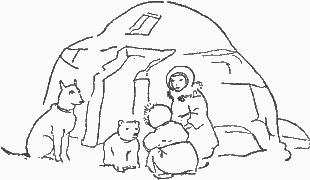 * * *
* * *
 VII. ТЫ БУДЕШЬ НАЗЫВАТЬСЯ "ФРАМ"!
Потом произошли новые события, не менее смутно осознанные медвежонком.
Проснулся он поздно, и уже не в хижине, а в лодке, обтянутой тюленьей
шкурой; на веслах сидели люди, не похожие на вчерашних: с более длинными и
белыми лицами.
Они промышляли китами и тюленями. Прибыв из дальних стран, все лето
кочевали с острова на остров, а теперь собирались домой, потому что скоро
настанет полярная ночь и задует пурга. Перед отплытием они купили у
эскимосов белого медвежонка за несколько связок табака.
Так началась для него новая жизнь.
Но понятия у медвежонка было еще мало.
Лодка плыла по зеленой воде к кораблю, стоявшему на якоре в открытом
море, подальше от льдов. Медвежонок попробовал пошевелиться и ощутил боль в
лапах. Он опять был связан ремнями. За эти ремни и подцепил его крюк, потом
поднял на высокий корабль. Трос раскачивался, и медвежонок больно ударялся
мордой и ребрами о мокрый борт. Напрасно он рычал и дергался. Ему отвечал
лишь хохот людей наверху, на палубе, и внизу, в лодке.
Сначала его так связанным и бросили среди канатов. Потом, когда все
медвежьи и тюленьи шкуры были уже погружены, чья-то рука освободила его от
ремней. Медвежонок хотел было убежать, но рука схватила его за загривок.
Медвежонок оскалился и хотел укусить руку, однако она не ударила его, а
стала гладить. Ласково, нежно. Это было ново, неожиданно и напоминало другую
ласку -- мягкой мохнатой лапы. Но та ласка составляла часть другой жизни,
оставшейся далеко позади, в родных льдах...
Рука сунула ему под нос миску с молоком, налитым из жестяной банки.
Медвежонок не притронулся к нему. Но запах молока щекотал его ноздри, будил
голод.
Когда медвежонок убедился, что на него не смотрят, стал робко лакать.
Сначала еда не понравилась ему, но потом он невольно заурчал от
удовольствия.
Молоко было теплое и слаще материнского, которым он питался до сих пор.
Так медвежонок узнал, что у людей есть и хорошие чудеса.
Молоко он вылакал до дна. Потом поднял благодарные глаза на человека,
который, посасывая трубку, ждал, когда он кончит.
Человек был высокий и худой, бородатый, с голубыми глазами. Он
дружелюбно засмеялся, потом нагнулся и опять погладил медвежонка по спине и
между ушами легкими, ловкими пальцами.
Медвежонок больше не оскалился. И уже не рычал, а издавал довольное
урчание, напоминавшее кошачье мурлыкание.
-- Что я вам говорил?! -- произнес человек, обращаясь к своим
товарищам. -- Через два дня он станет ручнее ягненка и будет ходить за мной
по пятам, как щенок!
-- И тогда ты променяешь его на пять бутылок рома!.. Верно, Ларс? --
засмеялся другой человек, попыхивая трубкой и сплевывая сквозь зубы через
борт.
Тот, которого назвали Ларсом, не ответил. По худому голубоглазому лицу
пробежала тень грусти.
Он знал, что товарищ прав, знал за собой неизлечимое пристрастие к
вину.
Когда-то, в молодости, много лет тому назад, он был другим человеком.
Лицо у него было чистым и гладким, глаза ясными, голос не был сиплым. Ларсу
тогда довелось участвовать в удивительном предприятии -- из тех, что
навсегда оставляют в жизни светлый след.
Один убежденный в своей правоте, отважный молодой человек готовился в
те годы в Норвегии к экспедиции через Ледовитый океан и вечные льды к
Северному полюсу. По собственным чертежам он построил для этой цели корабль
и набрал для него экипаж из молодых, бесстрашных моряков. Потому что
предстоявшее путешествие не было увеселительным рейсом. Немало смельчаков,
стремившихся проникнуть в тайны полярных пустынь, погибло в таких
путешествиях!
Многие, как зловещие вороны, каркали, что и эти тоже погибнут от холода
и голода.
Но молодой светловолосый Нансен только смеялся, слушая такие
предсказания.
В числе моряков, решившихся разделить с ним ужасы вечных льдов и
полярной ночи, находился и Ларс, парень из приютившегося среди фиордов
рыбачьего поселка. Он оставлял дома невесту и больную мать. Но искушение
стать участником рискованной экспедиции в еще неведомые человеку края
оказалось сильнее любви.
Он хорошо помнит то солнечное утро, когда окруженный лодками корабль
экспедиции покачивался в глубоком голубом фиорде.
Ждали тоненькую, высокую женщину, жену Нансена, которая должна была
окрестить корабль.
По обычаю, она разбила о борт бутылку шампанского, окропила корабль
пенистым напитком и произнесла:
-- Ты будешь называться "Фрам"! "Фрам", по-норвежски, означает
"Вперед".
Грянуло ура. Раздались песни. Все с восхищением и верой в успех
смотрели на смелых мореплавателей, которые отправлялись навстречу неведомым
опасностям, а может быть, и смерти.
Стоя в лодке, невеста Ларса махала платочком -- желала жениху
счастливого плавания и благополучного возвращения:
-- "Фрам"! Да здравствует "Фрам"! Удачи "Фраму"!
В течение трех лет на просторах зеленого океана и в ледяных тисках
"Фрам" полностью оправдал свое название.
Он рассекал зеленые пустынные воды, не боясь плавучих льдов. Вперед,
все время вперед!
Для Ларса это была жизнь ни с чем не сравнимая, сплетенная из терпения
и мужества, благородных порывов, борьбы со стихиями и незыблемой веры в
счастливую звезду добрых и великих дел. "Фрам" открыл неведомые до тех пор
земли, на его долю выпало немало опасностей, но он преодолевал преграды и
неизменно выходил победителем.
Через три года, когда корабль вернулся, на всех домах Норвегии реяли
флаги. Во всех глазах искрилась радость достигнутой удачи. Весть о
возвращении "Фрама" мгновенно разнеслась по всему свету.
Имя Нансена, имя "Фрама" были у всех на языке.
Среди тех, кого встречали и чествовали, находился и Ларс, никому не
известный парень из рыбачьего поселка. Его имени никто не упоминал. Велика
беда! Это нисколько не умаляло ни радости успеха, ни преданности Ларса
капитану, который привел их к победе.
Горечь и страдания ждали его по другой причине.
Когда он вернулся к себе домой, никто не вышел ему навстречу, никто не
обнял его.
Невеста и мать спали вечным сном на горе, на приютившемся среди скал
кладбище: Бедный рыбачий поселок был опустошен страшным моровым поветрием.
Никто не позаботился об его обитателях. Никто не послал им ни врачей, ни
лекарств. Люди мерли, как мухи, потому что богачам не было до них дела.
Ларса ждали две могилы, одна возле другой. На них цвели чахлые цветы.
Жизнь парня опустела. Надежды рухнули. У него не хватило сил бороться с
несправедливостями, которые встречались на каждом шагу.
Годы летели. Ларс пристрастился к вину, а когда представился случай,
поступил рядовым матросом на одно из судов, отправлявшихся в Ледовитый океан
на китобойный и тюлений промысел.
От жизни он больше ничего не ждал.
И никто больше не ждал его дома.
Иногда поздней ночью среди собутыльников он ударял кулаком по столу и,
потребовав молчания, принимался вспоминать былые годы.
Одни смеялись, другие молча слушали, качая головой, перебирая в памяти
события собственной жизни и надежды, окрылявшие их молодость, когда они тоже
были сильными и смелыми, чистыми душой и телом.
В жизни каждого человека всегда есть красивые, светлые страницы.
Какой-нибудь выдающийся, хороший поступок, говорящий о мужестве, беззаветной
любви или готовности принести себя в жертву.
Проходят годы. Только бесчувственные люди способны смеяться над такими
воспоминаниями.
В тот день в одной из кают глубоко в недрах корабля Ларс, старый матрос
и пьяница, невесть в который раз принялся рассказывать о былом.
Кто-то играл на гармонике. Другие басисто смеялись, чокались и пили.
В каюте стоял густой табачный дым -- хоть топор вешай. Духота
усугублялась рыбной вонью и вонью звериных шкур.
Захваченный рассказом Ларса, матрос, игравший на гармонике, перестал
играть. Остальные перестали смеяться.
Медвежонок спал, свернувшись калачиком у ног своего нового хозяина.
Иногда он скулил во сне, и Ларс нагибался, чтобы почесать ему голову между
ушей.
Поднялась снежная буря. Судно качалось на зеленых волнах и трещало по
всем швам.
Так когда-то трещал и "Фрам", но это было на других широтах гораздо
выше, гораздо дальше, в полярном океане. Ларс был тогда молод и с
нетерпением ждал возвращения в родной поселок, где он оставил невесту и
мать. Да, и тогда точно так же трещал по швам корабль и свистела пурга.
Ларс оборвал свой рассказ и подпер подбородок кулаками. В глазах его
стояли слезы.
Но вот он встряхнулся и встал:
-- Хватит воспоминаний! Молодости все равно не вернешь! Налейте-ка мне
лучше еще стаканчик!
Он поднял полный стакан и вылил его на медвежонка, произнеся в память
того, другого крещения:
-- Ты будешь называться Фрам! Разбуженный медвежонок испуганно вскочил.
-- Правильно, пусть он зовется Фрамом! -- подхватили матросы. -- Фрам!
Да здравствует Фрам!..
Кличка пристала к белому медвежонку.
С этой кличкой его продали за десять бутылок рома, когда корабль
вернулся, в первом же норвежском порту. Позднее под той же кличкой его
приобрел цирк Струцкого, и она же появилась на первой афише.
В обществе людей медвежонок научился вести себя, чувствовать,
веселиться и печалиться по-человечески. Он выучился акробатике и гимнастике,
научился перебирать лады гармоники, любить детей, играть мячом и радоваться
аплодисментам.
Семь лет подряд путешествовал он со своей кличкой из страны в страну,
из города в город, потешая ребят и вызывая удивление взрослых.
Белый медведь Фрам!.. Фрам, гордость цирка Струцкого!
Эскимосы на своем затертом льдами острове давно позабыли о медвежонке,
обмененном когда-то на несколько связок табака. Корабль, доставивший его из
Заполярья, может быть, затонул или был брошен за негодностью. Старый,
окончательно спившийся матрос Ларс, быть может, давно уже умер. Жизнь шла
вперед, и слава Фрама росла изо дня в день, с каждым новым городом, куда
приезжал цирк. Его опережала передаваемая из уст в уста молва об ученом
белом медведе.
И вдруг теперь, после стольких лет, ни с того, ни с сего Фрам валяется
без дела в своей клетке, в глубине циркового зверинца. Скучный, отупевший,
он сам не понимает, что с ним происходит. Точно так же, как белый медвежонок
когда-то не мог понять, по вине какого стечения обстоятельств он попал к
людям в руки.
Ночью, когда звери в клетках засыпали и видели во сне родину, где они
жили на свободе, все былое оживало и в памяти Фрама. Иногда это было во сне,
но иногда он вспоминал о родных краях и с открытыми глазами. Сон мучительно
переплетался с явью.
Сейчас прошлое вставало перед ним отчетливее, чем когда-либо. Фрам
переживал его заново.
Давно позабыт Ларс, голубоглазый матрос, который первым приласкал
медвежонка и дружески почесал ему за ушами. Такое же забвение поглотило
корабль, где Фрам впервые научился не бояться людей и стал их другом.
На все это давно опустилась тяжелая завеса времени.
Навсегда оторванный от родных льдов, Фрам вырос среди людей, научился
плясать, играть на гармонике, показывать акробатические номера и радоваться
аплодисментам.
И вдруг теперь эти далекие воспоминания, все до одного, ожили до
мельчайших подробностей; ожил даже образ большого кроткого существа, которое
согревало и кормило его в темной ледяной берлоге, когда он был маленьким и
беспомощным медвежонком.
Он закрывал глаза и видел бескрайний зеленый океан.
Видел полыхающее в небе северное сияние.
Видел плавучие льды.
Белый медведь, стоя на задних лапах, подавал ему знак: "Идем с нами,
Фрам!.."
Он даже чувствовал, как ноздри ему покалывает тысячами иголок полярный
мороз.
И тогда Фрам скулил во сне, как скулил когда-то медвежонок, оторванный
от кормившего его соска, над шкурой убитой матери.
Он просыпался весь дрожа, в страхе и безумном смятении.
Вместо чистого, морозного дыхания снегов в нос ему ударял смрад
запертых в клетках зверей, зловоние отбросов, противный запах обезьян.
Он пытался забыть. Поднимался на задние лапы и повторял свой
программный номер. Сбивался. Начинал снова. Потом тяжело падал на все четыре
лапы и растягивался на полу клетки, упершись мордой в самый темный угол. Но
стоило ему закрыть глаза, как опять перед ним расстилался, сверкая под
солнцем, зеленый океан с плавучими льдами, опять белели бескрайние снежные
просторы, прозрачность и светозарность которых нельзя сравнить ни с чем в
мире.
Фрам тосковал о ледяном мире своего детства.
* * *
VII. ТЫ БУДЕШЬ НАЗЫВАТЬСЯ "ФРАМ"!
Потом произошли новые события, не менее смутно осознанные медвежонком.
Проснулся он поздно, и уже не в хижине, а в лодке, обтянутой тюленьей
шкурой; на веслах сидели люди, не похожие на вчерашних: с более длинными и
белыми лицами.
Они промышляли китами и тюленями. Прибыв из дальних стран, все лето
кочевали с острова на остров, а теперь собирались домой, потому что скоро
настанет полярная ночь и задует пурга. Перед отплытием они купили у
эскимосов белого медвежонка за несколько связок табака.
Так началась для него новая жизнь.
Но понятия у медвежонка было еще мало.
Лодка плыла по зеленой воде к кораблю, стоявшему на якоре в открытом
море, подальше от льдов. Медвежонок попробовал пошевелиться и ощутил боль в
лапах. Он опять был связан ремнями. За эти ремни и подцепил его крюк, потом
поднял на высокий корабль. Трос раскачивался, и медвежонок больно ударялся
мордой и ребрами о мокрый борт. Напрасно он рычал и дергался. Ему отвечал
лишь хохот людей наверху, на палубе, и внизу, в лодке.
Сначала его так связанным и бросили среди канатов. Потом, когда все
медвежьи и тюленьи шкуры были уже погружены, чья-то рука освободила его от
ремней. Медвежонок хотел было убежать, но рука схватила его за загривок.
Медвежонок оскалился и хотел укусить руку, однако она не ударила его, а
стала гладить. Ласково, нежно. Это было ново, неожиданно и напоминало другую
ласку -- мягкой мохнатой лапы. Но та ласка составляла часть другой жизни,
оставшейся далеко позади, в родных льдах...
Рука сунула ему под нос миску с молоком, налитым из жестяной банки.
Медвежонок не притронулся к нему. Но запах молока щекотал его ноздри, будил
голод.
Когда медвежонок убедился, что на него не смотрят, стал робко лакать.
Сначала еда не понравилась ему, но потом он невольно заурчал от
удовольствия.
Молоко было теплое и слаще материнского, которым он питался до сих пор.
Так медвежонок узнал, что у людей есть и хорошие чудеса.
Молоко он вылакал до дна. Потом поднял благодарные глаза на человека,
который, посасывая трубку, ждал, когда он кончит.
Человек был высокий и худой, бородатый, с голубыми глазами. Он
дружелюбно засмеялся, потом нагнулся и опять погладил медвежонка по спине и
между ушами легкими, ловкими пальцами.
Медвежонок больше не оскалился. И уже не рычал, а издавал довольное
урчание, напоминавшее кошачье мурлыкание.
-- Что я вам говорил?! -- произнес человек, обращаясь к своим
товарищам. -- Через два дня он станет ручнее ягненка и будет ходить за мной
по пятам, как щенок!
-- И тогда ты променяешь его на пять бутылок рома!.. Верно, Ларс? --
засмеялся другой человек, попыхивая трубкой и сплевывая сквозь зубы через
борт.
Тот, которого назвали Ларсом, не ответил. По худому голубоглазому лицу
пробежала тень грусти.
Он знал, что товарищ прав, знал за собой неизлечимое пристрастие к
вину.
Когда-то, в молодости, много лет тому назад, он был другим человеком.
Лицо у него было чистым и гладким, глаза ясными, голос не был сиплым. Ларсу
тогда довелось участвовать в удивительном предприятии -- из тех, что
навсегда оставляют в жизни светлый след.
Один убежденный в своей правоте, отважный молодой человек готовился в
те годы в Норвегии к экспедиции через Ледовитый океан и вечные льды к
Северному полюсу. По собственным чертежам он построил для этой цели корабль
и набрал для него экипаж из молодых, бесстрашных моряков. Потому что
предстоявшее путешествие не было увеселительным рейсом. Немало смельчаков,
стремившихся проникнуть в тайны полярных пустынь, погибло в таких
путешествиях!
Многие, как зловещие вороны, каркали, что и эти тоже погибнут от холода
и голода.
Но молодой светловолосый Нансен только смеялся, слушая такие
предсказания.
В числе моряков, решившихся разделить с ним ужасы вечных льдов и
полярной ночи, находился и Ларс, парень из приютившегося среди фиордов
рыбачьего поселка. Он оставлял дома невесту и больную мать. Но искушение
стать участником рискованной экспедиции в еще неведомые человеку края
оказалось сильнее любви.
Он хорошо помнит то солнечное утро, когда окруженный лодками корабль
экспедиции покачивался в глубоком голубом фиорде.
Ждали тоненькую, высокую женщину, жену Нансена, которая должна была
окрестить корабль.
По обычаю, она разбила о борт бутылку шампанского, окропила корабль
пенистым напитком и произнесла:
-- Ты будешь называться "Фрам"! "Фрам", по-норвежски, означает
"Вперед".
Грянуло ура. Раздались песни. Все с восхищением и верой в успех
смотрели на смелых мореплавателей, которые отправлялись навстречу неведомым
опасностям, а может быть, и смерти.
Стоя в лодке, невеста Ларса махала платочком -- желала жениху
счастливого плавания и благополучного возвращения:
-- "Фрам"! Да здравствует "Фрам"! Удачи "Фраму"!
В течение трех лет на просторах зеленого океана и в ледяных тисках
"Фрам" полностью оправдал свое название.
Он рассекал зеленые пустынные воды, не боясь плавучих льдов. Вперед,
все время вперед!
Для Ларса это была жизнь ни с чем не сравнимая, сплетенная из терпения
и мужества, благородных порывов, борьбы со стихиями и незыблемой веры в
счастливую звезду добрых и великих дел. "Фрам" открыл неведомые до тех пор
земли, на его долю выпало немало опасностей, но он преодолевал преграды и
неизменно выходил победителем.
Через три года, когда корабль вернулся, на всех домах Норвегии реяли
флаги. Во всех глазах искрилась радость достигнутой удачи. Весть о
возвращении "Фрама" мгновенно разнеслась по всему свету.
Имя Нансена, имя "Фрама" были у всех на языке.
Среди тех, кого встречали и чествовали, находился и Ларс, никому не
известный парень из рыбачьего поселка. Его имени никто не упоминал. Велика
беда! Это нисколько не умаляло ни радости успеха, ни преданности Ларса
капитану, который привел их к победе.
Горечь и страдания ждали его по другой причине.
Когда он вернулся к себе домой, никто не вышел ему навстречу, никто не
обнял его.
Невеста и мать спали вечным сном на горе, на приютившемся среди скал
кладбище: Бедный рыбачий поселок был опустошен страшным моровым поветрием.
Никто не позаботился об его обитателях. Никто не послал им ни врачей, ни
лекарств. Люди мерли, как мухи, потому что богачам не было до них дела.
Ларса ждали две могилы, одна возле другой. На них цвели чахлые цветы.
Жизнь парня опустела. Надежды рухнули. У него не хватило сил бороться с
несправедливостями, которые встречались на каждом шагу.
Годы летели. Ларс пристрастился к вину, а когда представился случай,
поступил рядовым матросом на одно из судов, отправлявшихся в Ледовитый океан
на китобойный и тюлений промысел.
От жизни он больше ничего не ждал.
И никто больше не ждал его дома.
Иногда поздней ночью среди собутыльников он ударял кулаком по столу и,
потребовав молчания, принимался вспоминать былые годы.
Одни смеялись, другие молча слушали, качая головой, перебирая в памяти
события собственной жизни и надежды, окрылявшие их молодость, когда они тоже
были сильными и смелыми, чистыми душой и телом.
В жизни каждого человека всегда есть красивые, светлые страницы.
Какой-нибудь выдающийся, хороший поступок, говорящий о мужестве, беззаветной
любви или готовности принести себя в жертву.
Проходят годы. Только бесчувственные люди способны смеяться над такими
воспоминаниями.
В тот день в одной из кают глубоко в недрах корабля Ларс, старый матрос
и пьяница, невесть в который раз принялся рассказывать о былом.
Кто-то играл на гармонике. Другие басисто смеялись, чокались и пили.
В каюте стоял густой табачный дым -- хоть топор вешай. Духота
усугублялась рыбной вонью и вонью звериных шкур.
Захваченный рассказом Ларса, матрос, игравший на гармонике, перестал
играть. Остальные перестали смеяться.
Медвежонок спал, свернувшись калачиком у ног своего нового хозяина.
Иногда он скулил во сне, и Ларс нагибался, чтобы почесать ему голову между
ушей.
Поднялась снежная буря. Судно качалось на зеленых волнах и трещало по
всем швам.
Так когда-то трещал и "Фрам", но это было на других широтах гораздо
выше, гораздо дальше, в полярном океане. Ларс был тогда молод и с
нетерпением ждал возвращения в родной поселок, где он оставил невесту и
мать. Да, и тогда точно так же трещал по швам корабль и свистела пурга.
Ларс оборвал свой рассказ и подпер подбородок кулаками. В глазах его
стояли слезы.
Но вот он встряхнулся и встал:
-- Хватит воспоминаний! Молодости все равно не вернешь! Налейте-ка мне
лучше еще стаканчик!
Он поднял полный стакан и вылил его на медвежонка, произнеся в память
того, другого крещения:
-- Ты будешь называться Фрам! Разбуженный медвежонок испуганно вскочил.
-- Правильно, пусть он зовется Фрамом! -- подхватили матросы. -- Фрам!
Да здравствует Фрам!..
Кличка пристала к белому медвежонку.
С этой кличкой его продали за десять бутылок рома, когда корабль
вернулся, в первом же норвежском порту. Позднее под той же кличкой его
приобрел цирк Струцкого, и она же появилась на первой афише.
В обществе людей медвежонок научился вести себя, чувствовать,
веселиться и печалиться по-человечески. Он выучился акробатике и гимнастике,
научился перебирать лады гармоники, любить детей, играть мячом и радоваться
аплодисментам.
Семь лет подряд путешествовал он со своей кличкой из страны в страну,
из города в город, потешая ребят и вызывая удивление взрослых.
Белый медведь Фрам!.. Фрам, гордость цирка Струцкого!
Эскимосы на своем затертом льдами острове давно позабыли о медвежонке,
обмененном когда-то на несколько связок табака. Корабль, доставивший его из
Заполярья, может быть, затонул или был брошен за негодностью. Старый,
окончательно спившийся матрос Ларс, быть может, давно уже умер. Жизнь шла
вперед, и слава Фрама росла изо дня в день, с каждым новым городом, куда
приезжал цирк. Его опережала передаваемая из уст в уста молва об ученом
белом медведе.
И вдруг теперь, после стольких лет, ни с того, ни с сего Фрам валяется
без дела в своей клетке, в глубине циркового зверинца. Скучный, отупевший,
он сам не понимает, что с ним происходит. Точно так же, как белый медвежонок
когда-то не мог понять, по вине какого стечения обстоятельств он попал к
людям в руки.
Ночью, когда звери в клетках засыпали и видели во сне родину, где они
жили на свободе, все былое оживало и в памяти Фрама. Иногда это было во сне,
но иногда он вспоминал о родных краях и с открытыми глазами. Сон мучительно
переплетался с явью.
Сейчас прошлое вставало перед ним отчетливее, чем когда-либо. Фрам
переживал его заново.
Давно позабыт Ларс, голубоглазый матрос, который первым приласкал
медвежонка и дружески почесал ему за ушами. Такое же забвение поглотило
корабль, где Фрам впервые научился не бояться людей и стал их другом.
На все это давно опустилась тяжелая завеса времени.
Навсегда оторванный от родных льдов, Фрам вырос среди людей, научился
плясать, играть на гармонике, показывать акробатические номера и радоваться
аплодисментам.
И вдруг теперь эти далекие воспоминания, все до одного, ожили до
мельчайших подробностей; ожил даже образ большого кроткого существа, которое
согревало и кормило его в темной ледяной берлоге, когда он был маленьким и
беспомощным медвежонком.
Он закрывал глаза и видел бескрайний зеленый океан.
Видел полыхающее в небе северное сияние.
Видел плавучие льды.
Белый медведь, стоя на задних лапах, подавал ему знак: "Идем с нами,
Фрам!.."
Он даже чувствовал, как ноздри ему покалывает тысячами иголок полярный
мороз.
И тогда Фрам скулил во сне, как скулил когда-то медвежонок, оторванный
от кормившего его соска, над шкурой убитой матери.
Он просыпался весь дрожа, в страхе и безумном смятении.
Вместо чистого, морозного дыхания снегов в нос ему ударял смрад
запертых в клетках зверей, зловоние отбросов, противный запах обезьян.
Он пытался забыть. Поднимался на задние лапы и повторял свой
программный номер. Сбивался. Начинал снова. Потом тяжело падал на все четыре
лапы и растягивался на полу клетки, упершись мордой в самый темный угол. Но
стоило ему закрыть глаза, как опять перед ним расстилался, сверкая под
солнцем, зеленый океан с плавучими льдами, опять белели бескрайние снежные
просторы, прозрачность и светозарность которых нельзя сравнить ни с чем в
мире.
Фрам тосковал о ледяном мире своего детства.
* * *
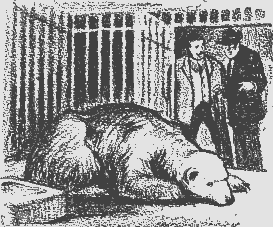 VIII. НАЗАД К ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ
В городе, где давал представления цирк, жил старый человек, написавший
когда-то несколько книг о медведях. Теперь он ходил с трудом, опираясь на
палку, вечно кашлял и носил толстые, выпуклые очки, без которых из-за
близорукости ничего не видел. Руки у него сильно тряслись.
Старик жил один, со своими собаками и кошками. У него не было
голубоглазой внучки, как у пенсионера-учителя в том, другом городе, где Фрам
вызвал такое волнение на прощальном представлении. У него не было семьи. Да
и вообще у него никого не было.
В молодости он был одним из самых знаменитых в мире охотников и
объездил много стран в поисках редкостных и опасных зверей. Он гордился тем,
что ни разу не упустил добычи, не потратил зря ни одной пули. Его
справедливо считали одним из самых опытных медвежатников.
В доме у него до сих пор было много шкур убитых им животных. Одни
лежали на полу, у кровати, другие были развешены по стенам, третьи покрывали
диваны.
Были тут шкуры рыжих медведей, так называемых гризли, которые живут в
скалистых горах Северной Америки и отличаются необыкновенной свирепостью:
горе тому, кто попадется им в лапы! Были шкуры карликовых медведей, с кота
величиной, которые живут в Индонезии, на островах Суматра и Ява; шкуры бурых
карпатских медведей, которые любят прятаться в пещерах и лакомиться медом:
случается, что они даже уносят с пчельника целые ульи; шкуры белых медведей
Аляски, Сибири, Гренландии или тех островов, где был пойман Фрам; шкуры
черных медведей, которые живут в Пиринеях и карабкаются по елям, как
обезьяны.
В течение многих лет медведь представлял для него лишь редкостную,
страшную в гневе добычу, на которой стоило проверить зоркость глаза,
меткость прицела.
Так было до тех пор, пока однажды охотнику не довелось застрелить в
далеких лесах Канады рыжую медведицу.
Он преследовал медведицу целое утро, побившись об заклад с товарищем по
охоте, что уложит ее одним выстрелом. Пари он выиграл. Зверь рухнул от
первой пули.
Но перед тем, как испустить дух, медведица привлекла к себе лапой
медвежонка, пытаясь даже в смертный час защитить его грудью.
Медвежонок был совсем маленький, всего нескольких недель. У него только
что открылись глаза. Он нетвердо стоял на лапах, жалобно скулил и не давал
оторвать себя от убитой матери.
Охотник взял его к себе и начал кормить. Сначала медвежонок не
притрагивался ни к молоку, ни к меду, ни к фруктовому сиропу. Он искал
тепла, точно так же, как Фрам, который все ждал в хижине эскимосов чуда: не
оживет ли шкура матери, не приласкает ли его ее мертвая лапа.
Медвежонок жил у охотника до тех пор, пока тот не выпустил его обратно
в лесную чащу и не уехал из Канады. Продолжая свои скитания, этот человек
принялся изучать жизнь, привычки медведей и написал о них несколько книг, в
которых были подробно описаны повадки медведей всех видов и их различия.
Занятиям этим положила предел старость, превратившая бывшего охотника в
того немощного, полуслепого, опирающегося на палку господина, который
однажды утром вошел в зверинец цирка Струцкого и остановился перед клеткой
Фрама.
Сопровождавший его директор рассказал о том, что произошло с ее
обитателем:
-- Вот уже третий раз меня таким образом подводят белые медведи!
Несколько лет они ведут себя, как самые умные ручные звери. Заучив номер,
они не нуждаются в дрессировщике: выходят на арену одни. А потом без всякой
видимой причины вдруг глупеют. Начисто все забывают. Ничего больше не
понимают. Лежат в клетке и чахнут. Преодолеть их упрямство невозможно. На
моей практике это третий случай. О первых двух медведях я не очень
сокрушался. Потеря была небольшая. Это были обыкновенные, ничем особенным не
отличавшиеся белые медведи. Не умнее и не глупее остальных... Совсем другое
дело Фрам. Фрам был замечательным, не знавшим себе равного артистом! Могу
побиться об заклад, что он изучил вкусы публики в разных странах, даже в
разных городах одной и той же страны, и умел к ним приспособиться:
чувствовал, что кому нравится. Когда наступал его черед в программе, я
бросал все дела и следил за ним из-за кулис с неменьшим любопытством и
восхищением, чем зрители. Никогда нельзя было предвидеть, что он экспромтом
выдумает. Я даже ставил его в пример клоунам: "Смотрите на него и учитесь!
-- говорил я им. -- По-моему, он знает публику лучше вас". А теперь сами
видите: уткнулся мордой в угол и превратился в самого обыкновенного медведя.
Никогда больше, сколько бы я ни прожил, не найти мне второго такого
артиста...
Опираясь на палку, бывший охотник долго глядел на белого медведя
близорукими глазами, потом просунул сквозь решетку слабую, дрожащую руку и
тихонько позвал:
-- Фрам, а Фрам! Скажи, что с тобой приключилось? Почему ты такой
скучный? Эх ты, чудила!
Фрам даже не повернул голову -- только еще глубже втиснулся в свой
угол, упершись носом в деревянную перегородку. Старик, убивший на своем веку
десятки медведей, а потом писавший о них с такой любовью, протер очки и
откашлялся.
-- Вы его очень любили? -- задал он директору неожиданный вопрос.
-- Я делец, -- ответил тот. -- Нежные чувства для директора цирка --
ненужная роскошь, от них одни убытки. Хорошим артистам, которые привлекают
публику и увеличивают сбор, я плачу щедро. Зато и заставляю их работать до
седьмого пота. Животным в зверинце я обеспечиваю хороший уход и сытный корм,
потому что публике нравятся красивые, гладкие звери, а не обтянутые кожей
скелеты...
-- Значит, для вас все сводится к чистогану?
-- Именно... До остального мне нет дела.
-- Понятно. Тогда я поставлю вопрос иначе. Много ли денег принес вам
Фрам?
-- Грех сказать, что мало! -- признался директор. -- Семь лет сряду он
был нашим главным аттракционом. Без него не обходилось ни одной программы.
Стоило ему появиться на афише, как все билеты немедленно распродавались.
Народ валом валил в цирк.
-- Значит, вы у него в долгу?
-- Несомненно. Я бы дорого дал, чтоб снова увидеть его таким, каким он
был.
Старик рассмеялся, ковыряя палкой землю.
-- Вы меня не так поняли! Речь не о том, сколько бы вы дали, чтобы
вернуть прежнего Фрама. Это не значит сделать что-нибудь для него. Вы
сделали бы это для себя, для цирка. То есть опять-таки ради наживы. Вы
готовы заплатить за то, чтобы Фрам снова стал любимцем публики и снова начал
приносить вам доход. Насколько мне известно из жизни медведей, этого
случиться не может. Я спрашиваю вас, согласились бы вы истратить известную
сумму без всякой пользы для цирка, ради самого Фрама? В память его прежних
заслуг? Согласны ли вы понести такой расход?
-- Согласен! -- тихо ответил директор. -- Фрам этого действительно
заслужил. Конечно, если деньги могут ему помочь... Чему я лично не верю...
-- Вы сейчас поверите! -- улыбнулся бывший медвежатник. -- У Фрама
просто тоска по родине. Больше ничего! Его потянуло к родным льдам и снегам.
В нем проснулось прежнее, забытое. Вы изъявили готовность пожертвовать на
него некоторую сумму. По-моему, вы должны отправить его обратно на Север.
Директор цирка Струцкого посмотрел на старого господина с недоверием.
Ему показалось, что тот разыгрывает его, высказывая такую сумасбродную
мысль:
-- Не вижу, как это можно сделать. Купить ему железнодорожный билет?
Бывший охотник досадливо пожал плечами:
-- Вы прекрасно знаете, что я имел в виду не это! Я вовсе не шучу.
Существует очень простой способ послать Фрама обратно. Правда, дорогой...
Зато очень простой. Теперь в Ледовитый океан уходят ежегодно сотни
пароходов. Отправьте его на одном из них. Доверьте вашего Фрама под честное
слово. Его доставят на какой-нибудь остров, а там выпустят на свободу. И
делу конец!.. Или, вернее, не конец, а начало -- настоящая история Фрама
только начинается. Если бы не годы и болезни, я бы сам вызвался его отвезти.
Хотя бы только для того, чтобы взглянуть, что он там будет делать, как будет
чувствовать себя среди родных льдов... Это было бы новой главой в моих
книгах, которой суждено остаться недописанной, одним из интереснейших
экспериментов!
Директор задумался, подсчитывая в уме, во сколько это может обойтись.
Он знал, что стоит такое путешествие, но в то же время понимал, что такой
поступок был бы своего рода рекламой для цирка. Как ловкому дельцу, ему
пришло в голову дать несколько представлений с надбавкой на билеты и открыть
подписной лист в пользу Фрама. Сам он в убытке не будет!
-- Я это сделаю! -- твердо сказал директор. -- Сколько бы мне ни
стоило.
-- В таком случае дайте мне пожать вашу руку! -- обрадовался старый
охотник на медведей, ставший их защитником, не подозревая, какие тайные
расчеты руководят директором. -- Вы доставили мне большое удовольствие.
Он повернулся к Фраму и помахал ему дрожащей рукой:
-- Господин Фрам, вам, мне кажется, пора собираться в дорогу. Знаю, что
у вас нет ни чемодана, ни зубной щетки. Но это не беда! Желаю вам снова
стать диким и свободным зверем, как все белые медведи... Наслаждаться
льдами, ветрами, пургой, полярным солнцем, северным сиянием... Найти себе
подходящую медведицу и стать отцом семейства честных белых медведей, которое
будет украшением вашего племени!
Фрам медленно поднял лежавшую не лапах морду и повел маленькими
грустными глазами на незнакомого доброго и веселого, хотя и чересчур,
пожалуй, разговорчивого старика.
Он, казалось, понимал, о чем речь.
-- Ну-с, милостивый государь, вы не собираетесь меня поблагодарить? --
спросил бывший медвежатник. -- Не ожидал я этого от вас!
Фрам поднялся на задние лапы и смешно отдал честь, приложив к голове
лапу: так он обычно отвечал публике на аплодисменты.
-- Вот это другое дело! Только смотрите, не забудьте оставить все эти
церемонии нам, людям. В ледяных пустынях с ними далеко не уедешь, там
отдавать честь по нашей моде не полагается! А теперь до свидания!
Счастливого пути!
Фрам козырнул еще раз.
Потом опустился на четыре лапы, снова забился в свой угол и, уткнувшись
мордой в перегородку, с закрытыми глазами принялся мечтать о ледяных горах,
которые плывут по зеленому океану, как таинственные галеры без парусов, без
руля и без гребцов.
Он остался в одиночестве.
Но директор цирка сдержал слово. Напечатал афиши. Дал несколько
представлений в пользу Фрама. Открыл подписной лист. Собрал больше денег,
чем было нужно... Потом сел писать письма и отправил несколько телеграмм.
Через две недели пришел желанный ответ.
В одном иностранном порту работала крупная фирма, платившая большие
деньги охотникам разных стран за поимку диких зверей, птиц и пресмыкающихся
для цирков, зверинцев и зоопарков. Директор этой фирмы предложил свои
услуги, чтобы отправить Фрама на родину.
Вскоре в Заполярье должен был отплыть пароход с экскурсантами. На его
борту будут находиться и два опытных охотника, которым поручено фирмой
доставить белых медвежат для европейских цирков, зверинцев и зоопарков. Так
что путешествие Фрама почти ничего не будет стоить.
Новость мгновенно распространилась по цирку и произвела сенсацию.
В день отъезда Фрама клоуны и гимнасты, акробаты и наездники -- все
пришли прощаться с белым медведем.
Одни ласкали его, другие угощали любимыми фруктами, конфетами и
сиропом.
Дольше всех у его клетки задержался глупый Августин.
На этот раз у него не было ни носа в виде спелого помидора, ни
кирпичного цвета парика, который он ерошил, вызывая хохот галерки.
Дело было утром. До представления оставалось еще много времени, и
поэтому глупый Августин еще не был одет и загримирован паяцем. В общем, в
этот час он выглядел самым обыкновенным человеком. Бедно одетым, с усталым
лицом и грустными глазами. Таким был он в настоящей жизни: без фрака с
фалдами до пят, без длинных, как лыжи, ботинок, кирпичного парика и смешного
носа.
Это был старый, больной, одинокий клоун, знавший, что ему придется
кончать жизнь в больнице или в богадельне.
Так же, как Фрам, он чувствовал себя очень усталым.
Ему надоело паясничать, проделывать сальто-мортале и гримасничать для
развлечения галерки. Но другого выхода не было: нужно было смеяться, строить
рожи, получать удары доской по голове, затрещины и пинки, потому что только
такой ценой можно было заработать кусок хлеба. Иначе директор, с которым
звери не могли сравниться в жестокости, беспощадно выкинул бы его на улицу.
Теперь старый, больной клоун пришел проститься с Фрамом.
Семь лет они не расставались, скитаясь с цирком из города в город, из
страны в страну. Наградой им были аплодисменты и симпатии публики.
И вот теперь судьба разлучала их.
Она оказалась милостивее к медведю, которого ждала свобода, и
беспощаднее к человеку, который из-за куска хлеба был связан до самой смерти
с цирком.
Глупый Августин вошел в клетку.
Фрам посмотрел на него своими добрыми, кроткими глазами. Эти двое были
старыми друзьями. Медведь, казалось, понимал, какой ценой доставался паяцу
насущный хлеб и чего ему стоило развлекать изо дня в день публику.
-- Значит, едешь? -- спросил клоун, ероша Фраму шерсть. Ответить
медведь не мог.
Впрочем, он и не знал, что уезжает. Не знал, какой сюрприз приготовил
ему старый охотник.
Ему казалось удивительным, что сегодня все заходят к нему, гладят его,
балуют сластями. Эти проявления любви были для него непонятны. Он чувствовал
только, что готовится нечто необычное. Волнение людей заразило его, но
медвежий разум не мог объяснить причины происходящего.
-- Значит, едешь? -- повторил свой вопрос глупый Августин. -- Завидую
тебе, дружище Фрам! Мне будет скучно. Цирк без тебя опустеет. Ты был
славным, порядочным медведем, куда порядочнее нашего директора, жадного
зверя в человеческом обличье!..
Паяц зарыл старое, морщинистое лицо в косматую шкуру белого медведя.
Фрам дружески чуть тронул его лапой, словно догадался, как горько
приходится клоуну.
Тот отпрянул от него, почувствовав, что вот-вот расплачется. Ему не
хотелось, чтоб его видели другие: чего доброго еще поднимут на смех: глупый
Августин плачет! Он открыл решетчатую дверцу клетки и убежал, махнув через
плечо рукой:
-- Счастливого пути, Фрам! Счастливого пути!
В тот же день Фрама погрузили в вагон, прицепленный в хвосте поезда.
Его сопровождал приставленный к нему человек.
День, ночь и еще день мчался поезд по разным странам и к вечеру на
вторые сутки прибыл в порт, откуда должен был отправиться в Ледовитый океан
пароход с охотниками.
Фрама вовсе не утомила смена видов, городов и людей: он был опытным
путешественником.
Он привык переезжать из страны в страну, слышать вокруг себя разные
языки, видеть по-разному одетых людей. На его пути попадались города, где
еще виднелись на стенах старые, забытые, поблекшие от дождей и солнца афиши
с его изображением и подписью большими буквами: "ФРАМ, БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ".
Фрам почувствовал, что с ним происходит нечто необычное, чего раньше не
бывало, лишь тогда, когда пароход отвалил от причала.
Фрам царапал когтями дверь каюты, не притронулся к предложенной еде, не
стал даже пить и вообще проявлял признаки крайнего беспокойства.
Хлюпанье воды у бортов напомнило ему что-то очень давнее, очень
далекое.
Да, все это было похоже на то первое путешествие по океану, с Ларсом,
моряком с голубыми глазами и пристрастием к алкоголю, который привез его в
теплые края и продал за десять бутылок рома.
Среди пассажиров, участников экскурсии в Заполярье, быстро
распространился слух о том, что на пароходе находится дрессированный белый
медведь, знаменитый Фрам из цирка Струцкого, которого отправляют обратно в
страну вечных льдов, потому что он затосковал и не желает больше выступать
на арене.
К Фраму стали приходить, ему приносили булки и конфеты, фрукты и
напитки. Нашлись люди, которые когда-то видели его в цирке, аплодировали ему
и прекрасно помнили, как он опорожнял бутылки с пивом, играл на гармонике и
раздавал детям конфеты.
Они удивлялись, что теперь его не соблазняют ни конфеты, ни фрукты, ни
бутылки.
-- Может, ему здесь просто скучно! -- сказала одна молодая женщина. --
Смотрите, какой он грустный! Когда я видела его в цирке, это был самый
веселый медведь на свете. Настоящий буффон! Я смеялась до слез... Давайте
поговорим с капитаном. С ним, кажется, можно столковаться. Пусть позволит
выпускать Фрама на палубу... Держу пари, что он будет любоваться морем и
радоваться ему, как человек...
Молодая женщина была добрая и одними словами не ограничилась, а пошла к
капитану и убедила его.
Фраму открыли дверь, и он получил возможность свободно прогуливаться по
палубе вместе с пассажирами.
Белый медведь и в самом деле повел себя, как человек.
Поднявшись на задние лапы, он оперся о фальшборт и долго стоял,
устремив взгляд в морские дали, на север, где за горизонтом простирались
вечные льды и снега.
Потом точно так же, как другие пассажиры, принялся расхаживать по
палубе в поисках других развлечений. Его окружили любопытные. Дети
протягивали ему кто мячик, кто корзиночку с конфетами. Фрам забавлялся,
подбрасывая мячик, открывал корзиночку и раздавал детворе сласти. К вечеру
он стал всеобщим другом.
Но время от времени он подходил к фальшборту, вглядывался в дали и
тянул носом соленый воздух.
Когда стемнело, он сам вернулся в каюту.
-- А что я вам говорила?! -- торжествовала молодая женщина с добрым
сердцем. -- Это же необыкновенный зверь! На месте капитана, я завела бы на
пароходе постоянного медведя. Лучшее развлечение для пассажиров!
На четвертые сутки цвет моря изменился -- стал холодно зеленым, ветер
приносил суровое дыхание Севера. Яснее, светлее стали ночи.
Фрам перестал забавляться, бросая и ловя мячик. Он не отходил теперь от
фальшборта: неподвижно стоял на задних лапах и вдыхал, раздувая ноздри,
студеный ветер, такой для него родной и знакомый.
Однажды утром он увидел на горизонте первые айсберги.
Параход замедлил ход, осторожно обходя плавучие ледяные горы.
Фрам жадно наполнял легкие влажным соленым воздухом.
В тот вечер он не вернулся в свою запрятанную в недрах парохода каюту,
а всю ночь простоял как завороженный, у фальшборта, устремив взор в синие
дали.
Чья-то рука легла на его шкуру. Он даже не слышал шагов.
Это оказалась молодая женщина с добрым сердцем. Она куталась в теплую
шубу. Ей тоже не спалось. Это было ее первое путешествие в край полярных
льдов.
Узнав, что утром охотники, которым был поручен Фрам, собираются
выпустить его на остров, она оделась и вышла на палубу -- посмотреть, что
делает ее белый медведь.
-- Итак, друг Фрам, ты нас покидаешь? -- прошептала женщина. -- И ни о
чем не будешь жалеть? Не будешь тосковать по нашему миру? Тебе не будет
скучно одному, без людей, в холодной пустыне?..
Ее рука гладила белую, влажную от соленого морского ветра шкуру.
Фрам повернул голову и посмотрел своими кроткими глазами на это доброе
существо, которого он с завтрашнего дня уже больше никогда не увидит.
Медведь, казалось, понимал ее вопросы и даже знал, какими словами ответил бы
ей, если бы природа наделила его даром слова. Он легонько обнял ее за плечи
согнутой лапой, как делал это когда-то со своими друзьями в цирке.
Женщина негромко вскрикнула. Испугалась. В голове молнией мелькнула
мысль, что Фрам все же зверь. Она уже упрекнула себя за то, что так
необдуманно поступила -- вышла ночью одна на палубу, где не было ни души, и
приблизилась к нему.
Но в тот же миг объятие Фрама разжалось. В его глазах сверкнуло что-то,
похожее на упрек. Словно ему хотелось сказать: "Чего ж ты испугалась?
Неужели все еще не веришь, что я ручной медведь и никогда не причиню зла
человеку?"
Женщина зябко поежилась. Шубка плохо защищала ее от ночного холода. Она
помахала затянутой в перчатку рукой:
-- Покойной ночи, Фрам!.. Иди, ложись. Для тебя с завтрашнего дня
начнется новая жизнь. Не очень-то легко тебе будет, потому что ты привык к
другому!
Фрам остался один. Синяя ночь была непохожа на те ночи, к которым
привыкли пассажиры: в ней еще держался окутанный дымкой солнечный свет.
Пароход приближался к тем широтам, где день сливается с ночью и сутки равны
году.
VIII. НАЗАД К ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ
В городе, где давал представления цирк, жил старый человек, написавший
когда-то несколько книг о медведях. Теперь он ходил с трудом, опираясь на
палку, вечно кашлял и носил толстые, выпуклые очки, без которых из-за
близорукости ничего не видел. Руки у него сильно тряслись.
Старик жил один, со своими собаками и кошками. У него не было
голубоглазой внучки, как у пенсионера-учителя в том, другом городе, где Фрам
вызвал такое волнение на прощальном представлении. У него не было семьи. Да
и вообще у него никого не было.
В молодости он был одним из самых знаменитых в мире охотников и
объездил много стран в поисках редкостных и опасных зверей. Он гордился тем,
что ни разу не упустил добычи, не потратил зря ни одной пули. Его
справедливо считали одним из самых опытных медвежатников.
В доме у него до сих пор было много шкур убитых им животных. Одни
лежали на полу, у кровати, другие были развешены по стенам, третьи покрывали
диваны.
Были тут шкуры рыжих медведей, так называемых гризли, которые живут в
скалистых горах Северной Америки и отличаются необыкновенной свирепостью:
горе тому, кто попадется им в лапы! Были шкуры карликовых медведей, с кота
величиной, которые живут в Индонезии, на островах Суматра и Ява; шкуры бурых
карпатских медведей, которые любят прятаться в пещерах и лакомиться медом:
случается, что они даже уносят с пчельника целые ульи; шкуры белых медведей
Аляски, Сибири, Гренландии или тех островов, где был пойман Фрам; шкуры
черных медведей, которые живут в Пиринеях и карабкаются по елям, как
обезьяны.
В течение многих лет медведь представлял для него лишь редкостную,
страшную в гневе добычу, на которой стоило проверить зоркость глаза,
меткость прицела.
Так было до тех пор, пока однажды охотнику не довелось застрелить в
далеких лесах Канады рыжую медведицу.
Он преследовал медведицу целое утро, побившись об заклад с товарищем по
охоте, что уложит ее одним выстрелом. Пари он выиграл. Зверь рухнул от
первой пули.
Но перед тем, как испустить дух, медведица привлекла к себе лапой
медвежонка, пытаясь даже в смертный час защитить его грудью.
Медвежонок был совсем маленький, всего нескольких недель. У него только
что открылись глаза. Он нетвердо стоял на лапах, жалобно скулил и не давал
оторвать себя от убитой матери.
Охотник взял его к себе и начал кормить. Сначала медвежонок не
притрагивался ни к молоку, ни к меду, ни к фруктовому сиропу. Он искал
тепла, точно так же, как Фрам, который все ждал в хижине эскимосов чуда: не
оживет ли шкура матери, не приласкает ли его ее мертвая лапа.
Медвежонок жил у охотника до тех пор, пока тот не выпустил его обратно
в лесную чащу и не уехал из Канады. Продолжая свои скитания, этот человек
принялся изучать жизнь, привычки медведей и написал о них несколько книг, в
которых были подробно описаны повадки медведей всех видов и их различия.
Занятиям этим положила предел старость, превратившая бывшего охотника в
того немощного, полуслепого, опирающегося на палку господина, который
однажды утром вошел в зверинец цирка Струцкого и остановился перед клеткой
Фрама.
Сопровождавший его директор рассказал о том, что произошло с ее
обитателем:
-- Вот уже третий раз меня таким образом подводят белые медведи!
Несколько лет они ведут себя, как самые умные ручные звери. Заучив номер,
они не нуждаются в дрессировщике: выходят на арену одни. А потом без всякой
видимой причины вдруг глупеют. Начисто все забывают. Ничего больше не
понимают. Лежат в клетке и чахнут. Преодолеть их упрямство невозможно. На
моей практике это третий случай. О первых двух медведях я не очень
сокрушался. Потеря была небольшая. Это были обыкновенные, ничем особенным не
отличавшиеся белые медведи. Не умнее и не глупее остальных... Совсем другое
дело Фрам. Фрам был замечательным, не знавшим себе равного артистом! Могу
побиться об заклад, что он изучил вкусы публики в разных странах, даже в
разных городах одной и той же страны, и умел к ним приспособиться:
чувствовал, что кому нравится. Когда наступал его черед в программе, я
бросал все дела и следил за ним из-за кулис с неменьшим любопытством и
восхищением, чем зрители. Никогда нельзя было предвидеть, что он экспромтом
выдумает. Я даже ставил его в пример клоунам: "Смотрите на него и учитесь!
-- говорил я им. -- По-моему, он знает публику лучше вас". А теперь сами
видите: уткнулся мордой в угол и превратился в самого обыкновенного медведя.
Никогда больше, сколько бы я ни прожил, не найти мне второго такого
артиста...
Опираясь на палку, бывший охотник долго глядел на белого медведя
близорукими глазами, потом просунул сквозь решетку слабую, дрожащую руку и
тихонько позвал:
-- Фрам, а Фрам! Скажи, что с тобой приключилось? Почему ты такой
скучный? Эх ты, чудила!
Фрам даже не повернул голову -- только еще глубже втиснулся в свой
угол, упершись носом в деревянную перегородку. Старик, убивший на своем веку
десятки медведей, а потом писавший о них с такой любовью, протер очки и
откашлялся.
-- Вы его очень любили? -- задал он директору неожиданный вопрос.
-- Я делец, -- ответил тот. -- Нежные чувства для директора цирка --
ненужная роскошь, от них одни убытки. Хорошим артистам, которые привлекают
публику и увеличивают сбор, я плачу щедро. Зато и заставляю их работать до
седьмого пота. Животным в зверинце я обеспечиваю хороший уход и сытный корм,
потому что публике нравятся красивые, гладкие звери, а не обтянутые кожей
скелеты...
-- Значит, для вас все сводится к чистогану?
-- Именно... До остального мне нет дела.
-- Понятно. Тогда я поставлю вопрос иначе. Много ли денег принес вам
Фрам?
-- Грех сказать, что мало! -- признался директор. -- Семь лет сряду он
был нашим главным аттракционом. Без него не обходилось ни одной программы.
Стоило ему появиться на афише, как все билеты немедленно распродавались.
Народ валом валил в цирк.
-- Значит, вы у него в долгу?
-- Несомненно. Я бы дорого дал, чтоб снова увидеть его таким, каким он
был.
Старик рассмеялся, ковыряя палкой землю.
-- Вы меня не так поняли! Речь не о том, сколько бы вы дали, чтобы
вернуть прежнего Фрама. Это не значит сделать что-нибудь для него. Вы
сделали бы это для себя, для цирка. То есть опять-таки ради наживы. Вы
готовы заплатить за то, чтобы Фрам снова стал любимцем публики и снова начал
приносить вам доход. Насколько мне известно из жизни медведей, этого
случиться не может. Я спрашиваю вас, согласились бы вы истратить известную
сумму без всякой пользы для цирка, ради самого Фрама? В память его прежних
заслуг? Согласны ли вы понести такой расход?
-- Согласен! -- тихо ответил директор. -- Фрам этого действительно
заслужил. Конечно, если деньги могут ему помочь... Чему я лично не верю...
-- Вы сейчас поверите! -- улыбнулся бывший медвежатник. -- У Фрама
просто тоска по родине. Больше ничего! Его потянуло к родным льдам и снегам.
В нем проснулось прежнее, забытое. Вы изъявили готовность пожертвовать на
него некоторую сумму. По-моему, вы должны отправить его обратно на Север.
Директор цирка Струцкого посмотрел на старого господина с недоверием.
Ему показалось, что тот разыгрывает его, высказывая такую сумасбродную
мысль:
-- Не вижу, как это можно сделать. Купить ему железнодорожный билет?
Бывший охотник досадливо пожал плечами:
-- Вы прекрасно знаете, что я имел в виду не это! Я вовсе не шучу.
Существует очень простой способ послать Фрама обратно. Правда, дорогой...
Зато очень простой. Теперь в Ледовитый океан уходят ежегодно сотни
пароходов. Отправьте его на одном из них. Доверьте вашего Фрама под честное
слово. Его доставят на какой-нибудь остров, а там выпустят на свободу. И
делу конец!.. Или, вернее, не конец, а начало -- настоящая история Фрама
только начинается. Если бы не годы и болезни, я бы сам вызвался его отвезти.
Хотя бы только для того, чтобы взглянуть, что он там будет делать, как будет
чувствовать себя среди родных льдов... Это было бы новой главой в моих
книгах, которой суждено остаться недописанной, одним из интереснейших
экспериментов!
Директор задумался, подсчитывая в уме, во сколько это может обойтись.
Он знал, что стоит такое путешествие, но в то же время понимал, что такой
поступок был бы своего рода рекламой для цирка. Как ловкому дельцу, ему
пришло в голову дать несколько представлений с надбавкой на билеты и открыть
подписной лист в пользу Фрама. Сам он в убытке не будет!
-- Я это сделаю! -- твердо сказал директор. -- Сколько бы мне ни
стоило.
-- В таком случае дайте мне пожать вашу руку! -- обрадовался старый
охотник на медведей, ставший их защитником, не подозревая, какие тайные
расчеты руководят директором. -- Вы доставили мне большое удовольствие.
Он повернулся к Фраму и помахал ему дрожащей рукой:
-- Господин Фрам, вам, мне кажется, пора собираться в дорогу. Знаю, что
у вас нет ни чемодана, ни зубной щетки. Но это не беда! Желаю вам снова
стать диким и свободным зверем, как все белые медведи... Наслаждаться
льдами, ветрами, пургой, полярным солнцем, северным сиянием... Найти себе
подходящую медведицу и стать отцом семейства честных белых медведей, которое
будет украшением вашего племени!
Фрам медленно поднял лежавшую не лапах морду и повел маленькими
грустными глазами на незнакомого доброго и веселого, хотя и чересчур,
пожалуй, разговорчивого старика.
Он, казалось, понимал, о чем речь.
-- Ну-с, милостивый государь, вы не собираетесь меня поблагодарить? --
спросил бывший медвежатник. -- Не ожидал я этого от вас!
Фрам поднялся на задние лапы и смешно отдал честь, приложив к голове
лапу: так он обычно отвечал публике на аплодисменты.
-- Вот это другое дело! Только смотрите, не забудьте оставить все эти
церемонии нам, людям. В ледяных пустынях с ними далеко не уедешь, там
отдавать честь по нашей моде не полагается! А теперь до свидания!
Счастливого пути!
Фрам козырнул еще раз.
Потом опустился на четыре лапы, снова забился в свой угол и, уткнувшись
мордой в перегородку, с закрытыми глазами принялся мечтать о ледяных горах,
которые плывут по зеленому океану, как таинственные галеры без парусов, без
руля и без гребцов.
Он остался в одиночестве.
Но директор цирка сдержал слово. Напечатал афиши. Дал несколько
представлений в пользу Фрама. Открыл подписной лист. Собрал больше денег,
чем было нужно... Потом сел писать письма и отправил несколько телеграмм.
Через две недели пришел желанный ответ.
В одном иностранном порту работала крупная фирма, платившая большие
деньги охотникам разных стран за поимку диких зверей, птиц и пресмыкающихся
для цирков, зверинцев и зоопарков. Директор этой фирмы предложил свои
услуги, чтобы отправить Фрама на родину.
Вскоре в Заполярье должен был отплыть пароход с экскурсантами. На его
борту будут находиться и два опытных охотника, которым поручено фирмой
доставить белых медвежат для европейских цирков, зверинцев и зоопарков. Так
что путешествие Фрама почти ничего не будет стоить.
Новость мгновенно распространилась по цирку и произвела сенсацию.
В день отъезда Фрама клоуны и гимнасты, акробаты и наездники -- все
пришли прощаться с белым медведем.
Одни ласкали его, другие угощали любимыми фруктами, конфетами и
сиропом.
Дольше всех у его клетки задержался глупый Августин.
На этот раз у него не было ни носа в виде спелого помидора, ни
кирпичного цвета парика, который он ерошил, вызывая хохот галерки.
Дело было утром. До представления оставалось еще много времени, и
поэтому глупый Августин еще не был одет и загримирован паяцем. В общем, в
этот час он выглядел самым обыкновенным человеком. Бедно одетым, с усталым
лицом и грустными глазами. Таким был он в настоящей жизни: без фрака с
фалдами до пят, без длинных, как лыжи, ботинок, кирпичного парика и смешного
носа.
Это был старый, больной, одинокий клоун, знавший, что ему придется
кончать жизнь в больнице или в богадельне.
Так же, как Фрам, он чувствовал себя очень усталым.
Ему надоело паясничать, проделывать сальто-мортале и гримасничать для
развлечения галерки. Но другого выхода не было: нужно было смеяться, строить
рожи, получать удары доской по голове, затрещины и пинки, потому что только
такой ценой можно было заработать кусок хлеба. Иначе директор, с которым
звери не могли сравниться в жестокости, беспощадно выкинул бы его на улицу.
Теперь старый, больной клоун пришел проститься с Фрамом.
Семь лет они не расставались, скитаясь с цирком из города в город, из
страны в страну. Наградой им были аплодисменты и симпатии публики.
И вот теперь судьба разлучала их.
Она оказалась милостивее к медведю, которого ждала свобода, и
беспощаднее к человеку, который из-за куска хлеба был связан до самой смерти
с цирком.
Глупый Августин вошел в клетку.
Фрам посмотрел на него своими добрыми, кроткими глазами. Эти двое были
старыми друзьями. Медведь, казалось, понимал, какой ценой доставался паяцу
насущный хлеб и чего ему стоило развлекать изо дня в день публику.
-- Значит, едешь? -- спросил клоун, ероша Фраму шерсть. Ответить
медведь не мог.
Впрочем, он и не знал, что уезжает. Не знал, какой сюрприз приготовил
ему старый охотник.
Ему казалось удивительным, что сегодня все заходят к нему, гладят его,
балуют сластями. Эти проявления любви были для него непонятны. Он чувствовал
только, что готовится нечто необычное. Волнение людей заразило его, но
медвежий разум не мог объяснить причины происходящего.
-- Значит, едешь? -- повторил свой вопрос глупый Августин. -- Завидую
тебе, дружище Фрам! Мне будет скучно. Цирк без тебя опустеет. Ты был
славным, порядочным медведем, куда порядочнее нашего директора, жадного
зверя в человеческом обличье!..
Паяц зарыл старое, морщинистое лицо в косматую шкуру белого медведя.
Фрам дружески чуть тронул его лапой, словно догадался, как горько
приходится клоуну.
Тот отпрянул от него, почувствовав, что вот-вот расплачется. Ему не
хотелось, чтоб его видели другие: чего доброго еще поднимут на смех: глупый
Августин плачет! Он открыл решетчатую дверцу клетки и убежал, махнув через
плечо рукой:
-- Счастливого пути, Фрам! Счастливого пути!
В тот же день Фрама погрузили в вагон, прицепленный в хвосте поезда.
Его сопровождал приставленный к нему человек.
День, ночь и еще день мчался поезд по разным странам и к вечеру на
вторые сутки прибыл в порт, откуда должен был отправиться в Ледовитый океан
пароход с охотниками.
Фрама вовсе не утомила смена видов, городов и людей: он был опытным
путешественником.
Он привык переезжать из страны в страну, слышать вокруг себя разные
языки, видеть по-разному одетых людей. На его пути попадались города, где
еще виднелись на стенах старые, забытые, поблекшие от дождей и солнца афиши
с его изображением и подписью большими буквами: "ФРАМ, БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ".
Фрам почувствовал, что с ним происходит нечто необычное, чего раньше не
бывало, лишь тогда, когда пароход отвалил от причала.
Фрам царапал когтями дверь каюты, не притронулся к предложенной еде, не
стал даже пить и вообще проявлял признаки крайнего беспокойства.
Хлюпанье воды у бортов напомнило ему что-то очень давнее, очень
далекое.
Да, все это было похоже на то первое путешествие по океану, с Ларсом,
моряком с голубыми глазами и пристрастием к алкоголю, который привез его в
теплые края и продал за десять бутылок рома.
Среди пассажиров, участников экскурсии в Заполярье, быстро
распространился слух о том, что на пароходе находится дрессированный белый
медведь, знаменитый Фрам из цирка Струцкого, которого отправляют обратно в
страну вечных льдов, потому что он затосковал и не желает больше выступать
на арене.
К Фраму стали приходить, ему приносили булки и конфеты, фрукты и
напитки. Нашлись люди, которые когда-то видели его в цирке, аплодировали ему
и прекрасно помнили, как он опорожнял бутылки с пивом, играл на гармонике и
раздавал детям конфеты.
Они удивлялись, что теперь его не соблазняют ни конфеты, ни фрукты, ни
бутылки.
-- Может, ему здесь просто скучно! -- сказала одна молодая женщина. --
Смотрите, какой он грустный! Когда я видела его в цирке, это был самый
веселый медведь на свете. Настоящий буффон! Я смеялась до слез... Давайте
поговорим с капитаном. С ним, кажется, можно столковаться. Пусть позволит
выпускать Фрама на палубу... Держу пари, что он будет любоваться морем и
радоваться ему, как человек...
Молодая женщина была добрая и одними словами не ограничилась, а пошла к
капитану и убедила его.
Фраму открыли дверь, и он получил возможность свободно прогуливаться по
палубе вместе с пассажирами.
Белый медведь и в самом деле повел себя, как человек.
Поднявшись на задние лапы, он оперся о фальшборт и долго стоял,
устремив взгляд в морские дали, на север, где за горизонтом простирались
вечные льды и снега.
Потом точно так же, как другие пассажиры, принялся расхаживать по
палубе в поисках других развлечений. Его окружили любопытные. Дети
протягивали ему кто мячик, кто корзиночку с конфетами. Фрам забавлялся,
подбрасывая мячик, открывал корзиночку и раздавал детворе сласти. К вечеру
он стал всеобщим другом.
Но время от времени он подходил к фальшборту, вглядывался в дали и
тянул носом соленый воздух.
Когда стемнело, он сам вернулся в каюту.
-- А что я вам говорила?! -- торжествовала молодая женщина с добрым
сердцем. -- Это же необыкновенный зверь! На месте капитана, я завела бы на
пароходе постоянного медведя. Лучшее развлечение для пассажиров!
На четвертые сутки цвет моря изменился -- стал холодно зеленым, ветер
приносил суровое дыхание Севера. Яснее, светлее стали ночи.
Фрам перестал забавляться, бросая и ловя мячик. Он не отходил теперь от
фальшборта: неподвижно стоял на задних лапах и вдыхал, раздувая ноздри,
студеный ветер, такой для него родной и знакомый.
Однажды утром он увидел на горизонте первые айсберги.
Параход замедлил ход, осторожно обходя плавучие ледяные горы.
Фрам жадно наполнял легкие влажным соленым воздухом.
В тот вечер он не вернулся в свою запрятанную в недрах парохода каюту,
а всю ночь простоял как завороженный, у фальшборта, устремив взор в синие
дали.
Чья-то рука легла на его шкуру. Он даже не слышал шагов.
Это оказалась молодая женщина с добрым сердцем. Она куталась в теплую
шубу. Ей тоже не спалось. Это было ее первое путешествие в край полярных
льдов.
Узнав, что утром охотники, которым был поручен Фрам, собираются
выпустить его на остров, она оделась и вышла на палубу -- посмотреть, что
делает ее белый медведь.
-- Итак, друг Фрам, ты нас покидаешь? -- прошептала женщина. -- И ни о
чем не будешь жалеть? Не будешь тосковать по нашему миру? Тебе не будет
скучно одному, без людей, в холодной пустыне?..
Ее рука гладила белую, влажную от соленого морского ветра шкуру.
Фрам повернул голову и посмотрел своими кроткими глазами на это доброе
существо, которого он с завтрашнего дня уже больше никогда не увидит.
Медведь, казалось, понимал ее вопросы и даже знал, какими словами ответил бы
ей, если бы природа наделила его даром слова. Он легонько обнял ее за плечи
согнутой лапой, как делал это когда-то со своими друзьями в цирке.
Женщина негромко вскрикнула. Испугалась. В голове молнией мелькнула
мысль, что Фрам все же зверь. Она уже упрекнула себя за то, что так
необдуманно поступила -- вышла ночью одна на палубу, где не было ни души, и
приблизилась к нему.
Но в тот же миг объятие Фрама разжалось. В его глазах сверкнуло что-то,
похожее на упрек. Словно ему хотелось сказать: "Чего ж ты испугалась?
Неужели все еще не веришь, что я ручной медведь и никогда не причиню зла
человеку?"
Женщина зябко поежилась. Шубка плохо защищала ее от ночного холода. Она
помахала затянутой в перчатку рукой:
-- Покойной ночи, Фрам!.. Иди, ложись. Для тебя с завтрашнего дня
начнется новая жизнь. Не очень-то легко тебе будет, потому что ты привык к
другому!
Фрам остался один. Синяя ночь была непохожа на те ночи, к которым
привыкли пассажиры: в ней еще держался окутанный дымкой солнечный свет.
Пароход приближался к тем широтам, где день сливается с ночью и сутки равны
году.
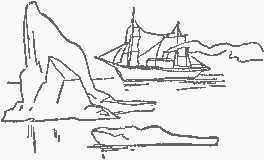 * * *
* * *
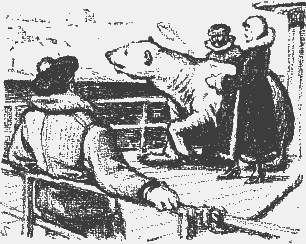 IX. ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Остров оказался высоким, жутко пустынным, покрытым сугробам и льдами.
Сквозь стеклянистую кору льда местами торчали острые утесы,
напоминающие развалины крепости. Казалось, стихийные бедствия опустошили ее
и превратили в руины. Отражаясь в зеленых волнах Ледовитого океана, она как
будто ждала доброго волшебника, который вернет ей жизнь.
А пока что все на пустынном острове застыло в мертвой неподвижности.
Ничего живого не показывалось на гранитных утесах; ниоткуда не поднималось
голубого дымка, ни одна птица не тревожила воздух шорохом крыльев. Не было
даже ветра.
Пароход бросил якорь в открытом море.
Этим холодным полярным утром закутанные в меха пассажиры находились в
полном составе на палубе. Мороз щипал носы и щеки.
Каким необычным показалось им это утро с ночной синевой, незаметно
таявшей в мутно-беловатом, словно потустороннем свете! Утро без солнца!
Потому что солнце осталось далеко позади, над теплыми морями, откуда они
приплыли, где ночь сменяла день. Здесь же солнце появится еще нескоро.
Присутствие его лишь угадывалось за багровым просветом на востоке.
Этот багровый просвет возвещал наступление своего рода весны, совсем
непохожей на ту весну, которую пассажиры оставили дома, с ее праздником
света и красок, с цветущей сиренью и изумрудными лугами, усыпанными желтыми
монетками одуванчиков, где резвятся ягнята с красными кисточками в ушах.
Здешняя весна совсем иная: без благоухания гиацинтов, без ласточек и
жаворонков, без нежного блеяния ягнят и без станиц журавлей, черной стрелкой
перечеркивающих небо.
Через неделю солнце начнет медленно подниматься на небосводе и не
зайдет несколько месяцев кряду.
Наступит длинный, почти полугодовой день.
Этот день и есть полярное лето. Светозарное, с ослепительно сверкающим
на снежных сугробах солнцем. Но солнце это холодное, безжизненное, вроде
того, зубастого, которое светит ясными морозными днями в других краях.
Льды здесь никогда полностью не тают. По ледяному ложу едва сочится
тоненькая струйка воды. Едва показывается из-под снега одевающий скалы
зеленый мох да еще расцветает кое-где чахлый, низенький цветочек без запаха.
Обо всем этом толковали, удивляясь, собравшиеся на палубе пассажиры.
Они дивились, глядя на пустынный остров, одиноко лежащий среди
безбрежных просторов Ледовитого океана: тягостное, гнетущее видение.
Все молчали. Очень уж угрюмым был этот окруженный водой клочок суши,
такой далекий от остального мира и от всего живого!
Голые серые скалы, скованные льдом утесы, отраженные в неподвижной
пучине океана, навевали щемящую сердце тоску.
Здесь была настоящая пустыня.
И казалось обманом, что где-то там, в тех странах, откуда прибыли
пассажиры парохода, есть города с оживленными бульварами, нестройным гулом
голосов и залитыми светом витринами магазинов, есть театры, цветы и сады.
Казалось просто немыслимым, что все эти чудеса, созданные природой и
человеком, по-прежнему продолжают существовать: зимой и летом, осенью и
весной, днем и ночью. Что они ждут путешественников. Что вернувшись,
путешественники найдут их такими же, какими оставили.
У всех стыла кровь и захватывало дыхание при одной мысли о том, что
шторм может разбить пароход и выкинуть их на такой берег, как этот. Неужто
им пришлось бы остаться здесь, в этой ледяной пустыне, среди мертвой тишины,
обледенелых скал и утесов, отраженных зеленым океаном?
Одна мысль об этом вселяла ужас.
-- Я бы умерла от страха в первый же день! -- воскликнула молодая
женщина, которая приняла участие в Фраме.
Накануне она выказала храбрость. Теперь мужество оставило ее. Молодая
женщина побледнела от одного предположения о возможности такого несчастья.
Она мысленно уже видела себя одинокой, выброшенной волнами вместе с
обломками парохода на этот проклятый остров. Воображение рисовало ей, как
она ползет по льду, как строит себе убежище из снега, как трудно ей,
неумелой, развести костер, как ее мучит голод. Может, ее застанет здесь, на
острове, бесконечная полярная ночь, с морозами, которые превращают океан в
ледяное поле. Тогда уже не будет никакой надежды на спасение. Посланный на
помощь пароход смог бы пробиться сюда только через год...
-- Я бы умерла от страха! -- повторила молодая женщина, напуганная
собственной фантазией.
Потом повернулась к охотникам, которые готовились к высадке Фрама:
-- Я считаю жестоким то, что вы собираетесь сделать с этим умным,
добрым медведем!.. Как ему прожить в этакой пустыне? Нет, как хотите, это
жестоко!.. Он же ни в чем не виноват!
-- Полноте, сударыня! Вы ошибаетесь! -- рассмеялся один из охотников.
-- Судите о Фраме по себе, исходя из нашего, человеческого понимания и
человеческих чувствований... Вы забываете, что Фрам -- зверь, белый медведь,
родившийся в этих местах, недалеко от полюса. И даже не на таком острове,
как этот, мимо которого все же проходят корабли, куда, может быть,
наведываются люди, а гораздо севернее, ближе к полюсу, на одном из тех
островов, куда, пожалуй, не ступала нога человека.
-- Но ему нечего будет есть... Он замерзнет!.. -- сокрушалась
сердобольная женщина.
-- Фрам не пропадет! -- потешался охотник. -- Будет жить, как жили до
него тысячи лет и сейчас живут тысячи его родичей. Его стихия здесь.
Настоящая для белого медведя вольная жизнь... Мы, люди, попробовали
перевоспитать Фрама, изменить его натуру. Но, видимо, нам это не удалось. Мы
сделали его гимнастом, акробатом. И Фрам, казалось, привык. Может быть, все
это ему даже нравилось!.. Но в один прекрасный день он начал тосковать по
пустыне, где впервые увидел свет, и провел, так сказать, свое детство...
-- А чем же он будет питаться? Слишком уж пустынен этот остров! --
продолжала волноваться молодая женщина.
-- И об этом не беспокойтесь! -- сказал охотник. -- Сегодня море
свободно от льда. Но через два-три дня или через неделю может ударить лютый
мороз, море затянется льдом. Потом ветер разломает его, и Фрам, перебираясь
со льдины на льдину, поплывет на север, на родину белых медведей... Им будет
руководить инстинкт. Он найдет себе товарищей... Вспомнит все, что позабыл,
научится тому, чего не знал... Было бы любопытно посмотреть, как он станет
себя вести. Ведь, кроме своей прирожденной медвежьей сноровки, он еще знает
всякие штуки, которым научился от людей... Конечно, не все пойдет ему на
пользу...
-- Может, было бы лучше выпустить его на обитаемый остров, где живут
эскимосы! -- высказала новую мысль молодая женщина, которая не раз
аплодировала Фраму в цирке. -- Он поселился бы возле людей...
Охотник покачал головой:
-- Именно этого мы и не хотим. В интересах Фрама! Мы нарочно решили
выпустить его здесь, на пустынном острове, вдали от эскимосов, ведь Фрам
привык не бояться людей. Ему может встретиться охотник, прицелиться в него,
а Фрам, вместо того, чтобы убежать и спрятаться, встанет на задние лапы,
открыв грудь навстречу пуле. Будет жалко, если он погибнет. А так мы
предоставим ему возможность немного одичать.
-- Нет, вы меня все-таки не убедили! -- не унималась покровительница
Фрама. -- У меня просто не укладывается в голове, что он может чувствовать
себя хорошо в такой пустыне и быть счастливым.
-- Я, собственно говоря, не вижу необходимости доказывать вам,
сударыня, что мы поступаем правильно. Взгляните, пожалуйста, на Фрама! Он
доказывает это лучше меня. Смотрите, как он возбужден, не находит себе
места! Он понимает, что пароход остановился ради него и что мы сейчас
выпустим его на волю. Смотрите, как он глазами просит нас поторопиться!..
Фрам действительно не находил себе места.
Он то и дело поднимался на задние лапы и, вдыхая ледяной воздух,
пристально глядел на остров, потом снова опускался на четвереньки и начинал
кружить возле матросов, которые возились с цепями и тросами, готовясь
спустить шлюпку.
Он толкал их мордой, урчал, вставал на задние лапы, оглядываясь на
остров, и снова опускался на все четыре лапы. Он напоминал путешественника
на станции, который потерял терпение, дожидаясь опаздывающего поезда, и то и
дело выбегает на перрон поглядеть, не покажется ли поезд, смотрит на часы и
пристает с расспросами к начальнику станции.
Наконец шлюпка была спущена.
Фрам, ловкий и опытный акробат, сам спустился по трапу.
-- Господин Фрам не очень-то вежлив, -- разочарованно проговорила
молодая женщина. -- Вот уже не ожидала от него! Даже не простился.
-- Что вы хотите, сударыня? -- заступился за медведя капитан. -- Для
него настало время отбросить хорошие манеры, которым он научился у людей. И
то сказать -- к чему они ему в этакой пустыне?!
Фрам и в самом деле совершенно забыл все правила вежливого обхождения.
Он не только не простился с пассажирами, которые любили и баловали его,
не только не ответил, когда они кричали ему с палубы, но даже повернулся к
пароходу спиной, стоя на задних лапах в удалявшейся под ударами весел
шлюпке.
Несколько пассажиров наставили фотографические аппараты. Нашелся на
борту и кинооператор, который принялся крутить съемочный аппарат, чтобы
заснять на пленку момент расставания Фрама с людьми и цивилизацией.
Все кричали, звали Фрама, махали ему платками.
Но Фраму теперь все это было безразлично. Казалось, он не слышал
криков, не понимал человеческого голоса.
Все его внимание было поглощено островом, льдами и снегом, среди
которых дикий белый медвежонок впервые увидел полярное солнце.
Он тихо, довольно урчал, и это урчание напоминало мурлыкание сытой,
разнежившейся кошки.
Шлюпка остановилась под отвесным обледенелым утесом.
-- Отвесная стена! -- заметил один из гребцов. -- Не вижу, как он
вскарабкается наверх.
-- Не беспокойся, -- возразил охотник, рука которого все время лежала
на спине Фрама. -- Не будь, как та молодая дама на пароходе... Не забывай,
что кроме своей медвежьей сноровки, он еще научился разным штукам от
людей!..
Взяв Фрама за загривок, охотник повернул его мордой к себе.
-- Ну, приятель, вот мы и доставили тебя по назначению! -- сказал он.
-- Можешь сказать мне спасибо... И посылать мне иногда открытки с видами
Ледовитого океана. А теперь, счастливого пути! Не поминай лихом!.. Лапу!
Фрам подал лапу.
Потом одним прыжком выскочил из шлюпки на обледенелый утес, пошатнулся,
нашел равновесие и с удивительным для такого громадного зверя проворством
начал карабкаться с уступа на уступ, пока не оказался на вершине утеса.
-- Что я тебе говорил?! -- восхищенно воскликнул охотник. -- Теперь он
уже чувствует себя дома!
С палубы донеслись прощальные крики и возгласы "ура!"
Стоя на вершине утеса, Фрам поднялся на задние лапы и смотрел на
пароход и толпу махавших платками пассажиров.
Может быть, только теперь до его сознания дошло, что он навсегда
расстается с людьми.
Тем временем внизу охотник с матросами сбросили на берег, в углубление
среди скал, небольшой запас продовольствия.
-- То, что мы делаем, -- идиотство, -- шутливо и немного смущенно
признался охотник. -- Нас засмеют, если узнают. Мой товарищ, который остался
на пароходе, и так уже смеется: говорит, что я поглупел с тех пор, как
привязался к этому медведю. А мне наплевать! Пусть говорит что хочет! Я
считаю, что в первые дни свободы, пока Фрам еще не привык добывать себе
пропитание, бедняге придется туго. Да, да, не смейтесь!
Покончив с выгрузкой провианта, он закурил трубку и, закинув голову,
посмотрел на вершину утеса.
Фрам все еще стоял там на задних лапах, глядя на пароход и махавших ему
пассажиров.
Его прямая неподвижная белая фигура, резко выделяясь на темно-синем
небе, сливалась с обледенелой скалой: он казался льдиной, возникшей среди
льдин.
До него долетали крики толпы. За ним следили бинокли. Быстро крутилась
ручка киносъемочного аппарата, чтобы не пропустить ни одной подробности. Это
же будет сенсационная пленка! Последнее выступление белого медведя Фрама.
Прощание с людьми и цивилизацией!
-- Ну же, Фрам! Будь вежлив хоть напоследок. Поклонись, простись, как
полагается! -- молвила его покровительница.
Упрек был произнесен так тихо, что его едва уловило ухо стоявшего рядом
пассажира.
Но Фрам, казалось, услышал его и понял ее слова, несмотря на
расстояние.
Он поднес лапу к голове и презабавно отдал честь, как делал в цирке
Струцкого, вызывая бурный хохот детворы.
Потом опустился на все четыре лапы и скрылся за выступом скалы.
* * *
IX. ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Остров оказался высоким, жутко пустынным, покрытым сугробам и льдами.
Сквозь стеклянистую кору льда местами торчали острые утесы,
напоминающие развалины крепости. Казалось, стихийные бедствия опустошили ее
и превратили в руины. Отражаясь в зеленых волнах Ледовитого океана, она как
будто ждала доброго волшебника, который вернет ей жизнь.
А пока что все на пустынном острове застыло в мертвой неподвижности.
Ничего живого не показывалось на гранитных утесах; ниоткуда не поднималось
голубого дымка, ни одна птица не тревожила воздух шорохом крыльев. Не было
даже ветра.
Пароход бросил якорь в открытом море.
Этим холодным полярным утром закутанные в меха пассажиры находились в
полном составе на палубе. Мороз щипал носы и щеки.
Каким необычным показалось им это утро с ночной синевой, незаметно
таявшей в мутно-беловатом, словно потустороннем свете! Утро без солнца!
Потому что солнце осталось далеко позади, над теплыми морями, откуда они
приплыли, где ночь сменяла день. Здесь же солнце появится еще нескоро.
Присутствие его лишь угадывалось за багровым просветом на востоке.
Этот багровый просвет возвещал наступление своего рода весны, совсем
непохожей на ту весну, которую пассажиры оставили дома, с ее праздником
света и красок, с цветущей сиренью и изумрудными лугами, усыпанными желтыми
монетками одуванчиков, где резвятся ягнята с красными кисточками в ушах.
Здешняя весна совсем иная: без благоухания гиацинтов, без ласточек и
жаворонков, без нежного блеяния ягнят и без станиц журавлей, черной стрелкой
перечеркивающих небо.
Через неделю солнце начнет медленно подниматься на небосводе и не
зайдет несколько месяцев кряду.
Наступит длинный, почти полугодовой день.
Этот день и есть полярное лето. Светозарное, с ослепительно сверкающим
на снежных сугробах солнцем. Но солнце это холодное, безжизненное, вроде
того, зубастого, которое светит ясными морозными днями в других краях.
Льды здесь никогда полностью не тают. По ледяному ложу едва сочится
тоненькая струйка воды. Едва показывается из-под снега одевающий скалы
зеленый мох да еще расцветает кое-где чахлый, низенький цветочек без запаха.
Обо всем этом толковали, удивляясь, собравшиеся на палубе пассажиры.
Они дивились, глядя на пустынный остров, одиноко лежащий среди
безбрежных просторов Ледовитого океана: тягостное, гнетущее видение.
Все молчали. Очень уж угрюмым был этот окруженный водой клочок суши,
такой далекий от остального мира и от всего живого!
Голые серые скалы, скованные льдом утесы, отраженные в неподвижной
пучине океана, навевали щемящую сердце тоску.
Здесь была настоящая пустыня.
И казалось обманом, что где-то там, в тех странах, откуда прибыли
пассажиры парохода, есть города с оживленными бульварами, нестройным гулом
голосов и залитыми светом витринами магазинов, есть театры, цветы и сады.
Казалось просто немыслимым, что все эти чудеса, созданные природой и
человеком, по-прежнему продолжают существовать: зимой и летом, осенью и
весной, днем и ночью. Что они ждут путешественников. Что вернувшись,
путешественники найдут их такими же, какими оставили.
У всех стыла кровь и захватывало дыхание при одной мысли о том, что
шторм может разбить пароход и выкинуть их на такой берег, как этот. Неужто
им пришлось бы остаться здесь, в этой ледяной пустыне, среди мертвой тишины,
обледенелых скал и утесов, отраженных зеленым океаном?
Одна мысль об этом вселяла ужас.
-- Я бы умерла от страха в первый же день! -- воскликнула молодая
женщина, которая приняла участие в Фраме.
Накануне она выказала храбрость. Теперь мужество оставило ее. Молодая
женщина побледнела от одного предположения о возможности такого несчастья.
Она мысленно уже видела себя одинокой, выброшенной волнами вместе с
обломками парохода на этот проклятый остров. Воображение рисовало ей, как
она ползет по льду, как строит себе убежище из снега, как трудно ей,
неумелой, развести костер, как ее мучит голод. Может, ее застанет здесь, на
острове, бесконечная полярная ночь, с морозами, которые превращают океан в
ледяное поле. Тогда уже не будет никакой надежды на спасение. Посланный на
помощь пароход смог бы пробиться сюда только через год...
-- Я бы умерла от страха! -- повторила молодая женщина, напуганная
собственной фантазией.
Потом повернулась к охотникам, которые готовились к высадке Фрама:
-- Я считаю жестоким то, что вы собираетесь сделать с этим умным,
добрым медведем!.. Как ему прожить в этакой пустыне? Нет, как хотите, это
жестоко!.. Он же ни в чем не виноват!
-- Полноте, сударыня! Вы ошибаетесь! -- рассмеялся один из охотников.
-- Судите о Фраме по себе, исходя из нашего, человеческого понимания и
человеческих чувствований... Вы забываете, что Фрам -- зверь, белый медведь,
родившийся в этих местах, недалеко от полюса. И даже не на таком острове,
как этот, мимо которого все же проходят корабли, куда, может быть,
наведываются люди, а гораздо севернее, ближе к полюсу, на одном из тех
островов, куда, пожалуй, не ступала нога человека.
-- Но ему нечего будет есть... Он замерзнет!.. -- сокрушалась
сердобольная женщина.
-- Фрам не пропадет! -- потешался охотник. -- Будет жить, как жили до
него тысячи лет и сейчас живут тысячи его родичей. Его стихия здесь.
Настоящая для белого медведя вольная жизнь... Мы, люди, попробовали
перевоспитать Фрама, изменить его натуру. Но, видимо, нам это не удалось. Мы
сделали его гимнастом, акробатом. И Фрам, казалось, привык. Может быть, все
это ему даже нравилось!.. Но в один прекрасный день он начал тосковать по
пустыне, где впервые увидел свет, и провел, так сказать, свое детство...
-- А чем же он будет питаться? Слишком уж пустынен этот остров! --
продолжала волноваться молодая женщина.
-- И об этом не беспокойтесь! -- сказал охотник. -- Сегодня море
свободно от льда. Но через два-три дня или через неделю может ударить лютый
мороз, море затянется льдом. Потом ветер разломает его, и Фрам, перебираясь
со льдины на льдину, поплывет на север, на родину белых медведей... Им будет
руководить инстинкт. Он найдет себе товарищей... Вспомнит все, что позабыл,
научится тому, чего не знал... Было бы любопытно посмотреть, как он станет
себя вести. Ведь, кроме своей прирожденной медвежьей сноровки, он еще знает
всякие штуки, которым научился от людей... Конечно, не все пойдет ему на
пользу...
-- Может, было бы лучше выпустить его на обитаемый остров, где живут
эскимосы! -- высказала новую мысль молодая женщина, которая не раз
аплодировала Фраму в цирке. -- Он поселился бы возле людей...
Охотник покачал головой:
-- Именно этого мы и не хотим. В интересах Фрама! Мы нарочно решили
выпустить его здесь, на пустынном острове, вдали от эскимосов, ведь Фрам
привык не бояться людей. Ему может встретиться охотник, прицелиться в него,
а Фрам, вместо того, чтобы убежать и спрятаться, встанет на задние лапы,
открыв грудь навстречу пуле. Будет жалко, если он погибнет. А так мы
предоставим ему возможность немного одичать.
-- Нет, вы меня все-таки не убедили! -- не унималась покровительница
Фрама. -- У меня просто не укладывается в голове, что он может чувствовать
себя хорошо в такой пустыне и быть счастливым.
-- Я, собственно говоря, не вижу необходимости доказывать вам,
сударыня, что мы поступаем правильно. Взгляните, пожалуйста, на Фрама! Он
доказывает это лучше меня. Смотрите, как он возбужден, не находит себе
места! Он понимает, что пароход остановился ради него и что мы сейчас
выпустим его на волю. Смотрите, как он глазами просит нас поторопиться!..
Фрам действительно не находил себе места.
Он то и дело поднимался на задние лапы и, вдыхая ледяной воздух,
пристально глядел на остров, потом снова опускался на четвереньки и начинал
кружить возле матросов, которые возились с цепями и тросами, готовясь
спустить шлюпку.
Он толкал их мордой, урчал, вставал на задние лапы, оглядываясь на
остров, и снова опускался на все четыре лапы. Он напоминал путешественника
на станции, который потерял терпение, дожидаясь опаздывающего поезда, и то и
дело выбегает на перрон поглядеть, не покажется ли поезд, смотрит на часы и
пристает с расспросами к начальнику станции.
Наконец шлюпка была спущена.
Фрам, ловкий и опытный акробат, сам спустился по трапу.
-- Господин Фрам не очень-то вежлив, -- разочарованно проговорила
молодая женщина. -- Вот уже не ожидала от него! Даже не простился.
-- Что вы хотите, сударыня? -- заступился за медведя капитан. -- Для
него настало время отбросить хорошие манеры, которым он научился у людей. И
то сказать -- к чему они ему в этакой пустыне?!
Фрам и в самом деле совершенно забыл все правила вежливого обхождения.
Он не только не простился с пассажирами, которые любили и баловали его,
не только не ответил, когда они кричали ему с палубы, но даже повернулся к
пароходу спиной, стоя на задних лапах в удалявшейся под ударами весел
шлюпке.
Несколько пассажиров наставили фотографические аппараты. Нашелся на
борту и кинооператор, который принялся крутить съемочный аппарат, чтобы
заснять на пленку момент расставания Фрама с людьми и цивилизацией.
Все кричали, звали Фрама, махали ему платками.
Но Фраму теперь все это было безразлично. Казалось, он не слышал
криков, не понимал человеческого голоса.
Все его внимание было поглощено островом, льдами и снегом, среди
которых дикий белый медвежонок впервые увидел полярное солнце.
Он тихо, довольно урчал, и это урчание напоминало мурлыкание сытой,
разнежившейся кошки.
Шлюпка остановилась под отвесным обледенелым утесом.
-- Отвесная стена! -- заметил один из гребцов. -- Не вижу, как он
вскарабкается наверх.
-- Не беспокойся, -- возразил охотник, рука которого все время лежала
на спине Фрама. -- Не будь, как та молодая дама на пароходе... Не забывай,
что кроме своей медвежьей сноровки, он еще научился разным штукам от
людей!..
Взяв Фрама за загривок, охотник повернул его мордой к себе.
-- Ну, приятель, вот мы и доставили тебя по назначению! -- сказал он.
-- Можешь сказать мне спасибо... И посылать мне иногда открытки с видами
Ледовитого океана. А теперь, счастливого пути! Не поминай лихом!.. Лапу!
Фрам подал лапу.
Потом одним прыжком выскочил из шлюпки на обледенелый утес, пошатнулся,
нашел равновесие и с удивительным для такого громадного зверя проворством
начал карабкаться с уступа на уступ, пока не оказался на вершине утеса.
-- Что я тебе говорил?! -- восхищенно воскликнул охотник. -- Теперь он
уже чувствует себя дома!
С палубы донеслись прощальные крики и возгласы "ура!"
Стоя на вершине утеса, Фрам поднялся на задние лапы и смотрел на
пароход и толпу махавших платками пассажиров.
Может быть, только теперь до его сознания дошло, что он навсегда
расстается с людьми.
Тем временем внизу охотник с матросами сбросили на берег, в углубление
среди скал, небольшой запас продовольствия.
-- То, что мы делаем, -- идиотство, -- шутливо и немного смущенно
признался охотник. -- Нас засмеют, если узнают. Мой товарищ, который остался
на пароходе, и так уже смеется: говорит, что я поглупел с тех пор, как
привязался к этому медведю. А мне наплевать! Пусть говорит что хочет! Я
считаю, что в первые дни свободы, пока Фрам еще не привык добывать себе
пропитание, бедняге придется туго. Да, да, не смейтесь!
Покончив с выгрузкой провианта, он закурил трубку и, закинув голову,
посмотрел на вершину утеса.
Фрам все еще стоял там на задних лапах, глядя на пароход и махавших ему
пассажиров.
Его прямая неподвижная белая фигура, резко выделяясь на темно-синем
небе, сливалась с обледенелой скалой: он казался льдиной, возникшей среди
льдин.
До него долетали крики толпы. За ним следили бинокли. Быстро крутилась
ручка киносъемочного аппарата, чтобы не пропустить ни одной подробности. Это
же будет сенсационная пленка! Последнее выступление белого медведя Фрама.
Прощание с людьми и цивилизацией!
-- Ну же, Фрам! Будь вежлив хоть напоследок. Поклонись, простись, как
полагается! -- молвила его покровительница.
Упрек был произнесен так тихо, что его едва уловило ухо стоявшего рядом
пассажира.
Но Фрам, казалось, услышал его и понял ее слова, несмотря на
расстояние.
Он поднес лапу к голове и презабавно отдал честь, как делал в цирке
Струцкого, вызывая бурный хохот детворы.
Потом опустился на все четыре лапы и скрылся за выступом скалы.
* * *
 X. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Нежданно-негаданно разыгралась пурга.
С севера набежали свинцовые тучи, засвистел-завыл ветер, закрутился
белыми смерчами снег. Скоро небо слилось с землей, льды с водой.
Все потонуло в зеленоватом полусвете не то дня, не то ночи, завертелось
в вихре снежной пыли, похожей на толченое стекло.
Льды трещали от лютого мороза. Под напором ветра ломались скалы. Воздух
гудел. Небосвод, казалось, готов был рухнуть в океан.
Фрам нашел во льду расселину и свернулся в ней клубком, понадеявшись на
свой выбор. Но он ошибся: логово продувалось со всех сторон. Расселину
заносило снегом. Оторванный ветром осколок льдины упал ему на голову. Другой
больно ударил лапу.
Произошло нечто странное, неслыханное: белый, полярный медведь затрясся
от холода.
Хорошо отопленный цирк отучил его от мороза. Он дул на сведенные
холодом лапы, выколачивал из них набившиеся льдинки, отряхивался от снежной
пыли. Пробовал прятать морду в густом мехе брюха, но тогда начинала мерзнуть
спина; медведь менял положение, но мороз больно щипал ему нос.
За несколько часов, пока свирепствовала пурга, бедняга здорово
измучился.
Наконец ветер стих, и Фрам высунул морду на свет. Вид у него был
довольно печальный и, наверно, вызвал бы сочувствие у глупого Августина и
веселые гримасы обезьян цирка Струцкого. Ха-ха! Белый медведь дрожит от
холода!
Чтобы размять онемевшие лапы, Фрам принялся плясать. А плясал он совсем
не так, как дикие белые медведи, и вообще это была не пляска, а гимнастика,
которой его научили люди. Он прыгал через голову вперед и назад, делал
сальто-мортале, свертывался клубком и катался по снегу, потом вскинул задние
лапы и прошелся на одних передних.
Бесплатное представление перед полярной пустыней!
Раньше ему бы аплодировали две тысячи человек, начиная с тех, кто
заполнял галерку, и до нарядных, в перчатках, которые сидели в ложах.
Но в эту минуту все аплодисменты мира не смогли бы привести его в
хорошее настроение.
Слишком уж горько было ему от сознания, что он, полярный медведь, чуть
было не замерз -- опозорил все племя белых медведей!
Немного согревшись, Фрам уселся на ледяную глыбу в самом печальном
расположении: было ясно, что первый шаг в свободной жизни оказался
неудачным.
Он начал ее без цели, наудачу, словно и здесь кто-то мог позаботиться о
нем, вовремя накормить его и обеспечить кровом.
Вместо того чтобы обдумать свое положение, он бесцельно бродил по
острову, карабкался на скалы и скатывался с них как на салазках.
Логова себе он не присматривал, не думал о том, чем будет сыт завтра.
Пурга застала Фрама врасплох, он мерз и стучал зубами, как несчастная
бездомная собачонка, из тех, что скулят зимой под заборами в любом городе.
Остров казался совершенно пустынным. На снегу не было никаких следов.
Кругом все было мертво. Фрам почувствовал голод. Как удовлетворить его, он
не знал.
Пока что самым разумным было бы покинуть эти неприютные места. В
далеких смутных воспоминаниях, вынесенных из младенчества белого медвежонка,
возникли уроки большого доброго существа, которое о нем заботилось. Если
кругом не было дичи, мать спускалась к берегу, дожидалась плавучей льдины и
уплывала на ней, как на плоту, в другое место. Или же находила ледяное поле
и пешком отправлялась на поиски более щедрого острова.
Разумным было последовать ее примеру.
Фрам побрел к берегу. К тому самому утесу, на который его высадили.
Он остановился на его краю и окинул взглядом окрестность. Перед ним
расстилались пустынные просторы океана.
Пароход ушел.
Фрам помнил место, где он стоял на якоре. Там не осталось никаких
следов: печальная, пустынная гладь вод.
Только далеко-далеко прозрачные ледяные горы, гонимые северным ветром к
югу, плыли, как таинственные галеры без руля, без парусов и без гребцов.
Но все они были слишком далеко, то появляясь, то исчезая на горизонте,
так что их едва можно было бы различить даже в подзорную трубу.
А ближе, под высоким берегом, только тихо плескалась глубокая вода,
дробя в своем дрожащем зеркале опрокинутое отражение скал.
Покинуть пустынный остров сегодня не предвиделось никакой возможности.
Фрам уже собрался было отойти от берега, чтобы отыскать себе хорошее
логово, но что-то заставило его вздрогнуть.
Что-то шевельнулось на зеленой глади вод. Показалось черное, блестящее
пятно. Спина тюленя.
Дичь!.. Добыча!.. Еда!..
Фрам спрятался за скалой и стал ждать.
Теперь это был уже не тот Фрам, ученый медведь из цирка Струцкого,
который умел показывать акробатические и гимнастические номера, отдавал
честь и вызывал шумные аплодисменты. В эту минуту он был настоящим полярным
медведем, к тому же голодным, подстерегающим добычу -- живую еду.
Тюлень погрузился в воду, забил ластами. Показался снова. Попробовал
вскарабкаться на плоскую скалу. Поскользнулся. Нашел другое место. В груди
Фрама, под ребрами, отчаянно билось сердце: как бы не ушла добыча, не
исчезла, почуяв запах врага...
Наконец тюлень отыскал подходящее место, выбрался короткими рывками на
берег и растянулся во всю длину.
Фрам ждал.
Теперь в воде мелькали и другие тюленьи головы, то уходя в глубину, то
появляясь на поверхности. Потом вылез еще один тюлень, за ним третий,
четвертый. Фрам научился у людей считать.
Тюленей было уже пять, в том числе две самки с детенышами.
Фрам осторожно пополз, скользя со льдины на льдину, стараясь остаться
незамеченным.
Тюлени были теперь совсем близко.
В пустом брюхе сосало от голода.
А еда была в двух шагах: только броситься и раздробить клыками черепные
кости.
Но тюлени глядели большими кроткими глазами, и Фраму вдруг вспомнились
их родичи -- дрессированные тюлени в цирке Струцкого.
Они сами вылезали из бассейна, ловили мяч мордой и весело резвились.
Это были самые ручные звери цирка и после каждого номера ждали от
дрессировщика ласки и лакомств: рыбку, фрукты, пирожное. Тюлени дружили с
Фрамом. Одно время они даже выступали вместе. Разве мог он теперь броситься
на одного из их братьев, раздробить ему череп клыками, почувствовать, как
трещат в зубах его кости?
Глаза ближнего тюленя встретились с глазами Фрама.
Те же добрые, круглые, не знающие страха глаза.
Некоторое время медведь и тюлень глядели друг на друга. Фрам повернулся
к нему спиной. Потом, чтобы заглушить голос голода, попробовал разогнать
тюленей.
Но они вовсе не собирались уходить. Они выросли возле этого острова,
куда до сих пор не ступала лапа белого медведя. Чувство страха было им
незнакомо. Лежа на каменных плитах, они с удивлением смотрели на невиданное
белое чудовище, которое угрожающе рычало на них, поднималось свечой и вообще
казалось сильно рассерженным.
Фрам толкал их мордой, ворочал лапой, наконец, спихнул в воду. Одного
детеныша он бросил в воду через голову, как мячик.
Когда место было очищено, он по-человечески уселся на край каменной
глыбы, подпер подбородок лапами и, казалось, задумался, пытаясь разобраться
в том, что произошло.
Значит, жалость помешала ему убить тюленя? А что, если он вообще не
сможет убивать животных?
Они жили с ним вместе в клетках цирка.
Он знает их. Он слышал, как они стонали во сне, тоскуя о потерянной
свободе, о родных краях, где их поймали.
Все это очень хорошо, но от этого не легче: голод -- не тетка!
Фрам почувствовал себя самым несчастным белым медведем на свете. Он
слишком поздно вернулся в родное Заполярье и вернулся слишком безоружным.
В отвратительном настроении, поджав куцый хвост, он уже собрался было
лезть обратно на высокий утес, но, вдруг почуяв знакомый запах, поднял
морду. Запах привел его к углублению в скалах, где лежала оставленная
охотником провизия: банки со сгущенным молоком, мясо и хлеб, похожие на
куски льда. Как он научился за свою долгую жизнь среди людей, Фрам не спеша
открыл банку сгущенного молока осторожным ударом о камень. Молоко оказалось
льдиной. Он принялся за него, откусывая по кусочку. Вторая банка успела
немного согреться, потому что он держал ее под мышкой. Фрам вылакал молоко и
облизнулся. Потом съел кусок хлеба и мяса. Пока что этого было достаточно.
Для завершения пира не хватало бутылки пива и порции торта. Но в общем можно
было обойтись и без этого... На сегодня он избавлен от забот. Провизии
осталось достаточно и на завтрашний день.
Он бережно спрятал ее в каменной кладовой и закидал снегом, как делают
собаки, когда прячут кость.
А послезавтра? А дальше?
Фрам задумчиво почесал себе темя когтистой лапой, как делал глупый
Августин, когда ему не удавалось ответить на вопросы, на которые вообще
нельзя было ответить.
Нужно было лезть наверх и найти себе удобное логово.
Он нашел пещеру, куда не задувал ветер.
Оставалось раздобыть карточку в столовую.
Но такой карточки, к несчастью, не удалось раздобыть ни на следующий
день, ни даже через неделю.
Зато через неделю мороз сковал огромные пространства океана. Наконец
показалось солнце. Оно еще висело, багровое и огромное, над горизонтом, на
востоке. Воздух был прозрачен, как стекло. Бесконечное утро сопровождалось
лютой стужей, от которой намерзали ледяные сосульки на морде Фрама.
Куда ни глянь, простиралось сплошное ледяное поле.
Фрам предусмотрительно попробовал лапой лед, который оказался толстым и
твердым. Значит, пришло время двинуться в путь, на север, где, как инстинкт
подсказывал ему, он встретит других белых медведей, своих родичей.
Фрам отправился в путешествие, не торопясь. Его жестоко терзал голод. В
зеленых разводьях и полыньях иногда показывались круглые тюленьи головы.
Матери подталкивали мордой детенышей, помогая им вылезать на свет негреющего
солнца. Фрам отворачивался, борясь с искушением.
Единственной пищей, которую ему посчастливилось найти за это время, был
громадный, вмерзший в льдину кусок моржовой туши, очевидно, остатки пира
другого белого медведя. Впрочем, это могла быть и туша мертвого моржа,
принесенная течением и сохранившаяся в этом природном холодильнике.
Работая когтями, Фрам очистил мясо от его ледяной оболочки, наелся так,
что уже не мог двинуться с места, растянулся тут же и заснул богатырским
сном. Проснувшись, доел остатки и с новыми силами отправился дальше.
Меры времени, как в цирке, у него не было.
Вести счет суткам было трудно, потому что здесь не было ни ночи, ни
дня. Иногда он шел, не останавливаясь, тридцать шесть часов кряду; иной раз,
умаявшись, спал целые сутки. Прошло немало времени, пока он привык к этому
бесконечному утру. Научиться переносить свирепые полярные морозы было тоже
нелегко.
Через неделю, а может, и через две, когда солнце еще ближе подвинулось
к зениту, над ледяным полем показалась окутанная дымкой полоска суши.
Она оказалась очень длинным островом, менее скалистым, чем первый, и,
может быть, менее пустынным.
На льду и на снегу были следы.
Много всяких следов.
Фрам сразу узнал широкие, тяжелые отпечатки медвежьих лап, таких же,
как его собственные. Но они переплетались с множеством других мелких следов,
иногда от ровного шага, иногда от прыжков, иногда парных, иногда спутанных.
Песцы? Волки? Может быть, зайцы? А то и собаки?!
Фрам не умел читать следов: в его прежней жизни такая наука была ни к
чему.
Он ускорил шаг и, раздувая ноздри, пустился по медвежьим следам. Следы
эти повели его по прямой дороге, видно, хорошо известной тому, другому
медведю, тысячу раз хоженной. Сразу можно было догадаться, что родич
чувствовал себя здесь полновластным хозяином; он шел уверенно, заранее зная,
куда идти, а не шатался бесцельно, как Фрам, то туда, то сюда.
Да, следы эти вели к вполне определенной цели. Может быть, к берлоге.
Может быть, к укрытому месту, откуда было удобно подстерегать добычу, а
может, и к медвежьей кладовой.
В груди Фрама тревожно и радостно билось сердце -- так, как оно никогда
еще не билось.
Наконец-то приближалась долгожданная встреча с неизвестным, свободным
братом, который родился и вырос среди вечных льдов; с товарищем, который
научит его всему, что он позабыл или не знал.
Следы были свежие. Они становились все более отчетливыми. В морозном
воздухе уже ощущался запах того, кто их оставил. Значит, он близко.
Так произошла встреча.
Они встретились, стоя па задних лапах.
Дикий медведь, хозяин полярных пустынь, и медведь, вернувшийся на
родину от людей, из их городов.
Дикарь заворчал и оскалился.
Фрам ответил дружелюбно.
Подошел ближе, потянулся к незнакомцу мордой.
Тому захотелось ее укусить. Он бросился вперед, раскинув лапы,
собираясь охватить ими Фрама и начать ту беспощадную медвежью схватку, в
которой хрустят кости и противники катаются по льду, пока одному из них не
придет конец.
Когда дикарь кинулся на него, Фрам ловко увильнул, отпрыгнув в сторону.
Его взгляд выразил удивление и упрек.
Досадно было, что первый медведь, которого он встретил, оказался таким
невежей и дураком. И было жаль его, потому что борьба -- это ясно видел Фрам
-- будет неравной. В обществе людей он научился таким хитрым приемам, о
которых этот глупый упрямец не мог иметь никакого понятия. Потому он решил
просто проучить его, а не сражаться всерьез.
Дикарь опустился на все четыре лапы и принялся раскачивать большой
головой, что у всех медведей является признаком крайнего раздражения. Потом
нацелился, готовясь поразить противника в ребра косым ударом. Но Фрам
перемахнул через него великолепным сальто-мортале и оказался опять на задних
лапах. Незнакомец от удивления разинул пасть. Такого он еще не видывал.
Происшедшее никак не укладывалось в его тупой голове.
Он снова ринулся в бой.
Фрам повторил прыжок. Противник поскользнулся и ударился мордой об лед.
Не упуская случая, Фрам покатился за ним следом, ухватил его за спину и
загривок передними лапами и принялся трясти, как он тряс на арене цирка
медвежью шкуру, когда паяцы пародировали его номер. Потом выпустил
ошеломленного незнакомца и вытянулся на задних лапах, упершись в бок одной
из передних.
Глаза его сверкали весело и беззлобно, словно говоря: "Ну, что,
почтеннейший, хватит с тебя? Как видишь, я понимаю шутки. А ты, к сожалению,
не очень-то. Это была только проба! Я знаю и другие штуки. Лучше со мной не
связываться! Потому советую помириться. Чего же рычать? Что означает твое
"мрр-мрр"?! Право, ты смешон, когда сердишься понапрасну. Лучше давай лапу и
будем дружить. Ты даже представить себе не можешь, как мне нужен товарищ в
этой пустыне!.."
Фрам ждал, дружелюбно глядя на него; одна лапа в боку, другая
протянута: мир!
Но незнакомец действительно не понимал шуток и не был расположен
простить пришельцу его смелость. Он снова поднялся на задние лапы и с ревом
бросился вперед.
Фрам дал ему подножку, как его учил глупый Августин. Прием этот
удавался ему всегда и вызывал дружный хохот галерки.
Дикарь ткнулся мордой в лед.
Фрам откозырял ему комически и насмешливо.
Тот опять поднялся и опять, пыхтя, полез в драку. Перепрыгнув через
него, Фрам проделал двойное сальто-мортале, самое удачное из всех,
когда-либо выполненных им на арене цирка.
Дикий белый медведь боролся с тенью, с медведем-волчком из резины и
пружин.
Фрам ускользал от него, прыгал через него, издеваясь над ним,
дотрагиваясь лапой до его носа и, в конце концов, обозленный его тупостью и
упрямством, крепко уселся на него верхом.
Этой смешной фигуре он тоже научился у глупого Августина.
Тщетно пытался дикарь стряхнуть с себя всадника, выл, рычал, бегал,
вставал свечой, снова опускался на все четыре лапы, пробовал кусаться,
царапаться, извивался, валялся в сугробах.
Его обуял ужас.
По своей простоте он решил, что напал на сумасшедшего медведя, на черта
в медвежьем образе, на какое-то невиданное чудовище.
Теперь ему хотелось одного: избавиться от этой напасти и удрать
подальше.
И когда Фрам наконец ослабил мускулы и соскользнул с его спины, дикарь
пустился наутек... Он бежал не чуя ног, то и дело озираясь: ему казалось,
что чудовище вот-вот погонится за ним. Страх заставлял его мчаться галопом
и, если бы белые медведи были подкованы, а полярные льды скрывали кремень,
можно было бы сказать с полным основанием, что у беглеца сверкали пятки.
Фрам глядел ему вслед с досадой и сожалением: из его первой встречи со
своими ничего не получилось и закончилась она как нельзя хуже.
Вместо товарища и брата, который обрадовался бы его появлению, он, как
видно, напал на упрямого и драчливого дурака.
Если все белые медведи Заполярья похожи на этого, то зря он забрался в
такую даль, чтобы с ними познакомиться!
Огорченный и разочарованный, Фрам бесцельно бродил среди льдов, которые
казались ему такими чужими и враждебными.
Как хорошо было бы сейчас почувствовать ласковую человеческую руку на
своей шкуре, особенно между ушами. Это утешило бы его. Вспомнилось, как
часто приходили к нему в последнее время люди, спрашивали: "Что с тобой,
Фрам? Почему ты такой скучный? Почему у тебя такой несчастный вид? Отвечай!
Затонули твои корабли? Счастье обходит тебя в лотерее?.."
Но тут не от кого было ждать утешения.
От него убегали спугнутые им песцы; словно вытолкнутые пружиной,
поднимались и скачками мчались прочь зайцы-беляки; над головой проносились,
шурша крыльями, стаи белых птиц.
Остров этот кишел жизнью, хотя и лежал севернее того, пустынного, где
оставил Фрама пароход. Но ему не доставляли радости все эти вольные, юркие
твари, которые резвились, играли, охотились и гонялись друг за дружкой. Его
огорчало, что все живое убегало от него, считало его врагом. Даже родной
брат, белый медведь, похожий на него как две капли воды, вместо того чтобы
предложить ему дружбу, сразу же полез в драку. Что за черт! Неужто в
Заполярье мало места для белых медведей?!
Он еще несколько раз увидел своего противника.
Упрямый туземец подстерегал его, укрывшись за скалами. Фрам видел
только морду с испуганными глазами, глядевшими недоуменно и тупо. Стоило
Фраму приблизиться, как дикарь пускался наутек.
Его смешное бегство выводило Фрама из себя. И в самом деле: он ищет
товарища, а тот только и знает, что ворчит: мрр! мрр! -- да еще удирает во
всю прыть.
Много времени спустя он еще раз встретил упрямца. Дикарь стоял спиной к
нему в сбегавшем к берегу, хорошо скрытом от глаз распадке и жадно уплетал
громадную тушу моржа. Он затащил сюда добычу и теперь, урча себе под нос,
набивал брюхо свежатиной.
Услышав скрип шагов по снегу, медведь повернул голову и вскинул глаза.
Фрам уже знал, с кем имеет дело.
Вместо того чтобы рычать и угрожающе скалиться, он взъерошился в шутку,
будто собираясь напасть на него, проделал два сальто-мортале и завертелся
волчком на пятке.
Дикарь кинулся прочь, бросив добычу, спеша удрать от "сумасшедшего".
Фрам, как в цирке, проводил его низким поклоном, потом преспокойно
начал закусывать. Он нашел столовую, где не требовали ни платы, ни карточки,
где не полагалось даже чаевых.
Хлеб насущный был заработан благодаря выучке, полученной в цирке
Струцкого.
X. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Нежданно-негаданно разыгралась пурга.
С севера набежали свинцовые тучи, засвистел-завыл ветер, закрутился
белыми смерчами снег. Скоро небо слилось с землей, льды с водой.
Все потонуло в зеленоватом полусвете не то дня, не то ночи, завертелось
в вихре снежной пыли, похожей на толченое стекло.
Льды трещали от лютого мороза. Под напором ветра ломались скалы. Воздух
гудел. Небосвод, казалось, готов был рухнуть в океан.
Фрам нашел во льду расселину и свернулся в ней клубком, понадеявшись на
свой выбор. Но он ошибся: логово продувалось со всех сторон. Расселину
заносило снегом. Оторванный ветром осколок льдины упал ему на голову. Другой
больно ударил лапу.
Произошло нечто странное, неслыханное: белый, полярный медведь затрясся
от холода.
Хорошо отопленный цирк отучил его от мороза. Он дул на сведенные
холодом лапы, выколачивал из них набившиеся льдинки, отряхивался от снежной
пыли. Пробовал прятать морду в густом мехе брюха, но тогда начинала мерзнуть
спина; медведь менял положение, но мороз больно щипал ему нос.
За несколько часов, пока свирепствовала пурга, бедняга здорово
измучился.
Наконец ветер стих, и Фрам высунул морду на свет. Вид у него был
довольно печальный и, наверно, вызвал бы сочувствие у глупого Августина и
веселые гримасы обезьян цирка Струцкого. Ха-ха! Белый медведь дрожит от
холода!
Чтобы размять онемевшие лапы, Фрам принялся плясать. А плясал он совсем
не так, как дикие белые медведи, и вообще это была не пляска, а гимнастика,
которой его научили люди. Он прыгал через голову вперед и назад, делал
сальто-мортале, свертывался клубком и катался по снегу, потом вскинул задние
лапы и прошелся на одних передних.
Бесплатное представление перед полярной пустыней!
Раньше ему бы аплодировали две тысячи человек, начиная с тех, кто
заполнял галерку, и до нарядных, в перчатках, которые сидели в ложах.
Но в эту минуту все аплодисменты мира не смогли бы привести его в
хорошее настроение.
Слишком уж горько было ему от сознания, что он, полярный медведь, чуть
было не замерз -- опозорил все племя белых медведей!
Немного согревшись, Фрам уселся на ледяную глыбу в самом печальном
расположении: было ясно, что первый шаг в свободной жизни оказался
неудачным.
Он начал ее без цели, наудачу, словно и здесь кто-то мог позаботиться о
нем, вовремя накормить его и обеспечить кровом.
Вместо того чтобы обдумать свое положение, он бесцельно бродил по
острову, карабкался на скалы и скатывался с них как на салазках.
Логова себе он не присматривал, не думал о том, чем будет сыт завтра.
Пурга застала Фрама врасплох, он мерз и стучал зубами, как несчастная
бездомная собачонка, из тех, что скулят зимой под заборами в любом городе.
Остров казался совершенно пустынным. На снегу не было никаких следов.
Кругом все было мертво. Фрам почувствовал голод. Как удовлетворить его, он
не знал.
Пока что самым разумным было бы покинуть эти неприютные места. В
далеких смутных воспоминаниях, вынесенных из младенчества белого медвежонка,
возникли уроки большого доброго существа, которое о нем заботилось. Если
кругом не было дичи, мать спускалась к берегу, дожидалась плавучей льдины и
уплывала на ней, как на плоту, в другое место. Или же находила ледяное поле
и пешком отправлялась на поиски более щедрого острова.
Разумным было последовать ее примеру.
Фрам побрел к берегу. К тому самому утесу, на который его высадили.
Он остановился на его краю и окинул взглядом окрестность. Перед ним
расстилались пустынные просторы океана.
Пароход ушел.
Фрам помнил место, где он стоял на якоре. Там не осталось никаких
следов: печальная, пустынная гладь вод.
Только далеко-далеко прозрачные ледяные горы, гонимые северным ветром к
югу, плыли, как таинственные галеры без руля, без парусов и без гребцов.
Но все они были слишком далеко, то появляясь, то исчезая на горизонте,
так что их едва можно было бы различить даже в подзорную трубу.
А ближе, под высоким берегом, только тихо плескалась глубокая вода,
дробя в своем дрожащем зеркале опрокинутое отражение скал.
Покинуть пустынный остров сегодня не предвиделось никакой возможности.
Фрам уже собрался было отойти от берега, чтобы отыскать себе хорошее
логово, но что-то заставило его вздрогнуть.
Что-то шевельнулось на зеленой глади вод. Показалось черное, блестящее
пятно. Спина тюленя.
Дичь!.. Добыча!.. Еда!..
Фрам спрятался за скалой и стал ждать.
Теперь это был уже не тот Фрам, ученый медведь из цирка Струцкого,
который умел показывать акробатические и гимнастические номера, отдавал
честь и вызывал шумные аплодисменты. В эту минуту он был настоящим полярным
медведем, к тому же голодным, подстерегающим добычу -- живую еду.
Тюлень погрузился в воду, забил ластами. Показался снова. Попробовал
вскарабкаться на плоскую скалу. Поскользнулся. Нашел другое место. В груди
Фрама, под ребрами, отчаянно билось сердце: как бы не ушла добыча, не
исчезла, почуяв запах врага...
Наконец тюлень отыскал подходящее место, выбрался короткими рывками на
берег и растянулся во всю длину.
Фрам ждал.
Теперь в воде мелькали и другие тюленьи головы, то уходя в глубину, то
появляясь на поверхности. Потом вылез еще один тюлень, за ним третий,
четвертый. Фрам научился у людей считать.
Тюленей было уже пять, в том числе две самки с детенышами.
Фрам осторожно пополз, скользя со льдины на льдину, стараясь остаться
незамеченным.
Тюлени были теперь совсем близко.
В пустом брюхе сосало от голода.
А еда была в двух шагах: только броситься и раздробить клыками черепные
кости.
Но тюлени глядели большими кроткими глазами, и Фраму вдруг вспомнились
их родичи -- дрессированные тюлени в цирке Струцкого.
Они сами вылезали из бассейна, ловили мяч мордой и весело резвились.
Это были самые ручные звери цирка и после каждого номера ждали от
дрессировщика ласки и лакомств: рыбку, фрукты, пирожное. Тюлени дружили с
Фрамом. Одно время они даже выступали вместе. Разве мог он теперь броситься
на одного из их братьев, раздробить ему череп клыками, почувствовать, как
трещат в зубах его кости?
Глаза ближнего тюленя встретились с глазами Фрама.
Те же добрые, круглые, не знающие страха глаза.
Некоторое время медведь и тюлень глядели друг на друга. Фрам повернулся
к нему спиной. Потом, чтобы заглушить голос голода, попробовал разогнать
тюленей.
Но они вовсе не собирались уходить. Они выросли возле этого острова,
куда до сих пор не ступала лапа белого медведя. Чувство страха было им
незнакомо. Лежа на каменных плитах, они с удивлением смотрели на невиданное
белое чудовище, которое угрожающе рычало на них, поднималось свечой и вообще
казалось сильно рассерженным.
Фрам толкал их мордой, ворочал лапой, наконец, спихнул в воду. Одного
детеныша он бросил в воду через голову, как мячик.
Когда место было очищено, он по-человечески уселся на край каменной
глыбы, подпер подбородок лапами и, казалось, задумался, пытаясь разобраться
в том, что произошло.
Значит, жалость помешала ему убить тюленя? А что, если он вообще не
сможет убивать животных?
Они жили с ним вместе в клетках цирка.
Он знает их. Он слышал, как они стонали во сне, тоскуя о потерянной
свободе, о родных краях, где их поймали.
Все это очень хорошо, но от этого не легче: голод -- не тетка!
Фрам почувствовал себя самым несчастным белым медведем на свете. Он
слишком поздно вернулся в родное Заполярье и вернулся слишком безоружным.
В отвратительном настроении, поджав куцый хвост, он уже собрался было
лезть обратно на высокий утес, но, вдруг почуяв знакомый запах, поднял
морду. Запах привел его к углублению в скалах, где лежала оставленная
охотником провизия: банки со сгущенным молоком, мясо и хлеб, похожие на
куски льда. Как он научился за свою долгую жизнь среди людей, Фрам не спеша
открыл банку сгущенного молока осторожным ударом о камень. Молоко оказалось
льдиной. Он принялся за него, откусывая по кусочку. Вторая банка успела
немного согреться, потому что он держал ее под мышкой. Фрам вылакал молоко и
облизнулся. Потом съел кусок хлеба и мяса. Пока что этого было достаточно.
Для завершения пира не хватало бутылки пива и порции торта. Но в общем можно
было обойтись и без этого... На сегодня он избавлен от забот. Провизии
осталось достаточно и на завтрашний день.
Он бережно спрятал ее в каменной кладовой и закидал снегом, как делают
собаки, когда прячут кость.
А послезавтра? А дальше?
Фрам задумчиво почесал себе темя когтистой лапой, как делал глупый
Августин, когда ему не удавалось ответить на вопросы, на которые вообще
нельзя было ответить.
Нужно было лезть наверх и найти себе удобное логово.
Он нашел пещеру, куда не задувал ветер.
Оставалось раздобыть карточку в столовую.
Но такой карточки, к несчастью, не удалось раздобыть ни на следующий
день, ни даже через неделю.
Зато через неделю мороз сковал огромные пространства океана. Наконец
показалось солнце. Оно еще висело, багровое и огромное, над горизонтом, на
востоке. Воздух был прозрачен, как стекло. Бесконечное утро сопровождалось
лютой стужей, от которой намерзали ледяные сосульки на морде Фрама.
Куда ни глянь, простиралось сплошное ледяное поле.
Фрам предусмотрительно попробовал лапой лед, который оказался толстым и
твердым. Значит, пришло время двинуться в путь, на север, где, как инстинкт
подсказывал ему, он встретит других белых медведей, своих родичей.
Фрам отправился в путешествие, не торопясь. Его жестоко терзал голод. В
зеленых разводьях и полыньях иногда показывались круглые тюленьи головы.
Матери подталкивали мордой детенышей, помогая им вылезать на свет негреющего
солнца. Фрам отворачивался, борясь с искушением.
Единственной пищей, которую ему посчастливилось найти за это время, был
громадный, вмерзший в льдину кусок моржовой туши, очевидно, остатки пира
другого белого медведя. Впрочем, это могла быть и туша мертвого моржа,
принесенная течением и сохранившаяся в этом природном холодильнике.
Работая когтями, Фрам очистил мясо от его ледяной оболочки, наелся так,
что уже не мог двинуться с места, растянулся тут же и заснул богатырским
сном. Проснувшись, доел остатки и с новыми силами отправился дальше.
Меры времени, как в цирке, у него не было.
Вести счет суткам было трудно, потому что здесь не было ни ночи, ни
дня. Иногда он шел, не останавливаясь, тридцать шесть часов кряду; иной раз,
умаявшись, спал целые сутки. Прошло немало времени, пока он привык к этому
бесконечному утру. Научиться переносить свирепые полярные морозы было тоже
нелегко.
Через неделю, а может, и через две, когда солнце еще ближе подвинулось
к зениту, над ледяным полем показалась окутанная дымкой полоска суши.
Она оказалась очень длинным островом, менее скалистым, чем первый, и,
может быть, менее пустынным.
На льду и на снегу были следы.
Много всяких следов.
Фрам сразу узнал широкие, тяжелые отпечатки медвежьих лап, таких же,
как его собственные. Но они переплетались с множеством других мелких следов,
иногда от ровного шага, иногда от прыжков, иногда парных, иногда спутанных.
Песцы? Волки? Может быть, зайцы? А то и собаки?!
Фрам не умел читать следов: в его прежней жизни такая наука была ни к
чему.
Он ускорил шаг и, раздувая ноздри, пустился по медвежьим следам. Следы
эти повели его по прямой дороге, видно, хорошо известной тому, другому
медведю, тысячу раз хоженной. Сразу можно было догадаться, что родич
чувствовал себя здесь полновластным хозяином; он шел уверенно, заранее зная,
куда идти, а не шатался бесцельно, как Фрам, то туда, то сюда.
Да, следы эти вели к вполне определенной цели. Может быть, к берлоге.
Может быть, к укрытому месту, откуда было удобно подстерегать добычу, а
может, и к медвежьей кладовой.
В груди Фрама тревожно и радостно билось сердце -- так, как оно никогда
еще не билось.
Наконец-то приближалась долгожданная встреча с неизвестным, свободным
братом, который родился и вырос среди вечных льдов; с товарищем, который
научит его всему, что он позабыл или не знал.
Следы были свежие. Они становились все более отчетливыми. В морозном
воздухе уже ощущался запах того, кто их оставил. Значит, он близко.
Так произошла встреча.
Они встретились, стоя па задних лапах.
Дикий медведь, хозяин полярных пустынь, и медведь, вернувшийся на
родину от людей, из их городов.
Дикарь заворчал и оскалился.
Фрам ответил дружелюбно.
Подошел ближе, потянулся к незнакомцу мордой.
Тому захотелось ее укусить. Он бросился вперед, раскинув лапы,
собираясь охватить ими Фрама и начать ту беспощадную медвежью схватку, в
которой хрустят кости и противники катаются по льду, пока одному из них не
придет конец.
Когда дикарь кинулся на него, Фрам ловко увильнул, отпрыгнув в сторону.
Его взгляд выразил удивление и упрек.
Досадно было, что первый медведь, которого он встретил, оказался таким
невежей и дураком. И было жаль его, потому что борьба -- это ясно видел Фрам
-- будет неравной. В обществе людей он научился таким хитрым приемам, о
которых этот глупый упрямец не мог иметь никакого понятия. Потому он решил
просто проучить его, а не сражаться всерьез.
Дикарь опустился на все четыре лапы и принялся раскачивать большой
головой, что у всех медведей является признаком крайнего раздражения. Потом
нацелился, готовясь поразить противника в ребра косым ударом. Но Фрам
перемахнул через него великолепным сальто-мортале и оказался опять на задних
лапах. Незнакомец от удивления разинул пасть. Такого он еще не видывал.
Происшедшее никак не укладывалось в его тупой голове.
Он снова ринулся в бой.
Фрам повторил прыжок. Противник поскользнулся и ударился мордой об лед.
Не упуская случая, Фрам покатился за ним следом, ухватил его за спину и
загривок передними лапами и принялся трясти, как он тряс на арене цирка
медвежью шкуру, когда паяцы пародировали его номер. Потом выпустил
ошеломленного незнакомца и вытянулся на задних лапах, упершись в бок одной
из передних.
Глаза его сверкали весело и беззлобно, словно говоря: "Ну, что,
почтеннейший, хватит с тебя? Как видишь, я понимаю шутки. А ты, к сожалению,
не очень-то. Это была только проба! Я знаю и другие штуки. Лучше со мной не
связываться! Потому советую помириться. Чего же рычать? Что означает твое
"мрр-мрр"?! Право, ты смешон, когда сердишься понапрасну. Лучше давай лапу и
будем дружить. Ты даже представить себе не можешь, как мне нужен товарищ в
этой пустыне!.."
Фрам ждал, дружелюбно глядя на него; одна лапа в боку, другая
протянута: мир!
Но незнакомец действительно не понимал шуток и не был расположен
простить пришельцу его смелость. Он снова поднялся на задние лапы и с ревом
бросился вперед.
Фрам дал ему подножку, как его учил глупый Августин. Прием этот
удавался ему всегда и вызывал дружный хохот галерки.
Дикарь ткнулся мордой в лед.
Фрам откозырял ему комически и насмешливо.
Тот опять поднялся и опять, пыхтя, полез в драку. Перепрыгнув через
него, Фрам проделал двойное сальто-мортале, самое удачное из всех,
когда-либо выполненных им на арене цирка.
Дикий белый медведь боролся с тенью, с медведем-волчком из резины и
пружин.
Фрам ускользал от него, прыгал через него, издеваясь над ним,
дотрагиваясь лапой до его носа и, в конце концов, обозленный его тупостью и
упрямством, крепко уселся на него верхом.
Этой смешной фигуре он тоже научился у глупого Августина.
Тщетно пытался дикарь стряхнуть с себя всадника, выл, рычал, бегал,
вставал свечой, снова опускался на все четыре лапы, пробовал кусаться,
царапаться, извивался, валялся в сугробах.
Его обуял ужас.
По своей простоте он решил, что напал на сумасшедшего медведя, на черта
в медвежьем образе, на какое-то невиданное чудовище.
Теперь ему хотелось одного: избавиться от этой напасти и удрать
подальше.
И когда Фрам наконец ослабил мускулы и соскользнул с его спины, дикарь
пустился наутек... Он бежал не чуя ног, то и дело озираясь: ему казалось,
что чудовище вот-вот погонится за ним. Страх заставлял его мчаться галопом
и, если бы белые медведи были подкованы, а полярные льды скрывали кремень,
можно было бы сказать с полным основанием, что у беглеца сверкали пятки.
Фрам глядел ему вслед с досадой и сожалением: из его первой встречи со
своими ничего не получилось и закончилась она как нельзя хуже.
Вместо товарища и брата, который обрадовался бы его появлению, он, как
видно, напал на упрямого и драчливого дурака.
Если все белые медведи Заполярья похожи на этого, то зря он забрался в
такую даль, чтобы с ними познакомиться!
Огорченный и разочарованный, Фрам бесцельно бродил среди льдов, которые
казались ему такими чужими и враждебными.
Как хорошо было бы сейчас почувствовать ласковую человеческую руку на
своей шкуре, особенно между ушами. Это утешило бы его. Вспомнилось, как
часто приходили к нему в последнее время люди, спрашивали: "Что с тобой,
Фрам? Почему ты такой скучный? Почему у тебя такой несчастный вид? Отвечай!
Затонули твои корабли? Счастье обходит тебя в лотерее?.."
Но тут не от кого было ждать утешения.
От него убегали спугнутые им песцы; словно вытолкнутые пружиной,
поднимались и скачками мчались прочь зайцы-беляки; над головой проносились,
шурша крыльями, стаи белых птиц.
Остров этот кишел жизнью, хотя и лежал севернее того, пустынного, где
оставил Фрама пароход. Но ему не доставляли радости все эти вольные, юркие
твари, которые резвились, играли, охотились и гонялись друг за дружкой. Его
огорчало, что все живое убегало от него, считало его врагом. Даже родной
брат, белый медведь, похожий на него как две капли воды, вместо того чтобы
предложить ему дружбу, сразу же полез в драку. Что за черт! Неужто в
Заполярье мало места для белых медведей?!
Он еще несколько раз увидел своего противника.
Упрямый туземец подстерегал его, укрывшись за скалами. Фрам видел
только морду с испуганными глазами, глядевшими недоуменно и тупо. Стоило
Фраму приблизиться, как дикарь пускался наутек.
Его смешное бегство выводило Фрама из себя. И в самом деле: он ищет
товарища, а тот только и знает, что ворчит: мрр! мрр! -- да еще удирает во
всю прыть.
Много времени спустя он еще раз встретил упрямца. Дикарь стоял спиной к
нему в сбегавшем к берегу, хорошо скрытом от глаз распадке и жадно уплетал
громадную тушу моржа. Он затащил сюда добычу и теперь, урча себе под нос,
набивал брюхо свежатиной.
Услышав скрип шагов по снегу, медведь повернул голову и вскинул глаза.
Фрам уже знал, с кем имеет дело.
Вместо того чтобы рычать и угрожающе скалиться, он взъерошился в шутку,
будто собираясь напасть на него, проделал два сальто-мортале и завертелся
волчком на пятке.
Дикарь кинулся прочь, бросив добычу, спеша удрать от "сумасшедшего".
Фрам, как в цирке, проводил его низким поклоном, потом преспокойно
начал закусывать. Он нашел столовую, где не требовали ни платы, ни карточки,
где не полагалось даже чаевых.
Хлеб насущный был заработан благодаря выучке, полученной в цирке
Струцкого.
 * * *
* * *
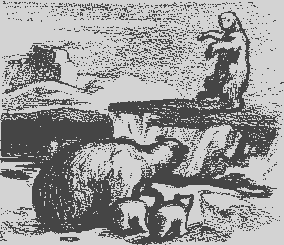 XI. БУФФОН ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
Нужда учит человека. А тем более медведя.
Фрам сумел использовать в своей жизни горькие плоды приобретенного
опыта. Принесло ему пользу и то, чему он научился от людей.
Он уже знал, как соорудить себе убежище, такое прочное и красивое"
какого не сумел бы построить себе никакой другой белый медведь с тех пор,
как на свете существует их племя. Теперь, когда бушевала пурга, он уже не
дрожал, как бездомная собачонка, в ледяной щели, насквозь продуваемой
ветром.
Если "под рукой" у него не оказывалось готовой ледяной берлоги, он
строил себе жилище сам: поднявшись на задние лапы, таскал прозрачные ледяные
глыбы, клал их одну на другую, потом прикрывал широкой плоской льдиной и
набивал в щели снег, чтобы не дуло. А в пургу даже закрывал вход ледяной
дверью, как прежде дверцу клетки в зверинце цирка Струцкого.
Так Фрам стал "мастером-каменщиком".
Особых хлопот для этого не требовалось. Сколько раз в своей прежней
жизни он наблюдал, как цирковые мастера ставили за один день на пустыре
конюшни и склады для реквизита, разбивали палатки! Здесь спешить было
незачем: день длился несколько месяцев -- времени хоть отбавляй!
Никакая программа гала-представления, о котором оповещали расклеенные
по стенам афиши, не торопила его.
-- Скорей, скорей! -- покрикивал, бывало, директор.
-- Давай, нажимай!.. -- торопили друг друга мастера.
-- Когда будет готово? -- интересовались гимнасты и эквилибристы.
-- Скорей, скорей! -- кричали, путаясь под ногами по своему обычаю,
клоуны.
Фрама никто не понукал. Он работал с прохладцем, обдуманно, расчетливо.
Правда, у него не было, как у цирковых мастеров, ни выгруженных из
вагонов материалов, ни хранившегося в ящиках инструмента. Ни дерева, ни
гипса, ни песка, ни мастерка, ни молотка, ни гвоздей! Настоящая бедность!
На то это и полюс!
Фрам не знал истории Робинзона Крузо, очутившегося после
кораблекрушения на необитаемом острове, на другом конце земного шара, в
теплых морях. Он понятия не имел о том, как умело строил себе хижину
Робинзон, изготовлял нитки и иголки, шил одежду из звериных шкур, приручал
диких коз и сеял пшеницу. Теперь, сам того не зная, он тоже был своего рода
Робинзоном и выходил из любого положения благодаря смекалке и умению.
Труднее было обеспечить себя насущной пищей.
Робинзон имел ружье и удочку, охотился и удил рыбу. Почувствовав голод,
он сразу находил чем заморить червяка.
Но что было делать Фраму?
Фрам был медведем, не научившимся самому главному в медвежьей жизни --
охоте. Голодный и несчастный, он все же не решался убивать животных, пуская
в ход клыки и когти.
Из той другой, цирковой жизни на него смотрели большие, круглые,
кроткие тюленьи глаза.
Ему казалось, что они смотрят на него с упреком.
Неугомонных песцов Фрам угощал "пощечинами" за неслыханную их дерзость.
Подумать только: шарили у него в берлоге, возились и сновали между ног,
когда он спал; перекликались визгливым лаем, дрались из-за птиц, которых они
притаскивали в его логово, наполняя его белым пухом и пером. Ему ничего не
стоило перебить им хребет лапой, нужно было только ударить чуть сильней. Но
Фрам их щадил.
Он шлепал их мягкой лапой, точь-в-точь как в цирке глупого Августина,
когда тот к нему приставал и получал от него, к восторгу галерки, легкий
шлепок по колпаку или по красному, как спелый помидор, носу, который от
этого сплющивался.
Песец, получивший шлепок, смущенно поднимался и удирал без оглядки,
радуясь, что дешево отделался.
Некоторое время Фрам пировал за счет своего упрямого дикого собрата.
Он знал от людей, что все живые существа на свете имеют свою кличку.
Тигров и цирке Струцкого звали Раджа или Ким; попугаев -- Коко или Джек;
слонов -- Колосс или Гни-дерево; обезьян -- Ники или Пики.
У каждого была своя кличка, свое прозвище и своя история.
У дикаря была большая, но совершенно пустая голова, без единой искры
разума. Поэтому Фрам окрестил его "Пустоголовым". После первой же встречи он
понял, что с ним не сговоришься.
Пустоголовый отправлялся на охоту. Фрам ему не мешал и выходил на берег
полюбоваться океаном, где ледяное поле уже растаяло и где теперь плыли в
неведомые дали айсберги -- таинственные галеры без руля, без парусов и без
гребцов. Потом, не торопясь, отыскивал следы Пустоголового. По этим кровавым
следам нетрудно было сообразить, что охота была удачной, что охотник
спрятался и наверняка уже уплетает в укромном уголке свою добычу.
Фрам являлся к нему в самый разгар пира, поднимался на задние лапы и
козырял с плутовским видом, словно говоря:
-- Приятного аппетита, Пустоголовый! Рад гостю?
Не успев даже облизнуться, дикарь пускался со всех ног наутек. А Фрам
располагался в его тайнике, как дома, и приканчивал все, что оставалось.
Наевшись, он хлопал себя лапой по брюху и шел отдыхать без всяких угрызений
совести по поводу того, что бесцеремонно живет за чужой счет.
Со временем, однако, Пустоголовый отчаялся, трудясь на своего
нахлебника.
Он бросил все и уплыл на льдине в другие края, где нет сумасшедших
медведей, которые кувыркаются через голову, превращаются в резиновый мяч,
когда хочешь их ударить, а к тому же еще и бессовестно издеваются над тобой.
Фрам остался один. Опять началась голодовка.
Бесплатная столовая закрылась. Хозяин исчез, оставив своего постоянного
гостя голодать.
У Фрама вытянулась морда, подвело брюхо.
Под шкурой выпирали кости, когда он вечером укладывался спать.
-- Это не жизнь! -- ворчал он про себя. -- Тяжело, Фрам, очень тяжело.
Как быть?
Что делать?
Он решил уйти подальше от берега, в глубь острова. Но там оказалась
пустыня: все живое тянулось к взморью, где можно было поживиться рыбой, где
отдыхали на солнышке птицы со своими выводками.
Фрам вернулся с еще более длинной мордой, с еще более подведенным от
голода брюхом и торчащими ребрами. Изменив план действий, он отправился в
новый поход: вокруг острова.
Солнце теперь уже стояло посреди неба. Снег ослепительно сверкал.
Ослепительно искрились льдины.
Океан расстилался сколько хватал глаз, зеленый и бескрайний, подернутый
мелкой рябью волн.
Иногда к скалам подплывали льдины, останавливались без якоря и потом
отчаливали и уплывали дальше бесконечной вереницей.
На таких прозрачных ледяных плотах с одного края океана до другого
иногда путешествовали, нежась в ярких солнечных лучах, моржи и тюлени.
А один раз -- один-единственный -- Фрам увидел пароход.
Застучало сердце. Горячая волна крови остановила дыхание. Пароход!.
Люди!.. Может, тот самый охотник, который доставил его на пустынный остров и
так заботливо оставил ему запас провизии в природном холодильнике прибрежных
скал. Может, с ним и та молодая женщина, которая гладила его ласковой,
доброй рукой. Пароход!.. Люди!.. Другой мир... Тот далекий мир, где его
понимали, где он никогда не бывал одинок, не знал голода и не чувствовал
себя таким чужим, как в этой глухомани, где пустоголовые медведи либо
скалятся и рычат, либо удирают, когда к ним подходишь.
Фрам поднялся на задние лапы и радостно замахал, в виде приветствия,
передними.
Но пароход, не заметив его, растаял в дымке горизонта.
Может быть, судно направлялось к другим, отмеченным на карте островам,
где есть хижины охотников или рыбаков?
А может, ему просто померещилось и никакого парохода не было?
Океан снова превратился в враждебную водную пустыню, изборожденную
только плавучими льдами.
Фрам побрел дальше, вдоль усеянного скалами берега. Там ему неожиданно
встретился новый родич: на этот раз белая медведица с двумя медвежатами.
После неудачи с Пустоголовым Фрам решил, что разумнее всего будет
рассеять подозрения с самого начала. Новая встреча обрадовала его. Он искал
друга. Медвежата могли оказаться сиротами, без отца. Он был готов взять их
под свое покровительство и научить множеству забавных штук.
Поэтому он еще издали начал делать медведице дружеские знаки --
конечно, по мере своего разумения и своих возможностей.
Поднявшись на задние лапы, он отдал ей честь, проделал сальто-мортале,
прошелся колесом и на передних лапах, подбросил вверх и. поймал один, два,
три, четыре, пять комьев снега, наконец, приблизился, вальсируя, к
незнакомке.
Будь она человеком, медведица перекрестилась бы от изумления. Чем ближе
подвигался, грациозно вальсируя, Фрам, тем дальше она от него пятилась.
Ей было непонятно, что хочет от нее этот медведь-клоун. Возможно, она
тоже, как Пустоголовый, сочла его опасным сумасшедшим или даже привидением.
Зато медвежата сразу выказали свое восхищение. Фортели, которые
проделывал Фрам, им явно нравились. Они не боялись его, не пятились, не
таращили на него тупо глаза. Наоборот, они устремились к нему.
Медведица сердито притянула их к себе лапой. Ее ворчание обещало им
хорошую встрепку, когда они останутся одни. А пока что ей предстояло
разделаться с этим буффоном.
Фрам был от нее в каких-нибудь пяти шагах.
Ему хотелось приласкать белых пушистых медвежат, как он, бывало, ласкал
в цирке человеческих детенышей, гладя их лапой по головке когда они звали
его, чтоб он поделился с ними конфетами или когда., он рассаживал их в ложах
по красным плюшевым креслам.
Но такие мирные намерения не укладывались в голове медведицы. Она,
видно, приходилась Пустоголовому не иначе, как родной сестрицей, и ничего
лучшего не знала, как рычать и показывать клыки. Медвежат она отодвинула
лапой себе за спину, чтобы очистить место для драки, потом взъерошилась и,
раскачивая голову, с ревом ринулась в бой.
Фрам ловко увернулся. Это удалось ему даже лучше, чем он ожидал,
благодаря тому, что у него было пустое брюхо. Он тут же вернулся на прежнее
место и с сожалением посмотрел на покатившуюся кубарем медведицу, которая
уткнулась носом в лед.
Потом попробовал -- добрая душа! -- помочь ей встать и галантно
протянул для этого лапу: люди приучили его к вежливости. Но медведица
сердито ощерилась, напряглась, вонзила клыки в протянутую лапу и наверно
оторвала бы ее с мясом и куском шкуры, если бы Фрам и тут не воспользовался
человеческой наукой. Он просто зажал ей свободной лапой нос и остановил
дыхание. Когда опешившая сестра Пустоголового отпустила лапу, Фрам подтащил
ее за нос к медвежатам и повернулся к ней спиной.
Потом залез на скалу и принялся зализывать рану. Медведица проводила
его грозным рычанием.
Сидя на скале, Фрам прикинулся, что ничего не слышит: ему не хотелось
ни драться, ни дурачиться.
Противники смерили друг друга глазами: он сверху вниз, она снизу вверх.
В эту минуту цирковая выучка оказалась сильнее обиды и боли. Зализав
рану, Фрам состроил такую же рожу, как глупый Августин, когда ему хотелось
выразить кому-нибудь презрение, и проделал с высоты своей скалы великолепное
сальто-мортале. Возмущенная медведица подтащила к себе медвежат и прыгнула
вместе с ними на плавучую льдину.
Она покинула поле битвы, не желая иметь дело с паяцем.
Позади скалы Фрам обнаружил почти нетронутую тушу убитого ею моржа, --
опять бесплатная столовая! Он наелся до отвала за счет медведицы и пожалел о
том, что хозяйка столовой так же, как Пустоголовый, бросила гостя,
предоставив ему угощаться в одиночестве.
После этого происшествия Фрам встретил еще одного медведя, потом
другого и всячески старался завязать с ними дружбу. Он приближался к ним с
опаской, без выученных в цирке шутовских приветствий и клоунад, как сделал
бы всякий обыкновенный медведь. Дикий собрат показывал клыки, и тогда,
волей-неволей, ученый медведь, чтобы избежать драки по всем медвежьим
правилам, пускал в ход фигуры глупого Августина или те, которым он научился
от Ники и Пики. Он довольствовался тем, что изумлял и пугал. И стоило ему
начать свои цирковые шутки, вроде сальто-мортале, вальса, хождения на
передних лапах или стояния на голове, как его дикий родич застывал с
вытаращенными глазами, не осмеливаясь затевать сражения с таким
необыкновенным и непонятным противником, а потом, бросив добычу,
стремительно спасался бегством в своих белых, чересчур широких меховых
панталонах и, отбежав подальше, карабкался на скалу повыше.
Взобравшись туда, дикарь удивленно и испуганно глядел на зверя, который
был по всем внешним признакам таким же медведем, как и он сам, но по своим
ухваткам никак на медведя не походил.
Фрам поднимался на задние лапы, а передними и головой делал дружеские,
миролюбивые знаки. Его урчание говорило при этом:
-- Ну же, подходи, что ли! Это твоя добыча. Твое право... Я приглашаю
тебя на твой собственный пир!.. Что за черт! Видно, все вы родные братья
тому Пустоголовому, который удрал с острова. Прошу к столу! Жаль только, что
у меня нет бутылки пива на льду, чтобы угостить тебя, как я угощал глупого
Августина в цирке Струцкого...
Но все проявления дружбы встречали отпор.
Медведи прятались за скалы или удирали, путаясь в своих белых
шароварах.
Фрам понял наконец, что он на долгое время обречен на полное
одиночество.
Какая-то злая, необъяснимая тайна препятствовала его дружбе с дикими
медведями Заполярья.
Они чувствовали в нем чужака, пришельца из другого мира.
Он был незваным гостем.
Зачем он здесь, что ему надо?
Он не принимал жизнь всерьез. Так, по крайней мере, казалось. Вздорный,
несерьезный медведь.
Он появлялся из-за скалы в самый разгар пира. Хозяин ворча поднимал
морду, скалился, готовясь броситься в бой. Потом, увидев прыжки через
голову, сальто-мортале, шутовское военное приветствие и вальс, начинал
пятиться на четвереньках и пускался наутек, оставляя Фраму добычу, а Фрам
принимался ее уписывать.
Не теряя надежды встретить кого-нибудь более толкового, кто мог бы
стать ему товарищем, он перекочевывал с одного острова на другой по ледяному
мосту или на плавучих льдинах. Но повсюду было одно и то же, повсюду его
встречали враждебным ворчанием и обнаженными клыками.
Света в Заполярье становилось все меньше. Громадное красное солнце
клонилось к западу.
Приближалась полярная ночь, которая длится несколько месяцев.
Фрам построил себе на берегу океана зимнюю берлогу.
В мутных, сизых сумерках океан затянулся толстой ледяной корой. Уже не
видно было зеленых разводий. Сколько хватал глаз вокруг расстилалось белое,
стеклянистое ледяное поле без конца и без края. Белые птицы улетели в теплые
страны. Полярные крачки, серебристые и сизые чайки, нырки и другие птицы
сбивались в станицы и спешили на юг.
Небо опустело.
Потом солнце опустилось за линию горизонта.
Некоторое время край неба еще розовел на западе. Но розовая полоска
становилась все уже, все бледнее, потом все погрузилось в кромешную тьму.
Завыла северная пурга, понесла, закрутила снег, наметая сугробы. Ледяные
поля трещали и лопались с пушечным грохотом.
Полярная зима и полярная ночь завладели белой пустыней и замерзшими
водами.
Кто бы подумал, что где-то далеко есть теплые, ярко освещенные города,
где гремят трамваи и снует на бульварах оживленная толпа? Кто бы подумал,
что ветер там все еще треплет старую, отклеившуюся от стены цирковую афишу,
на которой изображен Фрам, белый медведь? Или что некий курносый мальчуган,
опершись на стол затекшими локтями, не отрываясь читает в этот поздний час
книжку о полярных экспедициях?
XI. БУФФОН ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
Нужда учит человека. А тем более медведя.
Фрам сумел использовать в своей жизни горькие плоды приобретенного
опыта. Принесло ему пользу и то, чему он научился от людей.
Он уже знал, как соорудить себе убежище, такое прочное и красивое"
какого не сумел бы построить себе никакой другой белый медведь с тех пор,
как на свете существует их племя. Теперь, когда бушевала пурга, он уже не
дрожал, как бездомная собачонка, в ледяной щели, насквозь продуваемой
ветром.
Если "под рукой" у него не оказывалось готовой ледяной берлоги, он
строил себе жилище сам: поднявшись на задние лапы, таскал прозрачные ледяные
глыбы, клал их одну на другую, потом прикрывал широкой плоской льдиной и
набивал в щели снег, чтобы не дуло. А в пургу даже закрывал вход ледяной
дверью, как прежде дверцу клетки в зверинце цирка Струцкого.
Так Фрам стал "мастером-каменщиком".
Особых хлопот для этого не требовалось. Сколько раз в своей прежней
жизни он наблюдал, как цирковые мастера ставили за один день на пустыре
конюшни и склады для реквизита, разбивали палатки! Здесь спешить было
незачем: день длился несколько месяцев -- времени хоть отбавляй!
Никакая программа гала-представления, о котором оповещали расклеенные
по стенам афиши, не торопила его.
-- Скорей, скорей! -- покрикивал, бывало, директор.
-- Давай, нажимай!.. -- торопили друг друга мастера.
-- Когда будет готово? -- интересовались гимнасты и эквилибристы.
-- Скорей, скорей! -- кричали, путаясь под ногами по своему обычаю,
клоуны.
Фрама никто не понукал. Он работал с прохладцем, обдуманно, расчетливо.
Правда, у него не было, как у цирковых мастеров, ни выгруженных из
вагонов материалов, ни хранившегося в ящиках инструмента. Ни дерева, ни
гипса, ни песка, ни мастерка, ни молотка, ни гвоздей! Настоящая бедность!
На то это и полюс!
Фрам не знал истории Робинзона Крузо, очутившегося после
кораблекрушения на необитаемом острове, на другом конце земного шара, в
теплых морях. Он понятия не имел о том, как умело строил себе хижину
Робинзон, изготовлял нитки и иголки, шил одежду из звериных шкур, приручал
диких коз и сеял пшеницу. Теперь, сам того не зная, он тоже был своего рода
Робинзоном и выходил из любого положения благодаря смекалке и умению.
Труднее было обеспечить себя насущной пищей.
Робинзон имел ружье и удочку, охотился и удил рыбу. Почувствовав голод,
он сразу находил чем заморить червяка.
Но что было делать Фраму?
Фрам был медведем, не научившимся самому главному в медвежьей жизни --
охоте. Голодный и несчастный, он все же не решался убивать животных, пуская
в ход клыки и когти.
Из той другой, цирковой жизни на него смотрели большие, круглые,
кроткие тюленьи глаза.
Ему казалось, что они смотрят на него с упреком.
Неугомонных песцов Фрам угощал "пощечинами" за неслыханную их дерзость.
Подумать только: шарили у него в берлоге, возились и сновали между ног,
когда он спал; перекликались визгливым лаем, дрались из-за птиц, которых они
притаскивали в его логово, наполняя его белым пухом и пером. Ему ничего не
стоило перебить им хребет лапой, нужно было только ударить чуть сильней. Но
Фрам их щадил.
Он шлепал их мягкой лапой, точь-в-точь как в цирке глупого Августина,
когда тот к нему приставал и получал от него, к восторгу галерки, легкий
шлепок по колпаку или по красному, как спелый помидор, носу, который от
этого сплющивался.
Песец, получивший шлепок, смущенно поднимался и удирал без оглядки,
радуясь, что дешево отделался.
Некоторое время Фрам пировал за счет своего упрямого дикого собрата.
Он знал от людей, что все живые существа на свете имеют свою кличку.
Тигров и цирке Струцкого звали Раджа или Ким; попугаев -- Коко или Джек;
слонов -- Колосс или Гни-дерево; обезьян -- Ники или Пики.
У каждого была своя кличка, свое прозвище и своя история.
У дикаря была большая, но совершенно пустая голова, без единой искры
разума. Поэтому Фрам окрестил его "Пустоголовым". После первой же встречи он
понял, что с ним не сговоришься.
Пустоголовый отправлялся на охоту. Фрам ему не мешал и выходил на берег
полюбоваться океаном, где ледяное поле уже растаяло и где теперь плыли в
неведомые дали айсберги -- таинственные галеры без руля, без парусов и без
гребцов. Потом, не торопясь, отыскивал следы Пустоголового. По этим кровавым
следам нетрудно было сообразить, что охота была удачной, что охотник
спрятался и наверняка уже уплетает в укромном уголке свою добычу.
Фрам являлся к нему в самый разгар пира, поднимался на задние лапы и
козырял с плутовским видом, словно говоря:
-- Приятного аппетита, Пустоголовый! Рад гостю?
Не успев даже облизнуться, дикарь пускался со всех ног наутек. А Фрам
располагался в его тайнике, как дома, и приканчивал все, что оставалось.
Наевшись, он хлопал себя лапой по брюху и шел отдыхать без всяких угрызений
совести по поводу того, что бесцеремонно живет за чужой счет.
Со временем, однако, Пустоголовый отчаялся, трудясь на своего
нахлебника.
Он бросил все и уплыл на льдине в другие края, где нет сумасшедших
медведей, которые кувыркаются через голову, превращаются в резиновый мяч,
когда хочешь их ударить, а к тому же еще и бессовестно издеваются над тобой.
Фрам остался один. Опять началась голодовка.
Бесплатная столовая закрылась. Хозяин исчез, оставив своего постоянного
гостя голодать.
У Фрама вытянулась морда, подвело брюхо.
Под шкурой выпирали кости, когда он вечером укладывался спать.
-- Это не жизнь! -- ворчал он про себя. -- Тяжело, Фрам, очень тяжело.
Как быть?
Что делать?
Он решил уйти подальше от берега, в глубь острова. Но там оказалась
пустыня: все живое тянулось к взморью, где можно было поживиться рыбой, где
отдыхали на солнышке птицы со своими выводками.
Фрам вернулся с еще более длинной мордой, с еще более подведенным от
голода брюхом и торчащими ребрами. Изменив план действий, он отправился в
новый поход: вокруг острова.
Солнце теперь уже стояло посреди неба. Снег ослепительно сверкал.
Ослепительно искрились льдины.
Океан расстилался сколько хватал глаз, зеленый и бескрайний, подернутый
мелкой рябью волн.
Иногда к скалам подплывали льдины, останавливались без якоря и потом
отчаливали и уплывали дальше бесконечной вереницей.
На таких прозрачных ледяных плотах с одного края океана до другого
иногда путешествовали, нежась в ярких солнечных лучах, моржи и тюлени.
А один раз -- один-единственный -- Фрам увидел пароход.
Застучало сердце. Горячая волна крови остановила дыхание. Пароход!.
Люди!.. Может, тот самый охотник, который доставил его на пустынный остров и
так заботливо оставил ему запас провизии в природном холодильнике прибрежных
скал. Может, с ним и та молодая женщина, которая гладила его ласковой,
доброй рукой. Пароход!.. Люди!.. Другой мир... Тот далекий мир, где его
понимали, где он никогда не бывал одинок, не знал голода и не чувствовал
себя таким чужим, как в этой глухомани, где пустоголовые медведи либо
скалятся и рычат, либо удирают, когда к ним подходишь.
Фрам поднялся на задние лапы и радостно замахал, в виде приветствия,
передними.
Но пароход, не заметив его, растаял в дымке горизонта.
Может быть, судно направлялось к другим, отмеченным на карте островам,
где есть хижины охотников или рыбаков?
А может, ему просто померещилось и никакого парохода не было?
Океан снова превратился в враждебную водную пустыню, изборожденную
только плавучими льдами.
Фрам побрел дальше, вдоль усеянного скалами берега. Там ему неожиданно
встретился новый родич: на этот раз белая медведица с двумя медвежатами.
После неудачи с Пустоголовым Фрам решил, что разумнее всего будет
рассеять подозрения с самого начала. Новая встреча обрадовала его. Он искал
друга. Медвежата могли оказаться сиротами, без отца. Он был готов взять их
под свое покровительство и научить множеству забавных штук.
Поэтому он еще издали начал делать медведице дружеские знаки --
конечно, по мере своего разумения и своих возможностей.
Поднявшись на задние лапы, он отдал ей честь, проделал сальто-мортале,
прошелся колесом и на передних лапах, подбросил вверх и. поймал один, два,
три, четыре, пять комьев снега, наконец, приблизился, вальсируя, к
незнакомке.
Будь она человеком, медведица перекрестилась бы от изумления. Чем ближе
подвигался, грациозно вальсируя, Фрам, тем дальше она от него пятилась.
Ей было непонятно, что хочет от нее этот медведь-клоун. Возможно, она
тоже, как Пустоголовый, сочла его опасным сумасшедшим или даже привидением.
Зато медвежата сразу выказали свое восхищение. Фортели, которые
проделывал Фрам, им явно нравились. Они не боялись его, не пятились, не
таращили на него тупо глаза. Наоборот, они устремились к нему.
Медведица сердито притянула их к себе лапой. Ее ворчание обещало им
хорошую встрепку, когда они останутся одни. А пока что ей предстояло
разделаться с этим буффоном.
Фрам был от нее в каких-нибудь пяти шагах.
Ему хотелось приласкать белых пушистых медвежат, как он, бывало, ласкал
в цирке человеческих детенышей, гладя их лапой по головке когда они звали
его, чтоб он поделился с ними конфетами или когда., он рассаживал их в ложах
по красным плюшевым креслам.
Но такие мирные намерения не укладывались в голове медведицы. Она,
видно, приходилась Пустоголовому не иначе, как родной сестрицей, и ничего
лучшего не знала, как рычать и показывать клыки. Медвежат она отодвинула
лапой себе за спину, чтобы очистить место для драки, потом взъерошилась и,
раскачивая голову, с ревом ринулась в бой.
Фрам ловко увернулся. Это удалось ему даже лучше, чем он ожидал,
благодаря тому, что у него было пустое брюхо. Он тут же вернулся на прежнее
место и с сожалением посмотрел на покатившуюся кубарем медведицу, которая
уткнулась носом в лед.
Потом попробовал -- добрая душа! -- помочь ей встать и галантно
протянул для этого лапу: люди приучили его к вежливости. Но медведица
сердито ощерилась, напряглась, вонзила клыки в протянутую лапу и наверно
оторвала бы ее с мясом и куском шкуры, если бы Фрам и тут не воспользовался
человеческой наукой. Он просто зажал ей свободной лапой нос и остановил
дыхание. Когда опешившая сестра Пустоголового отпустила лапу, Фрам подтащил
ее за нос к медвежатам и повернулся к ней спиной.
Потом залез на скалу и принялся зализывать рану. Медведица проводила
его грозным рычанием.
Сидя на скале, Фрам прикинулся, что ничего не слышит: ему не хотелось
ни драться, ни дурачиться.
Противники смерили друг друга глазами: он сверху вниз, она снизу вверх.
В эту минуту цирковая выучка оказалась сильнее обиды и боли. Зализав
рану, Фрам состроил такую же рожу, как глупый Августин, когда ему хотелось
выразить кому-нибудь презрение, и проделал с высоты своей скалы великолепное
сальто-мортале. Возмущенная медведица подтащила к себе медвежат и прыгнула
вместе с ними на плавучую льдину.
Она покинула поле битвы, не желая иметь дело с паяцем.
Позади скалы Фрам обнаружил почти нетронутую тушу убитого ею моржа, --
опять бесплатная столовая! Он наелся до отвала за счет медведицы и пожалел о
том, что хозяйка столовой так же, как Пустоголовый, бросила гостя,
предоставив ему угощаться в одиночестве.
После этого происшествия Фрам встретил еще одного медведя, потом
другого и всячески старался завязать с ними дружбу. Он приближался к ним с
опаской, без выученных в цирке шутовских приветствий и клоунад, как сделал
бы всякий обыкновенный медведь. Дикий собрат показывал клыки, и тогда,
волей-неволей, ученый медведь, чтобы избежать драки по всем медвежьим
правилам, пускал в ход фигуры глупого Августина или те, которым он научился
от Ники и Пики. Он довольствовался тем, что изумлял и пугал. И стоило ему
начать свои цирковые шутки, вроде сальто-мортале, вальса, хождения на
передних лапах или стояния на голове, как его дикий родич застывал с
вытаращенными глазами, не осмеливаясь затевать сражения с таким
необыкновенным и непонятным противником, а потом, бросив добычу,
стремительно спасался бегством в своих белых, чересчур широких меховых
панталонах и, отбежав подальше, карабкался на скалу повыше.
Взобравшись туда, дикарь удивленно и испуганно глядел на зверя, который
был по всем внешним признакам таким же медведем, как и он сам, но по своим
ухваткам никак на медведя не походил.
Фрам поднимался на задние лапы, а передними и головой делал дружеские,
миролюбивые знаки. Его урчание говорило при этом:
-- Ну же, подходи, что ли! Это твоя добыча. Твое право... Я приглашаю
тебя на твой собственный пир!.. Что за черт! Видно, все вы родные братья
тому Пустоголовому, который удрал с острова. Прошу к столу! Жаль только, что
у меня нет бутылки пива на льду, чтобы угостить тебя, как я угощал глупого
Августина в цирке Струцкого...
Но все проявления дружбы встречали отпор.
Медведи прятались за скалы или удирали, путаясь в своих белых
шароварах.
Фрам понял наконец, что он на долгое время обречен на полное
одиночество.
Какая-то злая, необъяснимая тайна препятствовала его дружбе с дикими
медведями Заполярья.
Они чувствовали в нем чужака, пришельца из другого мира.
Он был незваным гостем.
Зачем он здесь, что ему надо?
Он не принимал жизнь всерьез. Так, по крайней мере, казалось. Вздорный,
несерьезный медведь.
Он появлялся из-за скалы в самый разгар пира. Хозяин ворча поднимал
морду, скалился, готовясь броситься в бой. Потом, увидев прыжки через
голову, сальто-мортале, шутовское военное приветствие и вальс, начинал
пятиться на четвереньках и пускался наутек, оставляя Фраму добычу, а Фрам
принимался ее уписывать.
Не теряя надежды встретить кого-нибудь более толкового, кто мог бы
стать ему товарищем, он перекочевывал с одного острова на другой по ледяному
мосту или на плавучих льдинах. Но повсюду было одно и то же, повсюду его
встречали враждебным ворчанием и обнаженными клыками.
Света в Заполярье становилось все меньше. Громадное красное солнце
клонилось к западу.
Приближалась полярная ночь, которая длится несколько месяцев.
Фрам построил себе на берегу океана зимнюю берлогу.
В мутных, сизых сумерках океан затянулся толстой ледяной корой. Уже не
видно было зеленых разводий. Сколько хватал глаз вокруг расстилалось белое,
стеклянистое ледяное поле без конца и без края. Белые птицы улетели в теплые
страны. Полярные крачки, серебристые и сизые чайки, нырки и другие птицы
сбивались в станицы и спешили на юг.
Небо опустело.
Потом солнце опустилось за линию горизонта.
Некоторое время край неба еще розовел на западе. Но розовая полоска
становилась все уже, все бледнее, потом все погрузилось в кромешную тьму.
Завыла северная пурга, понесла, закрутила снег, наметая сугробы. Ледяные
поля трещали и лопались с пушечным грохотом.
Полярная зима и полярная ночь завладели белой пустыней и замерзшими
водами.
Кто бы подумал, что где-то далеко есть теплые, ярко освещенные города,
где гремят трамваи и снует на бульварах оживленная толпа? Кто бы подумал,
что ветер там все еще треплет старую, отклеившуюся от стены цирковую афишу,
на которой изображен Фрам, белый медведь? Или что некий курносый мальчуган,
опершись на стол затекшими локтями, не отрываясь читает в этот поздний час
книжку о полярных экспедициях?
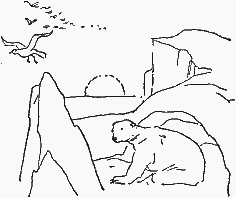 * * *
* * *
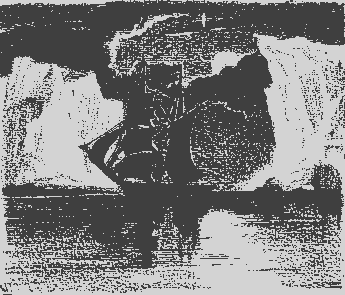 ХII. ДРУЗЬЯ ФРАМА В ДАЛЕКИХ ГОРОДАХ НЕ ЗАБЫЛИ ЕГО
Да, где-то далеко, в своем родном городе, Петруш, курносый мальчик с
сияющими глазами, не забыл Фрама.
Он тоже слышал, что директор цирка отослал ученого белого медведя
обратно, в страну вечных льдов, на родину. И теперь из города, где ветер еще
не сорвал со стен все цирковые афиши, Петруш мысленно следит за Фрамом. Ему
помогает воображение.
Вероятно, ученого белого медведя помнят и другие дети, из бесчисленных
городов и городков, где побывал цирк Струцкого со своим Ноевым ковчегом,
населенным слонами, тиграми, львами, змеями и обезьянами. Может быть, ребята
до сих пор рассказывают друг другу о смешных выходках Фрама. Может,
какой-нибудь шалун и теперь еще подражает ему, изображая, как белый медведь
играет на гармонике или как он приглашает на арену охотников помериться с
ним силами в честной борьбе.
Но Петруш не ограничивается веселыми воспоминаниями. Воспоминания для
него -- не только повод для смеха и шалостей.
Из любви к Фраму он принялся всерьез читать разные книжки о белых
медведях и полярных экспедициях.
Кончив одну книжку, он принимался за другую, потом перечитывал их
заново.
А на следующий день с воодушевлением рассказывал приятелям о
прочитанных приключениях.
Белокурая голубоглазая девочка, внучка бывшего учителя, исполнила свое
обещание поговорить с дедушкой. Она начала издалека, прибегая к маленьким,
невинным хитростям:
-- Дедушка, помнишь того мальчика, который стоял рядом с нами не
прощальном представлении в цирке?
-- Помню. А что?
-- Ужасно он тогда расстроился из-за Фрама!..
-- Мне тоже было жалко медведя... Дальше?
-- Так вот про этого мальчика...
-- Что такое?
-- Ему страшно хотелось бы почитать рассказы о белых медведях и о
путешествиях на полюсы...
-- Очень похвально. Я заметил, что у него умные глаза.
-- Верно, дедушка, он умный. Но у него нет книг!
Дед прикинулся удивленным и улыбнулся в седые усы: он с первых же слов
внучки догадался, что у нее была своя цель, когда она завела этот разговор.
-- Как так, нет книг? И откуда, спрашивается, тебе известно, что у него
нет книг?
-- Он сам мне сказал, когда мы с ним вместе разглядывали старую афишу
цирка, на которой нарисован Фрам. "Бедный Фрам! -- говорил тогда этот
мальчик. -- Где-то он теперь?!.." А потом сказал, что у него совсем нет
книг, и я обещала попросить у тебя. Это плохо?
-- Нет, ты поступила хорошо. Очень хорошо!.. А как зовут мальчика, ты
знаешь?
-- Петруш!
-- А дальше?
-- Просто Петруш! Дальше он не сказал.
-- А знаешь ли ты, по крайней мере, где он живет?
-- Нет, я и этого не знаю... Зачем мне знать?
-- Чтобы дать ему ответ -- сообщить, когда прийти за книгами.
-- Он сам придет. Я ему сказала зайти завтра, после обеда. Это плохо ?
-- Нет, хорошо. Очень хорошо, хитрюга! Удивляюсь, зачем ты меня еще
спрашиваешь?
-- Я боялась, что ты рассердишься, дедушка!
-- Разве я когда-нибудь сердился, когда меня просили одолжить книгу?
И действительно, к старому учителю многие приходили за книгами. На этот
раз он даже обрадовался: ведь речь шла об умном мальчике, которому хотелось
узнать про жизнь белых медведей и приключения полярных исследователей.
Петруш явился на следующий день, как было условлено. И старый
учитель-пенсионер, поговорив с ним немного, пригласил его следовать за
собой:
-- Ну, идем наверх, в библиотеку. Выберем вместе, что тебе придется по
вкусу.
Так Петруш получил, для начала, две книги о белых медведях и о полярных
экспедициях. Читая их, он стал "специалистом", как называл его полушутя,
полусерьезно Михай Стойкан, когда по вечерам видел сына уткнувшимся в книгу.
-- Как, Петруш, добрался до полюса или еще нет? -- дразнил он
мальчугана.
-- Нет, папа, и, наверно, еще нескоро доберусь. Я еще только дневник
Нансена читаю...
-- Ну хорошо, расскажи и мне что-нибудь из прочитанного, господин
специалист! -- часто просил его отец.
Петруш не заставлял его повторять просьбу. Он только и ждал, когда его
попросят рассказывать.
И в самом деле, после всего прочитанного он был полон увлекательных
историй и не раз уже говорил дома о твердо принятом решении добраться
когда-нибудь до страны вечных льдов.
-- А не пора ли тебе спать, Петруш? -- спрашивала мать.
-- Еще минуточку, мама! Вот только кончу главу.
-- Смотри не забудь потушить свет!
-- Не беспокойся, мама, потушу...
Покончив с заданными на следующий день уроками, Петруш иногда сидит
допоздна, упершись в стол затекшими локтями, и читает при свете лампы
историю полярных путешествий с самых древних времен. Он тогда совершенно
забывает об играх, о других книгах и даже о стакане чая, который ждет его на
печке. Все вокруг словно отдаляется от него и исчезает за горизонтом, как те
льдины, что скользят по зеленым водам студеных морей.
Он не слышит ни ветра, ни дождя, который стучится в окно. Не слышит ни
сонного лая Лэбуша, который стережет двор, ни стука колес по мостовой, когда
по улице проезжает запоздалый извозчик.
Все его мысли, вся его фантазия -- за стенами дома, за чертой города,
за границами страны, по ту сторону гор и морей.
Он мысленно путешествует с полярными экспедициями среди вечных льдов.
Дрожит от холода вместе с героями этих подвигов. Голодает с ними, бредет с
ними в пургу по сугробам и торосам, слепнет от снежной пыли. Он плачет
вместе с ними над ледяной могилой товарища, сраженного усталостью, морозом и
цынгой. И вместе с ними исторгает из груди радостный крик, когда, преодолев
все трудности, экспедиция наконец добирается до неведомого берега и ставит
флаг на вершине скалы или посреди ледяного поля, куда еще не ступала нога
человека.
Над его столом к стене прибиты рядом две карты.
Он сам увеличил их, найдя в атласе интересовавшие его места.
Одна карта изображает Северный Ледовитый океан со всеми тамошними
морями, берегами материков и островами. Другая -- Антарктику.
На этих картах можно прочесть мудреные названия рек, островов, морей,
заливов и проливов: Обь, Енисей, Лена, Новая Земля, Карское море,
Шпицберген, Гренландия, архипелаг Норденшельда, море Баффина, Берингов
пролив, Гудзонов залив и т. д. А на другой карте -- море Росса, пролив
Дрейка, остров Шарко, мыс Горна... В центре одной карты написано Северный
полюс (6 апреля 1909), другой -- Южный полюс (14 декабря 1911).
Что могли сказать эти карты с их знаками и названиями другим детям? Они
только подняли бы брови и пожали плечами: слишком уж далекие места, слишком
уж чуждо звучат их названия!
Но Петрушу они рассказывают о подвигах первооткрывателей, полных
страданий, воодушевления и величия, о победе человеческой воли в борьбе с
враждебной стихией, ледяными пустынями, неизвестностью, холодом и голодом,
штормами и лютыми вьюгами.
Теперь он знает о "Фраме", другом Фраме, знаменитом судне, на котором
Нансен пересек Северный Ледовитый океан и его моря и на котором впоследствии
отправился открывать Южный полюс Руаль Амундсен.
Ни одно место, ни одно название на этих двух картах больше не тайна для
него.
Сначала он прочел об этих открытиях в кратком изложении. А через год
старый учитель дал ему несколько толстых томов с дневниками самого Нансена,
а затем и Амундсена, которые писались либо в каюте "Фрама", либо в ледяных
хижинах, среди льдов, при сорокаградусном морозе.
Кругом тихо. Даже ветер стих на дворе. Все спят. Ночную тишину нарушает
лишь чуть слышный стрекот сверчка.
Петруш, подперев ладонью лоб, читает дневник Нансена, и воображение
уносит его далеко-далеко, за много тысяч километров от его города, в
полярные пустыни:
5 декабря 1893. Сегодня самая низкая температура: -- 35,7╟ С. Мы
находимся на 78╟50' северной широты, на 6 миль севернее, чем 2 числа сего
месяца.
После обеда величественное северное сияние: небо освещено огненной
дугой, перекинутой с востока на запад. Но позже погода портится: видна лишь
одна звезда -- звезда родины. Как я люблю эту светящуюся точечку! Всякий
раз, поднимаясь на палубу, я ищу глазами эту звезду, и всегда вижу ее
безмятежно сияющей на том же месте. Она представляется мне нашей
покровительницей.
8 декабря... С 7 до 8 утра новый натиск льда на борта нашего корабля.
После обеда я рисовал в каюте и вдруг прямо над головой почувствовал
яростный толчок. Вслед за этим послышался ужасный грохот, словно огромные
массы льда обрушились со снастей на палубу. В одно мгновение все вскочили...
Треск прекратился, следовательно, повреждений "Фрам" не получил. Однако
здорово холодно, так что лучше всего вернуться в каюту.
В 6 часов -- новое сжатие. Оно продолжается двадцать минут. За стенкой
кормовой части корабля поднялась такая возня и грохот, что невозможно было
разговаривать обычным голосом, приходилось кричать во всю глотку. Во время
этого дьявольского шума, от которого чуть не лопались барабанные перепонки,
орган играл мелодию Кьерульфа "Сном забыться не мог я, мешал соловей".
13 декабря... С вечера собаки яростно лают, ни на минуту не смолкая.
Несколько раз караульные ходили осматривать окрестности. Но узнать причину
беспокойства собак так и не удалось.
Утром обнаруживается исчезновение трех собак. После обеда Мугета и
Педер отправляются обследовать снег вокруг корабля, надеясь найти следы
беглецов.
-- Вы бы ружье захватили! -- кричит им Якобсен.
-- Обойдемся и так! -- отвечает Педер.
Сразу под трапом видны медвежьи следы и пятна крови. Несмотря на это,
наши неунывающие товарищи смело шагают по льду в кромешной тьме, имея при
себе лишь фонарь. Вся стая собак их сопровождает.
Они отошли всего на несколько сот шагов, когда из темноты вдруг
появился громадный медведь, при виде которого наши люди галопом бросились к
судну.
Мугета, обутый в легкие башмаки, бежал быстро. Но Педер в своих тяжелых
сапогах на деревянной подошве подвигался с большим трудом.
Он напрасно спешил: тьма такая, что корабля все равно не видно. Бедняга
так растерялся, что, спасаясь от медведя, сбился с дороги. К счастью,
медведь его не преследует, так что волноваться как будто нечего.
Еще пара шагов, и Педер, поскользнувшись, растягивается среди торосов.
Наконец он на гладком льду, которым окружен корабль. Еще несколько
шагов - и он спасен.
Но в эту минуту совсем близко от него что-то двинулось. Педер подумал,
что это собака. Но не успел он сообразить, что происходит, как на него
набрасывается медведь и кусает его. Педер замахивается фонарем и с такой
силой ударяет зверя по морде, что стекло со звоном разбивается на тысячу
осколков.
Медведь в страхе отступает. Воспользовавшись этим, Педер успевает
вскарабкаться на палубу.
Узнав об этом нападении, мы вскакиваем и хватаем ружья. Через несколько
минут медведь лежит мертвый.
Отправляемся на поиски недостающих собак и вскоре находим их
растерзанные трупы. Как видно, медведь незаметно взобрался по трапу на борт,
сцапал первых попавшихся псов и преспокойно спустился на лед.
Счастье, что Квик принесла как раз сегодня двенадцать щенят. Это будет
драгоценным резервом для нашей стаи, сократившейся теперь до двадцати шести
собак...
Петруш переворачивает страницу за страницей. По датам дневника Нансена
видно, что после этого происшествия прошло больше года. Взяв с собой только
одного из своих спутников, Иогансена, Нансен покинул стиснутое льдами судно,
и они отправились по льду с собаками и нартами разыскивать Северный полюс.
Провизии становилось все меньше. Обтянутые моржовой шкурой лодки,
построенные по образцу эскимосских и называемые каяками, постоянно портились
и нуждались в починке.
Но оба мужественно шли вперед. Нансен вел ежедневные записи в своей
тетради:
14 июня 1895. Прошло уже три месяце, как мы покинули наше судно "Фрам",
-- ровно четверть года. С тех пор мы бродим по ледяному полю. Когда же
наконец кончатся наши испытания? Никто не знает...
15 июня... Положение становится отчаянным. Двигаться вперед по мокрому
снегу и льду, полному препятствий, немыслимо. Придется, пожалуй,
пожертвовать последними собаками, чтобы питаться их мясом, потом тащить
нарты самим.
19 июня... После ужина, такого же скудного, как и обед, -- 54 грамма
клейковинного хлеба и 27 граммов масла, -- мы ложимся: сон, как известно,
заменяет обед! Задача теперь состоит в том, чтобы как можно дольше продлить
нашу жизнь, обходясь без еды. Положение ухудшается: никакой дичи, провизия
кончилась.
Всю ночь в ломаю себе голову, стараясь найти выход из нашего положения.
Не сомневаюсь, что спасение придет!..
20 июня... После нескольких часов ходьбы нам преграждает путь большое
разводье. Чтобы переправиться на ту сторону, нужно использовать каяки,
другого выхода нет.
Спускаем каяки на воду, соединяем их при помощи лыж и ставим на этот
помост нарты со всем грузом.
Потом помогаем влезть на него собакам, сколько их у нас еще осталось.
Во время этих приготовлений замечаем плавающего вокруг нас тюленя.
Вскидываю ружье и жду, когда он повернется удобнее для выстрела. Происходит
то же, что с птицей в известной басне: я приготовился стрелять, а добычу
поминай как звали!
Наконец пускаемся в плавание.
7 июля... Теперь у нас осталось всего две собаки. Как только горизонт
на юге светлеет, торопимся перебраться с плавучего острова, до которого мы
доплыли, на высокую, как сторожевая башня, ледяную гору, в непокидающей нас
надежде увидеть сушу. Но куда ни глянь, везде те же белые дали!..
10 июля... Я становлюсь безразличным ко всему на свете. Мы ждем лишь
одного: когда взломается лед. Но лед стоит. Что мне писать в дневнике?
Никаких перемен...
Во время обеда один из псов, Кайяс, начинает лаять. Первое, что я вижу,
высунув голову из палатки, -- медведь...
Хватаю ружье, медведь недоуменно смотрит на меня, и я всаживаю ему пулю
в лоб. Он шатается и, несмотря на смертельную рану, все же кое-как удирает.
Пока я нахожу другой патрон в моем кармане, полном всякой всячины,
зверь успевает добраться до торосов. Раздумывать некогда... Нельзя упускать
добычу, которая сулит нам пищу и спасение. Пускаюсь за медведем бегом. В
нескольких шагах два хорошеньких медвежонка озабоченно ждут на задних лапах
возвращения матери. Значит, мой подранок -- медведица!
При моем появлении все семейство пускается наутек. Начинается
сумасшедшая погоня. Нас не останавливают никакие препятствия, ни торосы, ни
трещины. Мы карабкаемся на волнистые гребни, перепрыгиваем трещины или
перебираемся через них по ледяным мостам... Хотя тяжело раненная медведица
едва волочит ноги, мы настигаем ее с трудом. Я едва за ней поспеваю.
Медвежата трогательно кружат вокруг матери, то и дело забегают вперед,
словно желая показать ей, куда бежать, и ободрить ее...
2 августа... Нашим бедам не предвидится конца. Едва преодолев одну,
попадаем в другую.
4 августа... После ужасающей дороги подходим к разводью. Мы собираемся
переправиться через него на каяке и очищаем кромку от снега. Поставив нарты
на каяк, я держу их, чтоб они не соскользнули. Вдруг слышу у себя за спиной
тяжелое дыхание.
-- Бери скорей ружье! -- кричит Иогансен, который ходил за своими
нартами.
Поворачиваюсь на месте и что вижу? Громадный медведь повалил Иогансена,
который обороняется с большим трудом. Хочу достать ружье, лежавшее в чехле,
в передней части моего челна, но каяк ускользает от меня в воду. Первая
мысль -- прыгнуть в каяк и застрелить медведя оттуда. Но я тут же отдаю себе
отчет в том, как мне трудно будет взять его на прицел. Быстро вытаскиваю
каяк на берег, чтобы достать ружье. Думая только об этом, не имею времени
оглядеться кругом.
-- Торопись, если хочешь поспеть! И, главное, получше целься!.. --
кричит бедный Иогансен.
Наконец ружье у меня в руках. Медведь от меня в двух метрах, он вот-вот
растерзает Кайфаса. Целюсь тщательно, как просил Иогансен, и посылаю зверю
пулю за ухо.
Громадина падает замертво.
31 декабря... Вот и кончился этот необычный год. В общем, он не был
таким уж плохим.
Там, на родине, веселый перезвон колоколов возвещает конец старого
года. Здесь не слышно ничего, кроме завывания ветра на льду.
Облака снега ошалело катятся по торосам и ледяной глади, а сквозь белую
пелену скользит полная луна, которой нет дела до бега времени. Она безмолвно
следует по своему пути, равнодушная к человеческим страданиям.
Мы затеряны в жуткой ледяной пустыне, за тысячи километров от дорогих
нам существ, и наши мысли то и дело возвращаются к любимому, родному краю.
Одна страница вечности дописана, открывается другая. Что в ней будет?
1 января 1896. Термометр показывает 41,5╟ ниже нуля. Лютый мороз.
Никогда еще этой зимой не было такого холода. Я полностью ощутил это
особенно вчера, когда у меня замерзли кончики всех пальцев.
8 января... Ужасающая пурга... Стоит высунуть голову из нашей ледяной
хижины, как бешеный ветер норовит подхватить тебя и закинуть бог весть
куда... У нас жестоко мерзнут ноги. Мы часами колотим их одну о другую, но
согреть никак не можем.
Нет, мне никогда не забыть этих страшных ночей! И среди всех страданий
мысль все время улетает на родину, к своим!
А время бежит... Лив, моей девочке, исполняется сегодня три года. Уже
большая, наверно. Бедный ребенок! Нет, Лив, ты не потеряешь отца! Надеюсь,
что твой будущий день рождения мы проведем вместе. Я буду рассказывать тебе
о медведях, о моржах, о песцах, о всех диковинных зверях, которые обитают в
этих нехоженых местах.
1 февраля... Любопытную жизнь ведем мы в этой ледяной берлоге среди
полярной ночи! Хотя бы почитать какую-нибудь книжку!.. Лоции и календарь я
перечел столько раз, что знаю их наизусть. Но как бы то ни было, один вид
печатного слова для нас утешение: тонкая ниточка, которая соединяет нас с
цивилизацией.
16 мая... Опять медведи. Медведица с медвежонком. Убивать этих животных
нет смысла, потому что у нас еще достаточно запасов от прежней охоты. Но мы
считаем, что не мешает приблизиться и понаблюдать за ними, а в то же время и
дать им острастку, чтоб они не тревожили нас ночью.
При нашем появлении медведица принимается рычать, но сейчас же отходит,
мордой подталкивая перед собой медвежонка. Иногда она останавливается и
оборачивается посмотреть, что мы делаем.
Дойдя до берега, семейство отправляется дальше, пробираясь между льдин;
мать впереди, прокладывая путь детенышу. Тем временем я почти догоняю их,
так что нас теперь разделяет всего несколько шагов.
Медведица тотчас поворачивается и весьма угрожающе двигается на меня.
Она подходит совсем близко, устрашающе рычит, но не двигается с места, пока
не убеждается, что медвежонок немного отдалился. Тогда, сделав несколько
больших шагов, я быстро догоняю его.
Медведица повторяет маневр, чтобы защитить детеныша и прикрыть его
отступление. Ясно, что ей очень хочется броситься и растерзать меня в
клочки. Но прежде всего ее заботит безопасность медвежонка. Она отходит лишь
тогда, когда он опять отдаляется на некоторое расстояние. Добрались до
ледника, мать опережает детеныша, чтобы показывать ему дорогу. Быстро идти
по снегу малыш не может. Медведица толкает его, следя за каждым моим шагом,
за каждым движением.
Такая материнская любовь действительно трогательна...
Петруш отрывается от книги и смотрит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана, пытаясь отыскать на ней то место, где находился
Нансен, когда писал эти строки в своем дневнике.
Уже поздно. Но мальчик не чувствует усталости. Его не клонит ко сну.
Дневник Нансена близится к концу. Он хорошо знаком Петрушу, который уже раз
прочел его. И все же он ни за что не ляжет, пока не пробежит глазами
последних страниц.
Так же, как Нансена, когда он писал свой дневник, вдохновляли
переживаемые им перипетии, так вдохновляют они теперь и его маленького
читателя. Умом и сердцем он участвует в них, они доказывают ему, что
человеческое упорство и воля сильнее враждебных стихий.
Ни холод, ни пурга, ни голод не могут одолеть человека.
Победа остается за ним. Достаточно быть готовым к борьбе, трезво
мыслить и никогда не терять ни хладнокровия, ни веры в свои силы.
Петруш снова склонился над книгой, он дочитывает последние страницы
дневника Нансена.
12 июня... Выходим в четыре утра, подняв парус на нартах. За ночь мороз
скрепил снег. Подгоняемые попутным ветром, мы надеемся двигаться легко и
быстро, как на парусной лодке...
Хмурая окраска неба на юге доказывает, что вода там свободна от льда. И
в самом деле, мы слышим, к нашей радости, рев яростных волн. В шесть часов
останавливаемся.
Мы снова перед свободным, ожившим, одухотворяющим морем. Какая радость
слышать его знакомый рев после того, как мы так долго видели его скованным
тяжелым стеклянистым панцирем!
Каяки спущены на воду; примкнуты борт к борту; паруса подняты... Теперь
вперед!..
Под вечер мы высаживаемся на кромке берегового льда, чтобы размять
ноги, затекшие после долгого путешествия в каяке.
Разгуливаем взад и вперед возле каяков. Морской ветер спал; кажется, он
все более заворачивает к западу. Интересно, сможем ли мы продолжать плавание
при таком ветре? Чтобы удостовериться в этом, залезаем на ближайший торос...
Вглядываюсь в горизонт.
-- Каяки унесло!.. -- кричит Иогансен.
Бежим со всех ног к берегу. Каяки уже далеко, их быстро уносит в
открытое море: веревка, которой они были привязаны, порвалась.
-- Держи часы!.. -- говорю я Иогансену.
И мигом скидываю одежду, которая помешает мне плыть. Но раздеться
совсем не решаюсь -- боюсь судороги. Прыжок -- и я в воде!
Ветер дует с суши и быстро гонит каяки в открытое море. Вода ледяная,
одежда стесняет движения, а каяки все более отдаляются.
Я не только не догоняю их, а наоборот, отстаю. Поймать их мне
представляется почти невозможным.
Но они уносят с собой последнюю надежду на спасение и все, что мы
имеем. У нас не осталось даже ножа. Утону ли я или вернусь на берег без
каяков -- результат будет тот же: неминуемая гибель для обоих.
Я упорствую и делаю отчаянное усилие. Только такой ценой мы еще можем
спастись. Когда устаю, ложусь на спину. В этом положении мне виден Иогансен,
который нетерпеливо топчется на льду. Бедняге не стоится на месте: положение
его действительно ужасно, потому что, с одной стороны, он лишен возможности
прийти мне на помощь, а с другой -- у него нет ни малейшей надежды на успех
моих усилий. Броситься в воду за мной не имело никакого смысла. Позже он
говорил мне, что это ожидание было самым мучительным моментом в его жизни.
Снова плывя на груди, я увидел, что каяки от меня недалеко. Это придало
мне сил, и я еще отчаяннее заработал руками и ногами. Ноги, однако, начали
неметь: скоро я больше не смогу ими двигать...
Между тем расстояние все уменьшалось. Если я выдержу еще несколько
мгновений, мы спасены. Итак, вперед!.. Я все больше приближаюсь к каякам.
Еще одно усилие, и я буду в одном из них!
Наконец-то! Хватаюсь за лыжу, которая лежит в задней части каяков, и
подтягиваюсь к ним. Мы спасены! Пытаюсь взобраться в каяк, но окоченевшее
тело отказывается мне служить. Одно мгновение мне кажется, что все напрасно:
я достиг цели, но она не дается мне в руки.
После этой страшной минуты сомнения мне все же удается занести ногу на
нарты и вскарабкаться на них. Пользуюсь этой точкой опоры и сразу берусь за
весло. Но тело мое так онемело, что я еле двигаюсь.
Нелегко мне было грести одному в двух каяках. Приходилось все время
поворачиваться, делая гребок то направо, то налево. Конечно, если бы мне
удалось разъединить каяки и грести только в одном, взяв другой на буксир,
дело пошло бы куда легче. Однако в том состоянии, в котором я находился,
такой маневр был невозможен: мороз сковал бы меня прежде, чем я успел бы это
проделать. Лучшим средством согревания оставалась энергичная гребля.
Но я весь закоченел. Когда ветер дул с моря, мне казалось, что меня
пронизывают тысячи копий. Мороз пробрал меня окончательно: я стучал зубами,
дрожал всем телом, но решил не сдаваться -- изо всех сил работать веслами. И
мне это удалось!
Вдруг я увидел перед собой двух кайр. Соблазн был чересчур велик: я
схватил ружье и одним выстрелом убил обеих птиц.
Иогансен рассказывал мне потом, как он перепугался, когда услышал этот
выстрел: думал, что случилось несчастье и никак не мог понять, что я делаю.
А когда увидел, что я гребу и показываю ему добычу, решил, что я, наверно,
сошел с ума.
Наконец я добрался до берега, но меня отнесло течением далеко от того
места, где я бросился в воду. Иогансен прибежал по кромке льда мне
навстречу.
Я вконец обессилел. Тащусь, еле держась на ногах и лязгая зубами.
Иогансен раздевает меня, укладывает и накрывает всем, что только может
найти. Меня продолжает трясти. Пока он ставил палатку и жарил кайр, я
заснул. Когда проснулся, обед был готов. Упоительно горячий суп и чудесное
жаркое стерли последние следы этого ужасного приключения, словно его вовсе и
не бывало...
15 июня... Отправляемся дальше в час ночи. Погода тишайшая. Море кишит
моржами...
Быстро подвигаемся вдоль берега. К несчастью, густой туман скрывает все
и мешает разбираться в топографии... Прямо перед нами показывается морж.
Иогансен, который гребет впереди на своем каяке, ищет укрытия за плавучей
льдиной.
Пока я собираюсь последовать его примеру, морское чудовище бросается на
мой каяк, стараясь опрокинуть его клыками. Сильный удар веслом по голове
заставляет его повернуться. Однако он тут же повторяет атаку. Тогда я
хватаюсь за ружье, но морж исчезает.
Но как раз когда я радовался избавлению от опасности, почувствовал, что
мои ноги в воде. Оказывается, морж продырявил клыками дно каяка, который
быстро наполняется водой. Едва успеваю выскочить на плавучий ледяной утес:
каяк опрокидывается. Все же мне удается с помощью Иогансена вытянуть его на
льдину.
Все мое имущество теперь плавает в каяке, наполненном водой. Боюсь, как
бы не погибли наши драгоценные фотографические пластинки.
Длина пробоины -- 15 сантиметров. Такая починка не шутка, особенно с
тем скромным набором инструментов, которым мы располагаем.
17 июня... Было далеко за полдень, когда я проснулся и принялся за
приготовление завтрака. Приношу воду для супа, развожу огонь, режу мясо,
словом, налаживаю стряпню.
Затем вылезаю на ближайший торос и оглядываю окрестности.
Ветерок доносит с ближайшей суши гомон птиц, которые гнездятся в
скалах. Слушаю этот звук, следя глазами за стаями кайр, которые кружат над
моей головой; любуюсь белой полоской берега с черными пятнами скал.
Внезапно оттуда доносится собачий лай. Или мне показалось? Вздрагиваю и
прислушиваюсь. Но ничего больше не слышно, кроме горластых птиц. Впрочем,
нет: опять лай! Сомнений быть не может!
Тут я вспоминаю, что слышал вчера что-то похожее на два ружейных
выстрела, но приписал этот звук сжатию льда.
Кричу Иогансену, что в этой части суши слышны собаки.
-- Собаки? -- машинально повторяет он спросонья. -- Собаки?! Он сейчас
же встает и идет в разведку.
Мой спутник ни за что не желает мне верить. Он тоже слышал что-то вроде
собачьего лая, но гомон птичьего базара заглушал все. По его мнению, меня
просто обманул слух. Я, однако, уверен, что не ошибся.
За торопливым завтраком мы теряемся в догадках. Может быть, в этих
местах находится какая-нибудь экспедиция? Если так, то кто это? Англичане
или соотечественники? Что, если это та самая английская экспедиция, которая
собиралась обследовать Землю Франца-Иосифа, когда мы отправлялись в
плавание? Как нам тогда быть?
-- Очень просто! -- говорит Иогансен. -- Мы проведем с ними денек-
другой, а потом направимся к Шпицбергену. Иначе бог весть, когда мы попадем
домой!..
В этом отношении я с ним совершенно согласен. Займем у англичан
провизии, в которой мы так нуждаемся, и отправимся дальше.
Покончив с завтраком, я ухожу на рекогносцировку, а Иогансена оставляю
сторожить каяки.
Теперь я слышу только гомон птичьего базара и пронзительные крики кайр.
Возможно, что Иогансен прав. Пожалуй, я и в самом деле ошибся.
Вдруг я замечаю на снегу следы. Они слишком велики для песца. Значит,
здесь, в каких-нибудь ста метрах от нашего стана, прошли собаки. Почему же
они не лаяли? Как это мы их не видели? А может, это все-таки следы песцов?..
В голове у меня странная путаница. Я перехожу от сомнения к
уверенности, потом снова начинаю сомневаться. Неужели же сейчас настанет
конец нашим сверхчеловеческим трудам, всем нашим страданиям и лишениям? Мне
это кажется почти невероятным. И все же, быть может, это именно так.
Слышу лай, теперь уже гораздо более отчетливый, и повсюду вокруг вижу
следы, которые могут быть только собачьими. Потом опять ничего, кроме гама
крылатых стай. И меня вновь одолевает сомнение. Уж не сон ли все это?
Но нет! Это настоящие следы на настоящем снегу. Я вижу их своими
глазами, касаюсь руками...
Если действительно экспедиция обосновалась в этих местах, куда мы
добрались вчера, значит, мы находимся не на Земле Гиллиса или на
какой-нибудь новой суше, как я думал, а на южном побережье Земли
Франца-Иосифа, как мы и предполагали несколько дней тому назад.
Перебираюсь наконец со льда на сушу, и вдруг мне кажется, что я слышу
человеческий голос.
Первый, после трех лет, чужой голос! Сердце бьется так сильно, что того
и гляди разорвется.
Залезаю на скалу и кричу изо всех сил. Этот неизвестный голос среди
ледяной пустыни прозвучал для меня, как голос самой жизни, как приветствие
далеких земель, может быть, даже родины.
Вскоре я слышу другой голос, потом среди белых ледяных вершин вижу
черную фигуру. Потом еще одну черную фигуру... Человека. Человек!..
Уж не Джонсон ли это или один из его спутников? А может,
соотечественник? Идем навстречу друг другу. Махаю шапкой. Он тоже. Слышу,
как он разговаривает с собакой. Нет, не норвежец. Еще несколько шагов, и мне
кажется, что я узнаю начальника иностранной экспедиции, с которым уже
встречался однажды, до нашего отплытия.
Я приветствую его, и мы жмем друг другу руки.
Над нами полог тумана, под ногами -- шершавый, неровный лед. Вокруг
тонкая полоска суши, сплошь покрытой льдом и снегом. Идем рядом: щеголеватый
исследователь, который, видно, не отваживался заходить в глубь полной
опасностей полярной пустыни, лощеный господин в высоких резиновых сапогах,
распространяющий вокруг очень приятный запах мыла, к которому весьма
чувствительно острое обоняние такого примитивного человека, как я, и дикарь
в отрепьях, с длинными волосами и дремучей бородой, покрытый грязью и
копотью тюленьего жира, которым заправлена наша лампа. В таком виде сам черт
меня не узнал бы.
-- Очень счастлив вас встретить! -- говорит незнакомец.
-- Спасибо. Я тоже.
-- Ваше судно где-нибудь поблизости?
-- Нет. Оно не здесь.
-- Сколько вас?
-- Я и мой товарищ, который остался на кромке льда. Разговаривая таким
образом, мы направляемся к берегу. Вдруг не знакомец останавливается,
внимательно смотрит на меня и восклицает:
-- А вы, случайно, не Нансен?
-- Он самый.
-- Бог ты мой! Как я рад вас видеть!
Дружески улыбаясь, он горячо жмет мне руки, потом спрашивает:
-- Откуда вы?
-- На 84╟ северной широты, после двухлетнего плавания, я и мой товарищ
покинули наше судно "Фрам" на волю ветра и течения и достигли 86╟13'. Оттуда
мы добрались до Земли Франца-Иосифа, где и зимовали. А теперь направляемся к
Шпицбергену...
-- Рад слышать о вашей удаче. Вы совершили блестящее путешествие, и я в
восторге, что на мою долю выпало счастье первым поздравить вас!
Иностранец снова пожимает мне руку. В теплоте этого рукопожатия я
ощущаю нечто большее, чем простую вежливость. Он предлагает нам
гостеприимство в своем лагере и сообщает мне, что они со дня на день ожидают
судно с провизией для экспедиции. Как только приходит мой черед говорить, я
спрашиваю его о моей семье и узнаю, что когда, два года тому назад, он
отправлялся в плавание, жена моя и дочь были совершенно здоровы. Потом
спрашиваю о Норвегии, моей дорогой родине...
Затем каждый из нас делает по два выстрела, чтобы оповестить Иогансена.
Немного погодя мы встречаемся с целой группой участников экспедиции,
знакомимся, начинаются поздравления. Вскоре происходит встреча и с
остальными ее членами -- учеными разных специальностей, в том числе и
ботаниками. Ботаник Фишер говорит мне, что, увидев издали незнакомого
человека, он сразу подумал, что это мог быть только я, но потом, когда перед
ним предстал мужчина с черными, как смоль, волосами и бородой, решил, что
ошибся. Когда все собрались, начальник экспедиции сообщил, что мы достигли
86╟13'.
Громкое троекратное "ура" приветствовало эту новость...
За разговором мы незаметно дошли до стана экспедиции -- деревянного
дома русского образца.
Входим в это теплое гнездышко, затерянное среди ледяной неприютной
пустыни. Потолок и стены затянуты зеленым сукном, на стенах-- фотографии и
гравюры, этажерки заставлены книгами и приборами. Сушится одежда и обувь.
Посреди топится печка. Необыкновенное ощущение мира и радости охватывает
меня среди всех этих непривычных предметов, от которых мы успели отвыкнуть.
Три года тяжелой ответственности и постоянной тревоги мгновенно спадают с
моих плеч. Впервые чувствую себя в безопасности среди льдов. Мучительное
ожидание, которое было моим уделом в эти годы борьбы, исчезает в лучезарном
сиянии восходящего солнца. Мой долг выполнен, дело завершено.
Теперь мне остается только отдыхать и ждать прибытия парохода, который
доставит меня на родину.
Джэксон передает мне тщательно запечатанную шкатулку. В ней письма из
Норвегии. Он взял их наудачу, с тем чтобы передать мне, если нас сведет
случай. И случай доставил мне эту радость. Открываю шкатулку дрожащими
руками, с отчаянно бьющимся сердцем. Все письма приносят только добрые
вести.
На стол передо мной ставится все, что нужно для обильного завтрака:
хлеб, масло, молоко, сахар, кофе, вкус которых я забыл за полтора с лишним
года.
Но самое ценное благодеяние цивилизации я познал лишь тогда, когда
скинул с себя отрепья и выкупался. Грязи на нас накопилось столько, что мы
избавились от нее только после бесчисленных омовений. А когда мы оделись в
чистое, мягкое платье, побрились и остригли длинные, сбитые в войлок волосы,
превращение из дикарей в цивилизованных людей было завершено. Оно произошло
быстрее, чем наше преображение и приспособление в обратном смысле, которое
совершилось восемнадцать месяцев тому назад, когда мы с Иогансеном оказались
одни среди ледяной пустыни.
Мы живем в мире и уюте, поджидая судно, которое вернет нас на родину.
Вместе с научной экспедицией занимаемся проверкой наблюдений, тщательно
собранных нами за долгое путешествие.
26 июля... Наконец "Виндворд", судно с провизией, прибыло!.. Мы
грузимся, я поднимаюсь на палубу... Узнаем удивительные новости о том, что
произошло на свете за наше отсутствие. При помощи лучей Рентгена можно
фотографировать людей сквозь деревянные двери в несколько сантиметров
толщиной, а также засевшие в теле раненых пули! Шпицберген открыт для
туристов! Норвежское пароходное общество обеспечивает регулярное сообщение
между нашей страной и этим полярным краем. Там построена гостиница и
работает почтовое отделение с особыми марками. Швед Андре задумал добраться
до полюса на воздушном шаре и ждет только попутного ветра. Если бы мы дошли
до Шпицбергена, мы нашли бы там комфортабельную гостиницу и встретили бы
туристов, а не бедных рыбаков, как мы думали. Забавно получилось бы
оказаться в толпе туристов грязными, оборванными, в том виде, в каком мы
вышли из нашего зимнего логова.
7 августа... Настала минута прощания и с этим последним привалом на
нашем пути... "Виндворд" везет нас домой. Путешествие проходит быстро и
приятно.
Вечером 12 августа различаю впереди черную полоску, очень низко, на
линии горизонта. Что это такое? Это земля, земля Норвегии! Гляжу долго,
часами, как завороженный. Большую часть ночи провожу на палубе, любуясь этой
темной полоской. Меня пробирает лихорадочная дрожь: какие вести ждут нас
дома?
21 августа... Бросаем якорь в порту Хаммерфеста, самого северного
города нашей дорогой родины. Со всех концов земного шара проливается целый
поток поздравительных телеграмм. Но о "Фраме" нет никаких известий. Такое
запоздание начинает быть странным и внушает беспокойство.
Утром 26 августа меня будят. Какой-то человек настойчиво желает со мной
говорить.
-- Сию минуту! Только оденусь.
-- Ничего. Выходите так!..
Поспешно одеваюсь и нахожу заведующего почтово-телеграфным отделением с
депешей.
-- Очень важная для вас телеграмма из Скьерве! -- говорит он. --
Поэтому я решил вручить ее вам лично...
В эту минуту я не думаю ни о чем другом на свете, кроме как о "Фраме" и
судьбе моих спутников.
Дрожащими руками вскрываю депешу и читаю: Доктору Нансену
Фрам прибыл сюда сегодня. Все в порядке.
Все здоровы. Сейчас выходим в Тромсе. Приветствуем вас на родине.
Отто Свердруп.
Я так взволнован, что почти теряю дар слова.
-- Прибыл "Фрам"! -- наконец удается мне произнести.
Перечитываю телеграмму несколько раз, не веря своим глазам. В городе,
во всей Норвегии начинается всеобщее ликование.
На следующий день мы в Тромсе, где уже стоит на якоре "Фрам". Последний
раз, что я его видел, наше судно было наполовину погребено во льду. Я
оставил его вместе с нашими спутниками во власти дрейфующих льдов, чтобы
проверить океанские течения, что и составляло главную задачу экспедиции, а
сам отправился с Иогансеном по льду и разводьям, чтобы обследовать другие
пустынные области, где мы с ним и пробродили более полутора лет. Теперь наш
"Фрам" гордо бороздит воды родины. Повсюду его приветствуют криками "ура"!
Садимся на наше дорогое судно и плывем дальше.
Все время на нашем пути народ толпится на набережных, будто сама
Норвегия гордится нами и, как мать, встречая нас с распростертыми объятиями,
благодарит за все понесенные труды. Хотя мы лишь выполнили наш долг, доведя
до конца взятую на себя задачу.
Вот мы и вернулись к жизни, и она открывается перед нами, полная света
и надежд. Вечереет. Солнце садится за синее море и над тихими просторами вод
разливается осенняя грусть. Какая красота!.. Уж не сон ли все это? Нет.
Закатный свет озаряет знакомые, милые силуэты, от них веет миром и верой в
жизнь.
Ледяные пустыни и призрачный лунный свет полярных ночей кажутся теперь
далеким видением иного мира, оставшимся позади сном. Но какова была бы жизнь
без мечты и таких видений?!
Петруш, курносый мальчик с огоньком в глазах, перевернул последнюю
страницу книги.
Закинув голову, он пристально глядит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана. Ему больше не хочется спать. Локти так онемели,
что он их не чувствует.
Как незаметно пролетело время!
Он возбужден, взволнован. Воображение умчало его в страну вечных льдов,
по следам героического корабля "Фрам" и его тезки, белого медведя.
Через далекие от его страны моря и горы таинственно протянулась
невидимая нить, связавшая людей, животных и события, которых, казалось бы,
ничто не могло собрать в одно место и в одно время.
И все же невидимая связь эта осуществилась, оставив глубокий след во
многих жизнях. Старый Ларс, бывший матрос на "Фраме" Нансена, когда-то
окрестил именем судна, на котором плавал в молодости, медвежонка, пойманного
охотниками в вечных льдах. Медвежонок этот стал Фрамом, знаменитым белым
медведем цирка Струцкого. И много лет спустя на прощальном представлении
цирка в городе, куда ему больше никогда не суждено было вернуться, этот
ученый медведь пробудил неутолимый интерес к полярным экспедициям в
мальчугане, который вместе со всеми кричал в тот вечер: "Фрама! Фрама!"
И вот теперь этот курносый мальчуган с неугасимым огоньком в глазах
всем своим существом заново переживает перипетии Нансена. Переживает их
страницу за страницей, как они были записаны в дневнике великого
исследователя много лет тому назад в далекой белой пустыне, среди дрейфующих
льдов.
Петруш страдает вместе с ним, дрожит вместе с ним от холода и томится
от голода; вместе с ним чуть было не утонул в разводье и спасся, чтобы
вместе порадоваться пришедшей в конце концов победе.
Книга закрыта. Петруш глядит на карту. Потом мысль его снова уносится к
Фраму, белому медведю.
-- Где-то он теперь, наш Фрам?.. -- спрашивает себя мальчик,
укладываясь спать. -- Интересно, что он теперь делает в своей ледяной
пустыне?
На следующее утро мысль его работает гораздо бодрее.
Окруженный сверстниками, размахивая руками, он воодушевленно, с важным
видом рассказывает о других белых медведях и о различных происшествиях в
полярных краях. О том, как однажды белый медведь тихонько залез на зажатый
льдами корабль Нансена и уволок трех собак; о том, как Нансен чуть было не
утонул в такой холодной воде, что у него захватывало дух, и как спасся, о
том, как он вернулся на родину и с каким ликованием его встречали.
Зимой вся ребячья орава шумно принялась лепить из снега Фрама, ученого
белого медведя.
-- Стойте! Давайте сделаем ему глаза из угольков! -- кричит один из
приятелей Петруша.
Он бежит, спотыкается, падает на четвереньки и опрокидывает снежного
медведя.
Все хохочут, валят виновника в сугроб, ставят его в наказание вверх
ногами, потом начинают лепить медведя.
Без Петруша, однако, дело не ладится. Медведь едва держится, а если
получше вглядеться, то он вовсе и не похож на медведя: ноги не в меру
длинные, голова слишком велика.
-- Петруш! Петруш! Иди, помоги нам! Ты у нас настоящий мастер!.. Петруш
тут как тут. Он округляет рукой голову и морду Фрама, знает, как надо
вставить глаза -- угольки, чтобы вышло похоже на настоящего белого медведя.
Отступит на шаг-другой, взглянет, покачает головой и что-то поправит
или прибавит.
-- Брр! Ну и морозище! Я совсем замерз... Даже пальцев не чувствую, --
хнычет кто-то из ребят, дуя в кулачки.
-- То же богатырь!.. Трясешься при двух градусах мороза! -- отчитывает
его Петруш. -- А что бы ты сказал на полюсе, при сорока или пятидесяти
градусах?
-- Ничего бы не сказал, потому что мне там нечего делать. Отправляйся
туда сам -- ты ж у нас специалист по полярным экспедициям!
-- А вот и отправлюсь!
-- И вытерпишь мороз в сорок градусов?!
-- Вытерплю! Нансен и другие как терпели? Не видишь, что я даже не
чувствую холода?
И действительно, готовясь к путешествию в полярные льды, Петруш уже
теперь начал себя закалять. По утрам он с ног до головы обтирается снегом.
Никогда больше не кашляет. Никогда не чихает. На знает, что такое простуда,
болезнь.
Это -- здоровый, жизнерадостный мальчик. За последнее время он
вытянулся, и с каждым днем его все больше любят товарищи по играм и
одноклассники. Вырос он и в глазах учительницы: книги о полярных экспедициях
научили его зрело мыслить, принимать быстрые решения, не увиливать от
ответственности и не полагаться на случай.
Когда затевались экскурсии в окрестности города, в лес или на озеро,
его выбирали вожаком и он всегда оказывался на высоте.
Да и дома, в их бедном хозяйстве, в семье, у которой так много
трудностей, старшие братья и сестры уже не считают его раззявой и путаником,
как прежде. Теперь они полагаются на него и даже нередко обращаются к нему
за советом и помощью:
-- А ты, Петруш, как думаешь? Попробуй, может, у тебя лучше получится,
не зря ж ты занимаешься всякой всячиной.
Петруш и в самом деле умеет вязать морские узлы, которых и зубами не
развяжешь. Когда на дворе бушует метель, он так затыкает щели в дверях и
окнах, что в доме совсем не дует; умеет починить и санки, и коньки, и самые
старые лыжи мальчишек со всей улицы. Кроме того, он изобрел "снегоходы",
сплетенные из лозы и веревок, на которых можно ходить, не проваливаясь, и по
мягкому снегу, и по насту.
Но областью, в которой Петруш действительно не знал себе равных, были
рассказы из полярной жизни.
Даже голос его менялся. Весь раскрасневшийся, с еще более блестящими,
чем обычно, глазами, он заставлял других переживать все, что перечувствовал
сам, когда читал о приключениях исследователей.
-- Петруш, ты, мне кажется, прибавил кое-что от себя, -- заметит иногда
недоверчивый слушатель. -- Слишком уж ты приукрасил своих героев.
-- Прибавил от себя? Приукрасил?! -- возмущается Петруш. -- Вот я тебе
книгу принесу! Прочтешь своими глазами!.. И я еще не все рассказал!..
Готовься!..
Случилось как-то, что и сам он, читая, сначала не поверил своим глазам.
Все объяснилось только тогда, когда он прочел книгу от корки до корки.
Однажды учитель-пенсионер встретил его на улице. Петруш поздоровался и
хотел уже пройти дальше, но тот остановил его:
-- Погоди, Петруш, -- сказал дедушка белокурой Лилики. -- Почему ты
больше к нам не заходишь?
-- Боялся вас беспокоить. Я же перечитал все книги о белых медведях и
полярных экспедициях в вашей библиотеке...
Учитель улыбнулся и шутливо погрозил ему пальцем:
-- Очень мило! Значит, ты только из-за книг и приходил? А когда книги
кончились, нас забыл!
Петруш замялся.
-- Боялся вам надоесть... -- смущенно пробормотал он.
-- Час от часу не легче! -- все с той же доброй улыбкой продолжал
журить его старик. -- Разве я когда-нибудь давал тебе понять, что ты надоел?
Наоборот, мне всегда было приятно обсуждать с тобой прочитанные книги.
Не найдя ответа, мальчик опустил глаза. Отвечать ему было нечего.
Петруш чувствовал себя виноватым и действительно не знал, как это
получилось, что он вот уже целый месяц не заходил к старому учителю и его
светлокудрой внучке.
-- Не расстраивайся, Петруш, я на тебя не сержусь. А вот Лилика
действительно обижена. Но мы это уладим. Жаль только, что ты упустил случай
прочесть новую книжку.
-- Новую книжку? -- воодушевился Петруш.
-- Да! Новую книжку...
-- О белых медведях и полярных экспедициях?
-- Да, о белых медведях и полярных экспедициях. Только на этот раз
книжка гораздо более интересная, чем те, которые ты прочел до сих пор. Речь
в ней идет о знаменитых русских исследователях, которые первыми изучили
бескрайние просторы далекого Севера.
-- И эта книга еще у вас? -- взволнованно спросил Петруш, сгорая от
нетерпения. -- Вы ее еще никому не одолжили?
-- Любителей нашлось немало. Но я ее не отдал...
-- А мне дадите?
-- По справедливости, я должен был бы сначала дать ее тем, кто просил
до тебя, Петруш! -- ответил старый учитель. -- Но ты уже сам себя наказал:
вместо того чтобы прочесть ее на две недели раньше, ты начнешь ее только
завтра!
-- Сегодня! Я прочту ее сегодня! -- выпалил нетерпеливый Петруш.
-- Хорошо, Петруш. Если так, проводи меня домой и получай книгу.
-- Я прочту ее сегодня же вечером, а завтра верну,-- пообещал Петруш.
-- Не торопись с обещаниями! -- наставительно сказал бывший учитель. --
Я вовсе не требую от тебя такой спешки. Эту книгу нужно читать обстоятельно.
В самом деле, книга, которую получил на этот раз Петруш, была непохожа
на прежние. И, конечно, за один вечер он ее не одолел.
Сперва он читал ее без передышки три дня кряду после обеда.
Потом перечитывал ее, уже не торопясь, целую неделю.
Книга была толстая, напечатанная мелким шрифтом, с картинками, картами,
полная приключений, пережитых исследователями, и подробным описанием всех
происшествий. Каждая страница, каждая фотография рассказывала о неслыханных
подвигах отважных русских исследователей и первооткрывателей.
Одни разведывали на неисследованных островах месторождения нефти, угля
и металлов. Другие изучали животный и растительный мир северных морских
глубин. Были и такие, которые искали сохранившихся во льду гигантских
зверей, давно вымерших. Так были найдены в природных "холодильниках"
мамонты, жившие много десятков тысяч лет назад. Эти чудовища были гораздо
больше и тяжелее слонов "Ноева ковчега" цирка Струцкого. Они так хорошо
сохранились -- такими же, какими были в тот день, когда их засосал и покрыл
ледник, -- что охотничьи и ездовые собаки тамошних жителей кидались на них,
как на живых.
Петруш смотрит прибитую над столом карту, прослеживает глазами и
мысленно восстанавливает путь, проделанный русскими исследователями.
Потом, перед тем как лечь спать, опять спрашивает себя: "Где в этой
ледяной пустыне Фрам? И что-то он теперь делает?"
ХII. ДРУЗЬЯ ФРАМА В ДАЛЕКИХ ГОРОДАХ НЕ ЗАБЫЛИ ЕГО
Да, где-то далеко, в своем родном городе, Петруш, курносый мальчик с
сияющими глазами, не забыл Фрама.
Он тоже слышал, что директор цирка отослал ученого белого медведя
обратно, в страну вечных льдов, на родину. И теперь из города, где ветер еще
не сорвал со стен все цирковые афиши, Петруш мысленно следит за Фрамом. Ему
помогает воображение.
Вероятно, ученого белого медведя помнят и другие дети, из бесчисленных
городов и городков, где побывал цирк Струцкого со своим Ноевым ковчегом,
населенным слонами, тиграми, львами, змеями и обезьянами. Может быть, ребята
до сих пор рассказывают друг другу о смешных выходках Фрама. Может,
какой-нибудь шалун и теперь еще подражает ему, изображая, как белый медведь
играет на гармонике или как он приглашает на арену охотников помериться с
ним силами в честной борьбе.
Но Петруш не ограничивается веселыми воспоминаниями. Воспоминания для
него -- не только повод для смеха и шалостей.
Из любви к Фраму он принялся всерьез читать разные книжки о белых
медведях и полярных экспедициях.
Кончив одну книжку, он принимался за другую, потом перечитывал их
заново.
А на следующий день с воодушевлением рассказывал приятелям о
прочитанных приключениях.
Белокурая голубоглазая девочка, внучка бывшего учителя, исполнила свое
обещание поговорить с дедушкой. Она начала издалека, прибегая к маленьким,
невинным хитростям:
-- Дедушка, помнишь того мальчика, который стоял рядом с нами не
прощальном представлении в цирке?
-- Помню. А что?
-- Ужасно он тогда расстроился из-за Фрама!..
-- Мне тоже было жалко медведя... Дальше?
-- Так вот про этого мальчика...
-- Что такое?
-- Ему страшно хотелось бы почитать рассказы о белых медведях и о
путешествиях на полюсы...
-- Очень похвально. Я заметил, что у него умные глаза.
-- Верно, дедушка, он умный. Но у него нет книг!
Дед прикинулся удивленным и улыбнулся в седые усы: он с первых же слов
внучки догадался, что у нее была своя цель, когда она завела этот разговор.
-- Как так, нет книг? И откуда, спрашивается, тебе известно, что у него
нет книг?
-- Он сам мне сказал, когда мы с ним вместе разглядывали старую афишу
цирка, на которой нарисован Фрам. "Бедный Фрам! -- говорил тогда этот
мальчик. -- Где-то он теперь?!.." А потом сказал, что у него совсем нет
книг, и я обещала попросить у тебя. Это плохо?
-- Нет, ты поступила хорошо. Очень хорошо!.. А как зовут мальчика, ты
знаешь?
-- Петруш!
-- А дальше?
-- Просто Петруш! Дальше он не сказал.
-- А знаешь ли ты, по крайней мере, где он живет?
-- Нет, я и этого не знаю... Зачем мне знать?
-- Чтобы дать ему ответ -- сообщить, когда прийти за книгами.
-- Он сам придет. Я ему сказала зайти завтра, после обеда. Это плохо ?
-- Нет, хорошо. Очень хорошо, хитрюга! Удивляюсь, зачем ты меня еще
спрашиваешь?
-- Я боялась, что ты рассердишься, дедушка!
-- Разве я когда-нибудь сердился, когда меня просили одолжить книгу?
И действительно, к старому учителю многие приходили за книгами. На этот
раз он даже обрадовался: ведь речь шла об умном мальчике, которому хотелось
узнать про жизнь белых медведей и приключения полярных исследователей.
Петруш явился на следующий день, как было условлено. И старый
учитель-пенсионер, поговорив с ним немного, пригласил его следовать за
собой:
-- Ну, идем наверх, в библиотеку. Выберем вместе, что тебе придется по
вкусу.
Так Петруш получил, для начала, две книги о белых медведях и о полярных
экспедициях. Читая их, он стал "специалистом", как называл его полушутя,
полусерьезно Михай Стойкан, когда по вечерам видел сына уткнувшимся в книгу.
-- Как, Петруш, добрался до полюса или еще нет? -- дразнил он
мальчугана.
-- Нет, папа, и, наверно, еще нескоро доберусь. Я еще только дневник
Нансена читаю...
-- Ну хорошо, расскажи и мне что-нибудь из прочитанного, господин
специалист! -- часто просил его отец.
Петруш не заставлял его повторять просьбу. Он только и ждал, когда его
попросят рассказывать.
И в самом деле, после всего прочитанного он был полон увлекательных
историй и не раз уже говорил дома о твердо принятом решении добраться
когда-нибудь до страны вечных льдов.
-- А не пора ли тебе спать, Петруш? -- спрашивала мать.
-- Еще минуточку, мама! Вот только кончу главу.
-- Смотри не забудь потушить свет!
-- Не беспокойся, мама, потушу...
Покончив с заданными на следующий день уроками, Петруш иногда сидит
допоздна, упершись в стол затекшими локтями, и читает при свете лампы
историю полярных путешествий с самых древних времен. Он тогда совершенно
забывает об играх, о других книгах и даже о стакане чая, который ждет его на
печке. Все вокруг словно отдаляется от него и исчезает за горизонтом, как те
льдины, что скользят по зеленым водам студеных морей.
Он не слышит ни ветра, ни дождя, который стучится в окно. Не слышит ни
сонного лая Лэбуша, который стережет двор, ни стука колес по мостовой, когда
по улице проезжает запоздалый извозчик.
Все его мысли, вся его фантазия -- за стенами дома, за чертой города,
за границами страны, по ту сторону гор и морей.
Он мысленно путешествует с полярными экспедициями среди вечных льдов.
Дрожит от холода вместе с героями этих подвигов. Голодает с ними, бредет с
ними в пургу по сугробам и торосам, слепнет от снежной пыли. Он плачет
вместе с ними над ледяной могилой товарища, сраженного усталостью, морозом и
цынгой. И вместе с ними исторгает из груди радостный крик, когда, преодолев
все трудности, экспедиция наконец добирается до неведомого берега и ставит
флаг на вершине скалы или посреди ледяного поля, куда еще не ступала нога
человека.
Над его столом к стене прибиты рядом две карты.
Он сам увеличил их, найдя в атласе интересовавшие его места.
Одна карта изображает Северный Ледовитый океан со всеми тамошними
морями, берегами материков и островами. Другая -- Антарктику.
На этих картах можно прочесть мудреные названия рек, островов, морей,
заливов и проливов: Обь, Енисей, Лена, Новая Земля, Карское море,
Шпицберген, Гренландия, архипелаг Норденшельда, море Баффина, Берингов
пролив, Гудзонов залив и т. д. А на другой карте -- море Росса, пролив
Дрейка, остров Шарко, мыс Горна... В центре одной карты написано Северный
полюс (6 апреля 1909), другой -- Южный полюс (14 декабря 1911).
Что могли сказать эти карты с их знаками и названиями другим детям? Они
только подняли бы брови и пожали плечами: слишком уж далекие места, слишком
уж чуждо звучат их названия!
Но Петрушу они рассказывают о подвигах первооткрывателей, полных
страданий, воодушевления и величия, о победе человеческой воли в борьбе с
враждебной стихией, ледяными пустынями, неизвестностью, холодом и голодом,
штормами и лютыми вьюгами.
Теперь он знает о "Фраме", другом Фраме, знаменитом судне, на котором
Нансен пересек Северный Ледовитый океан и его моря и на котором впоследствии
отправился открывать Южный полюс Руаль Амундсен.
Ни одно место, ни одно название на этих двух картах больше не тайна для
него.
Сначала он прочел об этих открытиях в кратком изложении. А через год
старый учитель дал ему несколько толстых томов с дневниками самого Нансена,
а затем и Амундсена, которые писались либо в каюте "Фрама", либо в ледяных
хижинах, среди льдов, при сорокаградусном морозе.
Кругом тихо. Даже ветер стих на дворе. Все спят. Ночную тишину нарушает
лишь чуть слышный стрекот сверчка.
Петруш, подперев ладонью лоб, читает дневник Нансена, и воображение
уносит его далеко-далеко, за много тысяч километров от его города, в
полярные пустыни:
5 декабря 1893. Сегодня самая низкая температура: -- 35,7╟ С. Мы
находимся на 78╟50' северной широты, на 6 миль севернее, чем 2 числа сего
месяца.
После обеда величественное северное сияние: небо освещено огненной
дугой, перекинутой с востока на запад. Но позже погода портится: видна лишь
одна звезда -- звезда родины. Как я люблю эту светящуюся точечку! Всякий
раз, поднимаясь на палубу, я ищу глазами эту звезду, и всегда вижу ее
безмятежно сияющей на том же месте. Она представляется мне нашей
покровительницей.
8 декабря... С 7 до 8 утра новый натиск льда на борта нашего корабля.
После обеда я рисовал в каюте и вдруг прямо над головой почувствовал
яростный толчок. Вслед за этим послышался ужасный грохот, словно огромные
массы льда обрушились со снастей на палубу. В одно мгновение все вскочили...
Треск прекратился, следовательно, повреждений "Фрам" не получил. Однако
здорово холодно, так что лучше всего вернуться в каюту.
В 6 часов -- новое сжатие. Оно продолжается двадцать минут. За стенкой
кормовой части корабля поднялась такая возня и грохот, что невозможно было
разговаривать обычным голосом, приходилось кричать во всю глотку. Во время
этого дьявольского шума, от которого чуть не лопались барабанные перепонки,
орган играл мелодию Кьерульфа "Сном забыться не мог я, мешал соловей".
13 декабря... С вечера собаки яростно лают, ни на минуту не смолкая.
Несколько раз караульные ходили осматривать окрестности. Но узнать причину
беспокойства собак так и не удалось.
Утром обнаруживается исчезновение трех собак. После обеда Мугета и
Педер отправляются обследовать снег вокруг корабля, надеясь найти следы
беглецов.
-- Вы бы ружье захватили! -- кричит им Якобсен.
-- Обойдемся и так! -- отвечает Педер.
Сразу под трапом видны медвежьи следы и пятна крови. Несмотря на это,
наши неунывающие товарищи смело шагают по льду в кромешной тьме, имея при
себе лишь фонарь. Вся стая собак их сопровождает.
Они отошли всего на несколько сот шагов, когда из темноты вдруг
появился громадный медведь, при виде которого наши люди галопом бросились к
судну.
Мугета, обутый в легкие башмаки, бежал быстро. Но Педер в своих тяжелых
сапогах на деревянной подошве подвигался с большим трудом.
Он напрасно спешил: тьма такая, что корабля все равно не видно. Бедняга
так растерялся, что, спасаясь от медведя, сбился с дороги. К счастью,
медведь его не преследует, так что волноваться как будто нечего.
Еще пара шагов, и Педер, поскользнувшись, растягивается среди торосов.
Наконец он на гладком льду, которым окружен корабль. Еще несколько
шагов - и он спасен.
Но в эту минуту совсем близко от него что-то двинулось. Педер подумал,
что это собака. Но не успел он сообразить, что происходит, как на него
набрасывается медведь и кусает его. Педер замахивается фонарем и с такой
силой ударяет зверя по морде, что стекло со звоном разбивается на тысячу
осколков.
Медведь в страхе отступает. Воспользовавшись этим, Педер успевает
вскарабкаться на палубу.
Узнав об этом нападении, мы вскакиваем и хватаем ружья. Через несколько
минут медведь лежит мертвый.
Отправляемся на поиски недостающих собак и вскоре находим их
растерзанные трупы. Как видно, медведь незаметно взобрался по трапу на борт,
сцапал первых попавшихся псов и преспокойно спустился на лед.
Счастье, что Квик принесла как раз сегодня двенадцать щенят. Это будет
драгоценным резервом для нашей стаи, сократившейся теперь до двадцати шести
собак...
Петруш переворачивает страницу за страницей. По датам дневника Нансена
видно, что после этого происшествия прошло больше года. Взяв с собой только
одного из своих спутников, Иогансена, Нансен покинул стиснутое льдами судно,
и они отправились по льду с собаками и нартами разыскивать Северный полюс.
Провизии становилось все меньше. Обтянутые моржовой шкурой лодки,
построенные по образцу эскимосских и называемые каяками, постоянно портились
и нуждались в починке.
Но оба мужественно шли вперед. Нансен вел ежедневные записи в своей
тетради:
14 июня 1895. Прошло уже три месяце, как мы покинули наше судно "Фрам",
-- ровно четверть года. С тех пор мы бродим по ледяному полю. Когда же
наконец кончатся наши испытания? Никто не знает...
15 июня... Положение становится отчаянным. Двигаться вперед по мокрому
снегу и льду, полному препятствий, немыслимо. Придется, пожалуй,
пожертвовать последними собаками, чтобы питаться их мясом, потом тащить
нарты самим.
19 июня... После ужина, такого же скудного, как и обед, -- 54 грамма
клейковинного хлеба и 27 граммов масла, -- мы ложимся: сон, как известно,
заменяет обед! Задача теперь состоит в том, чтобы как можно дольше продлить
нашу жизнь, обходясь без еды. Положение ухудшается: никакой дичи, провизия
кончилась.
Всю ночь в ломаю себе голову, стараясь найти выход из нашего положения.
Не сомневаюсь, что спасение придет!..
20 июня... После нескольких часов ходьбы нам преграждает путь большое
разводье. Чтобы переправиться на ту сторону, нужно использовать каяки,
другого выхода нет.
Спускаем каяки на воду, соединяем их при помощи лыж и ставим на этот
помост нарты со всем грузом.
Потом помогаем влезть на него собакам, сколько их у нас еще осталось.
Во время этих приготовлений замечаем плавающего вокруг нас тюленя.
Вскидываю ружье и жду, когда он повернется удобнее для выстрела. Происходит
то же, что с птицей в известной басне: я приготовился стрелять, а добычу
поминай как звали!
Наконец пускаемся в плавание.
7 июля... Теперь у нас осталось всего две собаки. Как только горизонт
на юге светлеет, торопимся перебраться с плавучего острова, до которого мы
доплыли, на высокую, как сторожевая башня, ледяную гору, в непокидающей нас
надежде увидеть сушу. Но куда ни глянь, везде те же белые дали!..
10 июля... Я становлюсь безразличным ко всему на свете. Мы ждем лишь
одного: когда взломается лед. Но лед стоит. Что мне писать в дневнике?
Никаких перемен...
Во время обеда один из псов, Кайяс, начинает лаять. Первое, что я вижу,
высунув голову из палатки, -- медведь...
Хватаю ружье, медведь недоуменно смотрит на меня, и я всаживаю ему пулю
в лоб. Он шатается и, несмотря на смертельную рану, все же кое-как удирает.
Пока я нахожу другой патрон в моем кармане, полном всякой всячины,
зверь успевает добраться до торосов. Раздумывать некогда... Нельзя упускать
добычу, которая сулит нам пищу и спасение. Пускаюсь за медведем бегом. В
нескольких шагах два хорошеньких медвежонка озабоченно ждут на задних лапах
возвращения матери. Значит, мой подранок -- медведица!
При моем появлении все семейство пускается наутек. Начинается
сумасшедшая погоня. Нас не останавливают никакие препятствия, ни торосы, ни
трещины. Мы карабкаемся на волнистые гребни, перепрыгиваем трещины или
перебираемся через них по ледяным мостам... Хотя тяжело раненная медведица
едва волочит ноги, мы настигаем ее с трудом. Я едва за ней поспеваю.
Медвежата трогательно кружат вокруг матери, то и дело забегают вперед,
словно желая показать ей, куда бежать, и ободрить ее...
2 августа... Нашим бедам не предвидится конца. Едва преодолев одну,
попадаем в другую.
4 августа... После ужасающей дороги подходим к разводью. Мы собираемся
переправиться через него на каяке и очищаем кромку от снега. Поставив нарты
на каяк, я держу их, чтоб они не соскользнули. Вдруг слышу у себя за спиной
тяжелое дыхание.
-- Бери скорей ружье! -- кричит Иогансен, который ходил за своими
нартами.
Поворачиваюсь на месте и что вижу? Громадный медведь повалил Иогансена,
который обороняется с большим трудом. Хочу достать ружье, лежавшее в чехле,
в передней части моего челна, но каяк ускользает от меня в воду. Первая
мысль -- прыгнуть в каяк и застрелить медведя оттуда. Но я тут же отдаю себе
отчет в том, как мне трудно будет взять его на прицел. Быстро вытаскиваю
каяк на берег, чтобы достать ружье. Думая только об этом, не имею времени
оглядеться кругом.
-- Торопись, если хочешь поспеть! И, главное, получше целься!.. --
кричит бедный Иогансен.
Наконец ружье у меня в руках. Медведь от меня в двух метрах, он вот-вот
растерзает Кайфаса. Целюсь тщательно, как просил Иогансен, и посылаю зверю
пулю за ухо.
Громадина падает замертво.
31 декабря... Вот и кончился этот необычный год. В общем, он не был
таким уж плохим.
Там, на родине, веселый перезвон колоколов возвещает конец старого
года. Здесь не слышно ничего, кроме завывания ветра на льду.
Облака снега ошалело катятся по торосам и ледяной глади, а сквозь белую
пелену скользит полная луна, которой нет дела до бега времени. Она безмолвно
следует по своему пути, равнодушная к человеческим страданиям.
Мы затеряны в жуткой ледяной пустыне, за тысячи километров от дорогих
нам существ, и наши мысли то и дело возвращаются к любимому, родному краю.
Одна страница вечности дописана, открывается другая. Что в ней будет?
1 января 1896. Термометр показывает 41,5╟ ниже нуля. Лютый мороз.
Никогда еще этой зимой не было такого холода. Я полностью ощутил это
особенно вчера, когда у меня замерзли кончики всех пальцев.
8 января... Ужасающая пурга... Стоит высунуть голову из нашей ледяной
хижины, как бешеный ветер норовит подхватить тебя и закинуть бог весть
куда... У нас жестоко мерзнут ноги. Мы часами колотим их одну о другую, но
согреть никак не можем.
Нет, мне никогда не забыть этих страшных ночей! И среди всех страданий
мысль все время улетает на родину, к своим!
А время бежит... Лив, моей девочке, исполняется сегодня три года. Уже
большая, наверно. Бедный ребенок! Нет, Лив, ты не потеряешь отца! Надеюсь,
что твой будущий день рождения мы проведем вместе. Я буду рассказывать тебе
о медведях, о моржах, о песцах, о всех диковинных зверях, которые обитают в
этих нехоженых местах.
1 февраля... Любопытную жизнь ведем мы в этой ледяной берлоге среди
полярной ночи! Хотя бы почитать какую-нибудь книжку!.. Лоции и календарь я
перечел столько раз, что знаю их наизусть. Но как бы то ни было, один вид
печатного слова для нас утешение: тонкая ниточка, которая соединяет нас с
цивилизацией.
16 мая... Опять медведи. Медведица с медвежонком. Убивать этих животных
нет смысла, потому что у нас еще достаточно запасов от прежней охоты. Но мы
считаем, что не мешает приблизиться и понаблюдать за ними, а в то же время и
дать им острастку, чтоб они не тревожили нас ночью.
При нашем появлении медведица принимается рычать, но сейчас же отходит,
мордой подталкивая перед собой медвежонка. Иногда она останавливается и
оборачивается посмотреть, что мы делаем.
Дойдя до берега, семейство отправляется дальше, пробираясь между льдин;
мать впереди, прокладывая путь детенышу. Тем временем я почти догоняю их,
так что нас теперь разделяет всего несколько шагов.
Медведица тотчас поворачивается и весьма угрожающе двигается на меня.
Она подходит совсем близко, устрашающе рычит, но не двигается с места, пока
не убеждается, что медвежонок немного отдалился. Тогда, сделав несколько
больших шагов, я быстро догоняю его.
Медведица повторяет маневр, чтобы защитить детеныша и прикрыть его
отступление. Ясно, что ей очень хочется броситься и растерзать меня в
клочки. Но прежде всего ее заботит безопасность медвежонка. Она отходит лишь
тогда, когда он опять отдаляется на некоторое расстояние. Добрались до
ледника, мать опережает детеныша, чтобы показывать ему дорогу. Быстро идти
по снегу малыш не может. Медведица толкает его, следя за каждым моим шагом,
за каждым движением.
Такая материнская любовь действительно трогательна...
Петруш отрывается от книги и смотрит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана, пытаясь отыскать на ней то место, где находился
Нансен, когда писал эти строки в своем дневнике.
Уже поздно. Но мальчик не чувствует усталости. Его не клонит ко сну.
Дневник Нансена близится к концу. Он хорошо знаком Петрушу, который уже раз
прочел его. И все же он ни за что не ляжет, пока не пробежит глазами
последних страниц.
Так же, как Нансена, когда он писал свой дневник, вдохновляли
переживаемые им перипетии, так вдохновляют они теперь и его маленького
читателя. Умом и сердцем он участвует в них, они доказывают ему, что
человеческое упорство и воля сильнее враждебных стихий.
Ни холод, ни пурга, ни голод не могут одолеть человека.
Победа остается за ним. Достаточно быть готовым к борьбе, трезво
мыслить и никогда не терять ни хладнокровия, ни веры в свои силы.
Петруш снова склонился над книгой, он дочитывает последние страницы
дневника Нансена.
12 июня... Выходим в четыре утра, подняв парус на нартах. За ночь мороз
скрепил снег. Подгоняемые попутным ветром, мы надеемся двигаться легко и
быстро, как на парусной лодке...
Хмурая окраска неба на юге доказывает, что вода там свободна от льда. И
в самом деле, мы слышим, к нашей радости, рев яростных волн. В шесть часов
останавливаемся.
Мы снова перед свободным, ожившим, одухотворяющим морем. Какая радость
слышать его знакомый рев после того, как мы так долго видели его скованным
тяжелым стеклянистым панцирем!
Каяки спущены на воду; примкнуты борт к борту; паруса подняты... Теперь
вперед!..
Под вечер мы высаживаемся на кромке берегового льда, чтобы размять
ноги, затекшие после долгого путешествия в каяке.
Разгуливаем взад и вперед возле каяков. Морской ветер спал; кажется, он
все более заворачивает к западу. Интересно, сможем ли мы продолжать плавание
при таком ветре? Чтобы удостовериться в этом, залезаем на ближайший торос...
Вглядываюсь в горизонт.
-- Каяки унесло!.. -- кричит Иогансен.
Бежим со всех ног к берегу. Каяки уже далеко, их быстро уносит в
открытое море: веревка, которой они были привязаны, порвалась.
-- Держи часы!.. -- говорю я Иогансену.
И мигом скидываю одежду, которая помешает мне плыть. Но раздеться
совсем не решаюсь -- боюсь судороги. Прыжок -- и я в воде!
Ветер дует с суши и быстро гонит каяки в открытое море. Вода ледяная,
одежда стесняет движения, а каяки все более отдаляются.
Я не только не догоняю их, а наоборот, отстаю. Поймать их мне
представляется почти невозможным.
Но они уносят с собой последнюю надежду на спасение и все, что мы
имеем. У нас не осталось даже ножа. Утону ли я или вернусь на берег без
каяков -- результат будет тот же: неминуемая гибель для обоих.
Я упорствую и делаю отчаянное усилие. Только такой ценой мы еще можем
спастись. Когда устаю, ложусь на спину. В этом положении мне виден Иогансен,
который нетерпеливо топчется на льду. Бедняге не стоится на месте: положение
его действительно ужасно, потому что, с одной стороны, он лишен возможности
прийти мне на помощь, а с другой -- у него нет ни малейшей надежды на успех
моих усилий. Броситься в воду за мной не имело никакого смысла. Позже он
говорил мне, что это ожидание было самым мучительным моментом в его жизни.
Снова плывя на груди, я увидел, что каяки от меня недалеко. Это придало
мне сил, и я еще отчаяннее заработал руками и ногами. Ноги, однако, начали
неметь: скоро я больше не смогу ими двигать...
Между тем расстояние все уменьшалось. Если я выдержу еще несколько
мгновений, мы спасены. Итак, вперед!.. Я все больше приближаюсь к каякам.
Еще одно усилие, и я буду в одном из них!
Наконец-то! Хватаюсь за лыжу, которая лежит в задней части каяков, и
подтягиваюсь к ним. Мы спасены! Пытаюсь взобраться в каяк, но окоченевшее
тело отказывается мне служить. Одно мгновение мне кажется, что все напрасно:
я достиг цели, но она не дается мне в руки.
После этой страшной минуты сомнения мне все же удается занести ногу на
нарты и вскарабкаться на них. Пользуюсь этой точкой опоры и сразу берусь за
весло. Но тело мое так онемело, что я еле двигаюсь.
Нелегко мне было грести одному в двух каяках. Приходилось все время
поворачиваться, делая гребок то направо, то налево. Конечно, если бы мне
удалось разъединить каяки и грести только в одном, взяв другой на буксир,
дело пошло бы куда легче. Однако в том состоянии, в котором я находился,
такой маневр был невозможен: мороз сковал бы меня прежде, чем я успел бы это
проделать. Лучшим средством согревания оставалась энергичная гребля.
Но я весь закоченел. Когда ветер дул с моря, мне казалось, что меня
пронизывают тысячи копий. Мороз пробрал меня окончательно: я стучал зубами,
дрожал всем телом, но решил не сдаваться -- изо всех сил работать веслами. И
мне это удалось!
Вдруг я увидел перед собой двух кайр. Соблазн был чересчур велик: я
схватил ружье и одним выстрелом убил обеих птиц.
Иогансен рассказывал мне потом, как он перепугался, когда услышал этот
выстрел: думал, что случилось несчастье и никак не мог понять, что я делаю.
А когда увидел, что я гребу и показываю ему добычу, решил, что я, наверно,
сошел с ума.
Наконец я добрался до берега, но меня отнесло течением далеко от того
места, где я бросился в воду. Иогансен прибежал по кромке льда мне
навстречу.
Я вконец обессилел. Тащусь, еле держась на ногах и лязгая зубами.
Иогансен раздевает меня, укладывает и накрывает всем, что только может
найти. Меня продолжает трясти. Пока он ставил палатку и жарил кайр, я
заснул. Когда проснулся, обед был готов. Упоительно горячий суп и чудесное
жаркое стерли последние следы этого ужасного приключения, словно его вовсе и
не бывало...
15 июня... Отправляемся дальше в час ночи. Погода тишайшая. Море кишит
моржами...
Быстро подвигаемся вдоль берега. К несчастью, густой туман скрывает все
и мешает разбираться в топографии... Прямо перед нами показывается морж.
Иогансен, который гребет впереди на своем каяке, ищет укрытия за плавучей
льдиной.
Пока я собираюсь последовать его примеру, морское чудовище бросается на
мой каяк, стараясь опрокинуть его клыками. Сильный удар веслом по голове
заставляет его повернуться. Однако он тут же повторяет атаку. Тогда я
хватаюсь за ружье, но морж исчезает.
Но как раз когда я радовался избавлению от опасности, почувствовал, что
мои ноги в воде. Оказывается, морж продырявил клыками дно каяка, который
быстро наполняется водой. Едва успеваю выскочить на плавучий ледяной утес:
каяк опрокидывается. Все же мне удается с помощью Иогансена вытянуть его на
льдину.
Все мое имущество теперь плавает в каяке, наполненном водой. Боюсь, как
бы не погибли наши драгоценные фотографические пластинки.
Длина пробоины -- 15 сантиметров. Такая починка не шутка, особенно с
тем скромным набором инструментов, которым мы располагаем.
17 июня... Было далеко за полдень, когда я проснулся и принялся за
приготовление завтрака. Приношу воду для супа, развожу огонь, режу мясо,
словом, налаживаю стряпню.
Затем вылезаю на ближайший торос и оглядываю окрестности.
Ветерок доносит с ближайшей суши гомон птиц, которые гнездятся в
скалах. Слушаю этот звук, следя глазами за стаями кайр, которые кружат над
моей головой; любуюсь белой полоской берега с черными пятнами скал.
Внезапно оттуда доносится собачий лай. Или мне показалось? Вздрагиваю и
прислушиваюсь. Но ничего больше не слышно, кроме горластых птиц. Впрочем,
нет: опять лай! Сомнений быть не может!
Тут я вспоминаю, что слышал вчера что-то похожее на два ружейных
выстрела, но приписал этот звук сжатию льда.
Кричу Иогансену, что в этой части суши слышны собаки.
-- Собаки? -- машинально повторяет он спросонья. -- Собаки?! Он сейчас
же встает и идет в разведку.
Мой спутник ни за что не желает мне верить. Он тоже слышал что-то вроде
собачьего лая, но гомон птичьего базара заглушал все. По его мнению, меня
просто обманул слух. Я, однако, уверен, что не ошибся.
За торопливым завтраком мы теряемся в догадках. Может быть, в этих
местах находится какая-нибудь экспедиция? Если так, то кто это? Англичане
или соотечественники? Что, если это та самая английская экспедиция, которая
собиралась обследовать Землю Франца-Иосифа, когда мы отправлялись в
плавание? Как нам тогда быть?
-- Очень просто! -- говорит Иогансен. -- Мы проведем с ними денек-
другой, а потом направимся к Шпицбергену. Иначе бог весть, когда мы попадем
домой!..
В этом отношении я с ним совершенно согласен. Займем у англичан
провизии, в которой мы так нуждаемся, и отправимся дальше.
Покончив с завтраком, я ухожу на рекогносцировку, а Иогансена оставляю
сторожить каяки.
Теперь я слышу только гомон птичьего базара и пронзительные крики кайр.
Возможно, что Иогансен прав. Пожалуй, я и в самом деле ошибся.
Вдруг я замечаю на снегу следы. Они слишком велики для песца. Значит,
здесь, в каких-нибудь ста метрах от нашего стана, прошли собаки. Почему же
они не лаяли? Как это мы их не видели? А может, это все-таки следы песцов?..
В голове у меня странная путаница. Я перехожу от сомнения к
уверенности, потом снова начинаю сомневаться. Неужели же сейчас настанет
конец нашим сверхчеловеческим трудам, всем нашим страданиям и лишениям? Мне
это кажется почти невероятным. И все же, быть может, это именно так.
Слышу лай, теперь уже гораздо более отчетливый, и повсюду вокруг вижу
следы, которые могут быть только собачьими. Потом опять ничего, кроме гама
крылатых стай. И меня вновь одолевает сомнение. Уж не сон ли все это?
Но нет! Это настоящие следы на настоящем снегу. Я вижу их своими
глазами, касаюсь руками...
Если действительно экспедиция обосновалась в этих местах, куда мы
добрались вчера, значит, мы находимся не на Земле Гиллиса или на
какой-нибудь новой суше, как я думал, а на южном побережье Земли
Франца-Иосифа, как мы и предполагали несколько дней тому назад.
Перебираюсь наконец со льда на сушу, и вдруг мне кажется, что я слышу
человеческий голос.
Первый, после трех лет, чужой голос! Сердце бьется так сильно, что того
и гляди разорвется.
Залезаю на скалу и кричу изо всех сил. Этот неизвестный голос среди
ледяной пустыни прозвучал для меня, как голос самой жизни, как приветствие
далеких земель, может быть, даже родины.
Вскоре я слышу другой голос, потом среди белых ледяных вершин вижу
черную фигуру. Потом еще одну черную фигуру... Человека. Человек!..
Уж не Джонсон ли это или один из его спутников? А может,
соотечественник? Идем навстречу друг другу. Махаю шапкой. Он тоже. Слышу,
как он разговаривает с собакой. Нет, не норвежец. Еще несколько шагов, и мне
кажется, что я узнаю начальника иностранной экспедиции, с которым уже
встречался однажды, до нашего отплытия.
Я приветствую его, и мы жмем друг другу руки.
Над нами полог тумана, под ногами -- шершавый, неровный лед. Вокруг
тонкая полоска суши, сплошь покрытой льдом и снегом. Идем рядом: щеголеватый
исследователь, который, видно, не отваживался заходить в глубь полной
опасностей полярной пустыни, лощеный господин в высоких резиновых сапогах,
распространяющий вокруг очень приятный запах мыла, к которому весьма
чувствительно острое обоняние такого примитивного человека, как я, и дикарь
в отрепьях, с длинными волосами и дремучей бородой, покрытый грязью и
копотью тюленьего жира, которым заправлена наша лампа. В таком виде сам черт
меня не узнал бы.
-- Очень счастлив вас встретить! -- говорит незнакомец.
-- Спасибо. Я тоже.
-- Ваше судно где-нибудь поблизости?
-- Нет. Оно не здесь.
-- Сколько вас?
-- Я и мой товарищ, который остался на кромке льда. Разговаривая таким
образом, мы направляемся к берегу. Вдруг не знакомец останавливается,
внимательно смотрит на меня и восклицает:
-- А вы, случайно, не Нансен?
-- Он самый.
-- Бог ты мой! Как я рад вас видеть!
Дружески улыбаясь, он горячо жмет мне руки, потом спрашивает:
-- Откуда вы?
-- На 84╟ северной широты, после двухлетнего плавания, я и мой товарищ
покинули наше судно "Фрам" на волю ветра и течения и достигли 86╟13'. Оттуда
мы добрались до Земли Франца-Иосифа, где и зимовали. А теперь направляемся к
Шпицбергену...
-- Рад слышать о вашей удаче. Вы совершили блестящее путешествие, и я в
восторге, что на мою долю выпало счастье первым поздравить вас!
Иностранец снова пожимает мне руку. В теплоте этого рукопожатия я
ощущаю нечто большее, чем простую вежливость. Он предлагает нам
гостеприимство в своем лагере и сообщает мне, что они со дня на день ожидают
судно с провизией для экспедиции. Как только приходит мой черед говорить, я
спрашиваю его о моей семье и узнаю, что когда, два года тому назад, он
отправлялся в плавание, жена моя и дочь были совершенно здоровы. Потом
спрашиваю о Норвегии, моей дорогой родине...
Затем каждый из нас делает по два выстрела, чтобы оповестить Иогансена.
Немного погодя мы встречаемся с целой группой участников экспедиции,
знакомимся, начинаются поздравления. Вскоре происходит встреча и с
остальными ее членами -- учеными разных специальностей, в том числе и
ботаниками. Ботаник Фишер говорит мне, что, увидев издали незнакомого
человека, он сразу подумал, что это мог быть только я, но потом, когда перед
ним предстал мужчина с черными, как смоль, волосами и бородой, решил, что
ошибся. Когда все собрались, начальник экспедиции сообщил, что мы достигли
86╟13'.
Громкое троекратное "ура" приветствовало эту новость...
За разговором мы незаметно дошли до стана экспедиции -- деревянного
дома русского образца.
Входим в это теплое гнездышко, затерянное среди ледяной неприютной
пустыни. Потолок и стены затянуты зеленым сукном, на стенах-- фотографии и
гравюры, этажерки заставлены книгами и приборами. Сушится одежда и обувь.
Посреди топится печка. Необыкновенное ощущение мира и радости охватывает
меня среди всех этих непривычных предметов, от которых мы успели отвыкнуть.
Три года тяжелой ответственности и постоянной тревоги мгновенно спадают с
моих плеч. Впервые чувствую себя в безопасности среди льдов. Мучительное
ожидание, которое было моим уделом в эти годы борьбы, исчезает в лучезарном
сиянии восходящего солнца. Мой долг выполнен, дело завершено.
Теперь мне остается только отдыхать и ждать прибытия парохода, который
доставит меня на родину.
Джэксон передает мне тщательно запечатанную шкатулку. В ней письма из
Норвегии. Он взял их наудачу, с тем чтобы передать мне, если нас сведет
случай. И случай доставил мне эту радость. Открываю шкатулку дрожащими
руками, с отчаянно бьющимся сердцем. Все письма приносят только добрые
вести.
На стол передо мной ставится все, что нужно для обильного завтрака:
хлеб, масло, молоко, сахар, кофе, вкус которых я забыл за полтора с лишним
года.
Но самое ценное благодеяние цивилизации я познал лишь тогда, когда
скинул с себя отрепья и выкупался. Грязи на нас накопилось столько, что мы
избавились от нее только после бесчисленных омовений. А когда мы оделись в
чистое, мягкое платье, побрились и остригли длинные, сбитые в войлок волосы,
превращение из дикарей в цивилизованных людей было завершено. Оно произошло
быстрее, чем наше преображение и приспособление в обратном смысле, которое
совершилось восемнадцать месяцев тому назад, когда мы с Иогансеном оказались
одни среди ледяной пустыни.
Мы живем в мире и уюте, поджидая судно, которое вернет нас на родину.
Вместе с научной экспедицией занимаемся проверкой наблюдений, тщательно
собранных нами за долгое путешествие.
26 июля... Наконец "Виндворд", судно с провизией, прибыло!.. Мы
грузимся, я поднимаюсь на палубу... Узнаем удивительные новости о том, что
произошло на свете за наше отсутствие. При помощи лучей Рентгена можно
фотографировать людей сквозь деревянные двери в несколько сантиметров
толщиной, а также засевшие в теле раненых пули! Шпицберген открыт для
туристов! Норвежское пароходное общество обеспечивает регулярное сообщение
между нашей страной и этим полярным краем. Там построена гостиница и
работает почтовое отделение с особыми марками. Швед Андре задумал добраться
до полюса на воздушном шаре и ждет только попутного ветра. Если бы мы дошли
до Шпицбергена, мы нашли бы там комфортабельную гостиницу и встретили бы
туристов, а не бедных рыбаков, как мы думали. Забавно получилось бы
оказаться в толпе туристов грязными, оборванными, в том виде, в каком мы
вышли из нашего зимнего логова.
7 августа... Настала минута прощания и с этим последним привалом на
нашем пути... "Виндворд" везет нас домой. Путешествие проходит быстро и
приятно.
Вечером 12 августа различаю впереди черную полоску, очень низко, на
линии горизонта. Что это такое? Это земля, земля Норвегии! Гляжу долго,
часами, как завороженный. Большую часть ночи провожу на палубе, любуясь этой
темной полоской. Меня пробирает лихорадочная дрожь: какие вести ждут нас
дома?
21 августа... Бросаем якорь в порту Хаммерфеста, самого северного
города нашей дорогой родины. Со всех концов земного шара проливается целый
поток поздравительных телеграмм. Но о "Фраме" нет никаких известий. Такое
запоздание начинает быть странным и внушает беспокойство.
Утром 26 августа меня будят. Какой-то человек настойчиво желает со мной
говорить.
-- Сию минуту! Только оденусь.
-- Ничего. Выходите так!..
Поспешно одеваюсь и нахожу заведующего почтово-телеграфным отделением с
депешей.
-- Очень важная для вас телеграмма из Скьерве! -- говорит он. --
Поэтому я решил вручить ее вам лично...
В эту минуту я не думаю ни о чем другом на свете, кроме как о "Фраме" и
судьбе моих спутников.
Дрожащими руками вскрываю депешу и читаю: Доктору Нансену
Фрам прибыл сюда сегодня. Все в порядке.
Все здоровы. Сейчас выходим в Тромсе. Приветствуем вас на родине.
Отто Свердруп.
Я так взволнован, что почти теряю дар слова.
-- Прибыл "Фрам"! -- наконец удается мне произнести.
Перечитываю телеграмму несколько раз, не веря своим глазам. В городе,
во всей Норвегии начинается всеобщее ликование.
На следующий день мы в Тромсе, где уже стоит на якоре "Фрам". Последний
раз, что я его видел, наше судно было наполовину погребено во льду. Я
оставил его вместе с нашими спутниками во власти дрейфующих льдов, чтобы
проверить океанские течения, что и составляло главную задачу экспедиции, а
сам отправился с Иогансеном по льду и разводьям, чтобы обследовать другие
пустынные области, где мы с ним и пробродили более полутора лет. Теперь наш
"Фрам" гордо бороздит воды родины. Повсюду его приветствуют криками "ура"!
Садимся на наше дорогое судно и плывем дальше.
Все время на нашем пути народ толпится на набережных, будто сама
Норвегия гордится нами и, как мать, встречая нас с распростертыми объятиями,
благодарит за все понесенные труды. Хотя мы лишь выполнили наш долг, доведя
до конца взятую на себя задачу.
Вот мы и вернулись к жизни, и она открывается перед нами, полная света
и надежд. Вечереет. Солнце садится за синее море и над тихими просторами вод
разливается осенняя грусть. Какая красота!.. Уж не сон ли все это? Нет.
Закатный свет озаряет знакомые, милые силуэты, от них веет миром и верой в
жизнь.
Ледяные пустыни и призрачный лунный свет полярных ночей кажутся теперь
далеким видением иного мира, оставшимся позади сном. Но какова была бы жизнь
без мечты и таких видений?!
Петруш, курносый мальчик с огоньком в глазах, перевернул последнюю
страницу книги.
Закинув голову, он пристально глядит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана. Ему больше не хочется спать. Локти так онемели,
что он их не чувствует.
Как незаметно пролетело время!
Он возбужден, взволнован. Воображение умчало его в страну вечных льдов,
по следам героического корабля "Фрам" и его тезки, белого медведя.
Через далекие от его страны моря и горы таинственно протянулась
невидимая нить, связавшая людей, животных и события, которых, казалось бы,
ничто не могло собрать в одно место и в одно время.
И все же невидимая связь эта осуществилась, оставив глубокий след во
многих жизнях. Старый Ларс, бывший матрос на "Фраме" Нансена, когда-то
окрестил именем судна, на котором плавал в молодости, медвежонка, пойманного
охотниками в вечных льдах. Медвежонок этот стал Фрамом, знаменитым белым
медведем цирка Струцкого. И много лет спустя на прощальном представлении
цирка в городе, куда ему больше никогда не суждено было вернуться, этот
ученый медведь пробудил неутолимый интерес к полярным экспедициям в
мальчугане, который вместе со всеми кричал в тот вечер: "Фрама! Фрама!"
И вот теперь этот курносый мальчуган с неугасимым огоньком в глазах
всем своим существом заново переживает перипетии Нансена. Переживает их
страницу за страницей, как они были записаны в дневнике великого
исследователя много лет тому назад в далекой белой пустыне, среди дрейфующих
льдов.
Петруш страдает вместе с ним, дрожит вместе с ним от холода и томится
от голода; вместе с ним чуть было не утонул в разводье и спасся, чтобы
вместе порадоваться пришедшей в конце концов победе.
Книга закрыта. Петруш глядит на карту. Потом мысль его снова уносится к
Фраму, белому медведю.
-- Где-то он теперь, наш Фрам?.. -- спрашивает себя мальчик,
укладываясь спать. -- Интересно, что он теперь делает в своей ледяной
пустыне?
На следующее утро мысль его работает гораздо бодрее.
Окруженный сверстниками, размахивая руками, он воодушевленно, с важным
видом рассказывает о других белых медведях и о различных происшествиях в
полярных краях. О том, как однажды белый медведь тихонько залез на зажатый
льдами корабль Нансена и уволок трех собак; о том, как Нансен чуть было не
утонул в такой холодной воде, что у него захватывало дух, и как спасся, о
том, как он вернулся на родину и с каким ликованием его встречали.
Зимой вся ребячья орава шумно принялась лепить из снега Фрама, ученого
белого медведя.
-- Стойте! Давайте сделаем ему глаза из угольков! -- кричит один из
приятелей Петруша.
Он бежит, спотыкается, падает на четвереньки и опрокидывает снежного
медведя.
Все хохочут, валят виновника в сугроб, ставят его в наказание вверх
ногами, потом начинают лепить медведя.
Без Петруша, однако, дело не ладится. Медведь едва держится, а если
получше вглядеться, то он вовсе и не похож на медведя: ноги не в меру
длинные, голова слишком велика.
-- Петруш! Петруш! Иди, помоги нам! Ты у нас настоящий мастер!.. Петруш
тут как тут. Он округляет рукой голову и морду Фрама, знает, как надо
вставить глаза -- угольки, чтобы вышло похоже на настоящего белого медведя.
Отступит на шаг-другой, взглянет, покачает головой и что-то поправит
или прибавит.
-- Брр! Ну и морозище! Я совсем замерз... Даже пальцев не чувствую, --
хнычет кто-то из ребят, дуя в кулачки.
-- То же богатырь!.. Трясешься при двух градусах мороза! -- отчитывает
его Петруш. -- А что бы ты сказал на полюсе, при сорока или пятидесяти
градусах?
-- Ничего бы не сказал, потому что мне там нечего делать. Отправляйся
туда сам -- ты ж у нас специалист по полярным экспедициям!
-- А вот и отправлюсь!
-- И вытерпишь мороз в сорок градусов?!
-- Вытерплю! Нансен и другие как терпели? Не видишь, что я даже не
чувствую холода?
И действительно, готовясь к путешествию в полярные льды, Петруш уже
теперь начал себя закалять. По утрам он с ног до головы обтирается снегом.
Никогда больше не кашляет. Никогда не чихает. На знает, что такое простуда,
болезнь.
Это -- здоровый, жизнерадостный мальчик. За последнее время он
вытянулся, и с каждым днем его все больше любят товарищи по играм и
одноклассники. Вырос он и в глазах учительницы: книги о полярных экспедициях
научили его зрело мыслить, принимать быстрые решения, не увиливать от
ответственности и не полагаться на случай.
Когда затевались экскурсии в окрестности города, в лес или на озеро,
его выбирали вожаком и он всегда оказывался на высоте.
Да и дома, в их бедном хозяйстве, в семье, у которой так много
трудностей, старшие братья и сестры уже не считают его раззявой и путаником,
как прежде. Теперь они полагаются на него и даже нередко обращаются к нему
за советом и помощью:
-- А ты, Петруш, как думаешь? Попробуй, может, у тебя лучше получится,
не зря ж ты занимаешься всякой всячиной.
Петруш и в самом деле умеет вязать морские узлы, которых и зубами не
развяжешь. Когда на дворе бушует метель, он так затыкает щели в дверях и
окнах, что в доме совсем не дует; умеет починить и санки, и коньки, и самые
старые лыжи мальчишек со всей улицы. Кроме того, он изобрел "снегоходы",
сплетенные из лозы и веревок, на которых можно ходить, не проваливаясь, и по
мягкому снегу, и по насту.
Но областью, в которой Петруш действительно не знал себе равных, были
рассказы из полярной жизни.
Даже голос его менялся. Весь раскрасневшийся, с еще более блестящими,
чем обычно, глазами, он заставлял других переживать все, что перечувствовал
сам, когда читал о приключениях исследователей.
-- Петруш, ты, мне кажется, прибавил кое-что от себя, -- заметит иногда
недоверчивый слушатель. -- Слишком уж ты приукрасил своих героев.
-- Прибавил от себя? Приукрасил?! -- возмущается Петруш. -- Вот я тебе
книгу принесу! Прочтешь своими глазами!.. И я еще не все рассказал!..
Готовься!..
Случилось как-то, что и сам он, читая, сначала не поверил своим глазам.
Все объяснилось только тогда, когда он прочел книгу от корки до корки.
Однажды учитель-пенсионер встретил его на улице. Петруш поздоровался и
хотел уже пройти дальше, но тот остановил его:
-- Погоди, Петруш, -- сказал дедушка белокурой Лилики. -- Почему ты
больше к нам не заходишь?
-- Боялся вас беспокоить. Я же перечитал все книги о белых медведях и
полярных экспедициях в вашей библиотеке...
Учитель улыбнулся и шутливо погрозил ему пальцем:
-- Очень мило! Значит, ты только из-за книг и приходил? А когда книги
кончились, нас забыл!
Петруш замялся.
-- Боялся вам надоесть... -- смущенно пробормотал он.
-- Час от часу не легче! -- все с той же доброй улыбкой продолжал
журить его старик. -- Разве я когда-нибудь давал тебе понять, что ты надоел?
Наоборот, мне всегда было приятно обсуждать с тобой прочитанные книги.
Не найдя ответа, мальчик опустил глаза. Отвечать ему было нечего.
Петруш чувствовал себя виноватым и действительно не знал, как это
получилось, что он вот уже целый месяц не заходил к старому учителю и его
светлокудрой внучке.
-- Не расстраивайся, Петруш, я на тебя не сержусь. А вот Лилика
действительно обижена. Но мы это уладим. Жаль только, что ты упустил случай
прочесть новую книжку.
-- Новую книжку? -- воодушевился Петруш.
-- Да! Новую книжку...
-- О белых медведях и полярных экспедициях?
-- Да, о белых медведях и полярных экспедициях. Только на этот раз
книжка гораздо более интересная, чем те, которые ты прочел до сих пор. Речь
в ней идет о знаменитых русских исследователях, которые первыми изучили
бескрайние просторы далекого Севера.
-- И эта книга еще у вас? -- взволнованно спросил Петруш, сгорая от
нетерпения. -- Вы ее еще никому не одолжили?
-- Любителей нашлось немало. Но я ее не отдал...
-- А мне дадите?
-- По справедливости, я должен был бы сначала дать ее тем, кто просил
до тебя, Петруш! -- ответил старый учитель. -- Но ты уже сам себя наказал:
вместо того чтобы прочесть ее на две недели раньше, ты начнешь ее только
завтра!
-- Сегодня! Я прочту ее сегодня! -- выпалил нетерпеливый Петруш.
-- Хорошо, Петруш. Если так, проводи меня домой и получай книгу.
-- Я прочту ее сегодня же вечером, а завтра верну,-- пообещал Петруш.
-- Не торопись с обещаниями! -- наставительно сказал бывший учитель. --
Я вовсе не требую от тебя такой спешки. Эту книгу нужно читать обстоятельно.
В самом деле, книга, которую получил на этот раз Петруш, была непохожа
на прежние. И, конечно, за один вечер он ее не одолел.
Сперва он читал ее без передышки три дня кряду после обеда.
Потом перечитывал ее, уже не торопясь, целую неделю.
Книга была толстая, напечатанная мелким шрифтом, с картинками, картами,
полная приключений, пережитых исследователями, и подробным описанием всех
происшествий. Каждая страница, каждая фотография рассказывала о неслыханных
подвигах отважных русских исследователей и первооткрывателей.
Одни разведывали на неисследованных островах месторождения нефти, угля
и металлов. Другие изучали животный и растительный мир северных морских
глубин. Были и такие, которые искали сохранившихся во льду гигантских
зверей, давно вымерших. Так были найдены в природных "холодильниках"
мамонты, жившие много десятков тысяч лет назад. Эти чудовища были гораздо
больше и тяжелее слонов "Ноева ковчега" цирка Струцкого. Они так хорошо
сохранились -- такими же, какими были в тот день, когда их засосал и покрыл
ледник, -- что охотничьи и ездовые собаки тамошних жителей кидались на них,
как на живых.
Петруш смотрит прибитую над столом карту, прослеживает глазами и
мысленно восстанавливает путь, проделанный русскими исследователями.
Потом, перед тем как лечь спать, опять спрашивает себя: "Где в этой
ледяной пустыне Фрам? И что-то он теперь делает?"
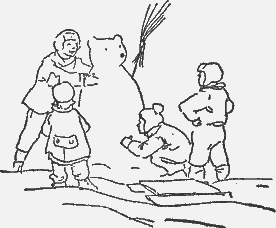 * * *
* * *
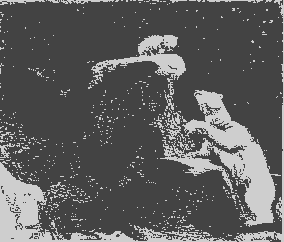 XIII. ФРАМ НАХОДИТ СЕБЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА
После первых зимних вьюг небо очистилось. Ветер стих. Открылся высокий
синий небосвод, засверкал мириадами звезд. Настала студеная, неземная,
сказочная полярная ночь.
Необъятные белые просторы иногда озаряла луна. Перламутром переливался
ледяной покров океана, перламутром сияли снега, перламутром лучились
обледенелые утесы.
Иногда светили одни звезды.
Потом на полнеба развернулось-заполыхало северное сияние.
Справа показались три радуги всех виданных и невиданных красок.
Показались, растаяли одна в другой, разделились и снова слились. А из-под их
таинственной, начертанной в небе дуги замерцали, затрепетали в
фантастической пляске огни. Голубые, белые, зеленые, фиолетовые и оранжевые,
желтые и пурпуровые, они сплетались и спадали шелковыми полотнищами, то
развертываясь, то неожиданно снова сходясь.
Вдруг все исчезло.
Потом опять началась колдовская пляска.
Как свечки на новогодней елке, загорались огоньки, реяли золотые нити.
Взвивались ракеты. Текли реки расплавленного золота и серебра. Рассыпались
фейерверком искры. Внезапно вся эта феерия превращалась под аркой радуги в
прозрачный занавес, по которому скользили светозарные голубые и алые,
фиолетовые и зеленые, желтые и оранжевые змейки.
Звонкий воздух огласился далекой, нежной, едва уловимой музыкой,
напоминавшей не то перезвон серебряных бубенцов на зимней дороге, не то
вздохи невидимого струнного оркестра. Это вздыхало само небо.
Взгромоздившись на высокую скалу, Фрам смотрел на фантастическую пляску
огней, слушал никогда не слышанную им музыку.
Имей медведь человеческий разум, он, наверно, спросил бы себя: для кого
все это великолепие в скованной морозом пустыне?
Кому здесь радоваться величию полярной ночи, ее волшебству? Не
пустынным же холодным, застывшим под ледяным зеркальным покровом просторам
океана!
Фрам залез в свое ледяное убежище, свернулся клубком, зарывшись мордой
в мягкую, густую шерсть на брюхе, и пытался заснуть.
Ни с того ни с сего разыгралась пурга. Черные тучи заволокли луну.
Поглотили звезды. Погасили мерцание северного сияния.
Покатились волны провеенной снежной пыли, рушились гребни скал, трещали
льды. Синей ночью вновь овладели и пошли куралесить духи мрака.
Угас волшебный свет.
Феерическое представление окончилось.
Заревела, застонала, засвистела на все лады обезумевшая пурга.
Закрыв глаза, Фрам мечтает о теплых странах, где каждый вечер
зажигаются огни, стоит лишь повернуть выключатель, где смеются дети и, сидя
у открытой жаркой печки, просят стариков рассказать им о чудесных
приключениях в полярных льдах.
Мечты переходят в сон.
Фрам скулит во сне точно так же, как он скулил по ночам в клетке цирка
Струцкого, когда ему снились эти пустынные дали.
Тогда он тосковал по здешней жизни.
Теперь, дрожа от холода, он тоскует по тамошней жизни.
Когда пурга улеглась, он вылез, голодный, из берлоги.
Остальные медведи куда-то исчезли. Фрама больше не ждет готовый обед,
как раньше, когда он поражал и пугал их своими сальто-мортале. Может быть,
медведи ушли в им одним известные места, где в полыньях еще высовывают
головы моржи и тюлени? А может, они залегли в берлогах, где у них припасено
мясо, и ждут в сонном оцепенении, когда на краю небосклона снова покажется
полярное солнце?
Один, мучимый голодом, Фрам шарит по щелям между скал. Его сопровождает
в лунном свете лишь собственная тень. Все следы замело. И все равно они были
старые. Ни одного свежего следа.
Пустыня.
Безмолвие.
Сверху смотрит стеклянная, неподвижная луна.
Фраму хочется поднять вверх морду и завыть по-волчьи.
Здесь нет никакой меры времени -- он не знает, долго ли еще ждать конца
этой бесконечной ночи.
В черном отчаянии он спускается на лед и бредет без цели, куда глаза
глядят. Ему теперь безразлично куда идти, лишь бы избавиться от жуткого
одиночества. Быть может, ледяной мост соединяет этот остров с другим? Может,
где-нибудь существует остров, где все же больше жизни, чем здесь?
Зачуяв пургу, он, как умел, строил себе из снега убежище и, лежа в нем,
часами ждал, когда стихнет ветер. Потом долго разминал онемевшие ноги,
повернувшись спиной к северному сиянию: чудо это не согревало его, не могло
утолить его голод.
Сколько времени он брел по льду? Неделю? Две? Больше?
Кто его знает!
Иногда ему хотелось растянуться на ледяном ложе и больше не вставать,
даже не поднимать головы, так он был изнурен.
Но остатки воли все же заставляли его встряхнуться. Собрав последние
силы, Фрам вставал на задние лапы и принюхивался к ветру: не принесет ли он
хоть далекого дыхания земли, запаха живой твари, а может быть, и человека?..
Холодный ветер больно резал ноздри, но ничего ниоткуда не приносил.
Заплетающимися шагами Фрам шел дальше, к неведомой цели.
Шел, опустив голову, не вглядываясь в дали.
Поэтому он не сразу заметил, когда в лунном свете на горизонте
показалась синеватая полоска, и не ускорил шага. Другой берег, другой
остров... Что ждет его там? Опять, верно, медведи, которые скалятся и
убегают при его приближении. Неужели он так и не найдет себе товарища,
друга? А ведь, кажется, пора уже. Фрам не терял надежды...
Не глядя вокруг, он вскарабкался по крутому ледяному берегу. Лунные
лучи падали косо. Рядом с ним ползла его тень. Она была его единственным
спутником в этой пустыне, лишь с ней делил он свое одиночество.
С ней, со своей верной тенью, он изъездил немало теплых стран. Она одна
знает, где они побывали, какие люди живут за рубежом полярной ночи, какой
там бархатный песок, какие сады, где цветет сирень и растет коротенькая,
мелкая, мягкая, как постель, трава, на которой усталой тени было так хорошо
отдыхать у его ног.
Косо падали лунные лучи.
А с другой стороны шагала рядом тень Фрама, его верная, неразлучная
подруга среди жуткого одиночества полярной ночи.
Повернув голову, не глядя себе под ноги, Фрам следит теперь только за
движениями своей тени по льду. Поднимет он лапу -- поднимет и она; ускорит
шаг -- ускорит и она; качнет головой -- качнет и она.
Но вот тень остановилась с поднятой лапой.
Она встретилась с другой тенью.
Та, другая тень, маленькая, черная, прыгала и танцевала.
Фрам повернулся к луне и вскинул глаза -- посмотреть, кому же
принадлежит эта новая, игривая тень.
В лунном свете на макушке высокой скалы плясал и прыгал белый
медвежонок.
Но Фрам тотчас же понял, что это лишь обманчивая видимость. Положение
медвежонка на макушке скалы было совсем не таким веселым. Как и зачем он
туда забрался, было известно лишь ему одному. А теперь у него не хватало
храбрости слезть. Когда медвежонок пробовал спуститься, лапы его скользили
по обледенелому камню, он испуганно цеплялся за скалу когтями и подтягивался
обратно. Потом скуля и дрожа от страха, кое-как возвращал себе утерянное
равновесие.
При виде этого малыша в беде Фраму стало весело.
Он поднялся на задние лапы и, прислонившись плечом к скале, сделал
медвежонку лапой ободряющий знак:
-- А ну, глупыш! Прыгай, не бойся! Гоп! У меня в жизни бывали положения
потруднее!
Медвежонок трусил.
Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш,
казалось, обрадовался и ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с
ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся.
Фрам снова подал ему знак, на этот раз обеими лапами:
-- Смелее, бесенок! Дядя поймает тебя, как мячик. Медвежонок закрыл
глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед
собой на снег, потом отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем свела его
судьба.
Медвежонок смотрел на него снизу.
А Фрам на него сверху.
-- У тебя, кажется, симпатичная рожица, -- дружелюбно проурчал он.
-- А ты, кажется, славный дядя! -- казалось, отвечало радостное урчание
медвежонка.
После этого по медвежьему закону они обнюхали друг друга нос к носу,
чтобы лучше познакомиться.
Малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе
неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг.
Их тени спутались на снегу.
Маленькая тень прыгала и вертелась вокруг большой, сливалась с ней и,
снова отделяясь, возвращалась на место.
Фрам погладил своего нового друга лапой по темени, как он когда-то
ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами.
Медвежонок не отскочил, не заворчал, а, наоборот, казался очень
довольным такой лаской.
Растроганный Фрам почесал у него под подбородком, потом приподнял его,
чтобы заглянуть ему в глаза. Вся его горечь рассеялась. Наконец-то он
встретил родича, который не показывает ему клыков и не удирает от него во
всю прыть!
-- А теперь надо придумать тебе кличку, -- проурчал он, опуская
медвежонка на снег и глядя на него с нежностью. -- Кажется, я уж придумал.
Нрав у тебя, видно, неугомонный, забрался ты куда не следовало, потому я
назову тебя "Непоседой". Это звучит не очень красиво, зато подходит тебе в
самый раз, дорогой мой Непоседа! Не огорчайся, потому что быть Непоседой все
же лучше, чем быть Пустоголовым...
Медвежонок не знал, что стал Непоседой, так как не понимал урчания
Фрама. Зато он тотчас же постарался оправдать свою кличку и стал цепляться
за взрослого дядю, чтобы тот опять взял его "на руки". Видно, ему впервые
пришлось испытать это удовольствие и теперь захотелось еще.
-- Нет, дружок! -- проурчал Фрам. -- Нечего привыкать! Ты, я вижу, уже
большой. И, вообще, для медвежонка стыдно проситься на руки. Хочешь лазить?
Пожалуйста, вот глыба льда! Или карабкайся вон на ту скалу.
Медвежонок понял, что его на руках носить не станут, и быстро свыкся с
мыслью, что придется идти самому.
Фрам посмотрел на него с грустью. От людей он научился осторожности.
Радость их встречи могла оказаться преждевременной, а дружба недолговечной.
Из-за скалы могла в любой момент появиться медведица, ощериться и броситься
на него с ревом и воем. И тогда ему опять придется обороняться обычными
акробатическими фигурами, прыжками и подножками, пока медведица не зароется
носом в снег и не откажется от борьбы с циркачом.
И все закончится так же, как неизменно кончались прежние встречи.
Разъяренная медведица повернется и влепит медвежонку две-три увесистых
оплеухи, чтобы научить его уму-разуму, чтобы не шатался без толку. Потом
поддаст лапой сзади, и когда малыш покатится кубарем, проворчит: "Марш
вперед! Я тебя догоню. Мы с тобой еще поговорим!.."
И Фрам опять останется один со своей тенью и опять будет слоняться как
зачумленный по ледяной пустыне.
Вот какую горькую думу думал Фрам, стоя на задних лапах и глядя на
медвежонка.
Непоседа тронул его лапой и проурчал на своем языке:
-- Эй, дядя! О чем задумался? Я тебе уже надоел? Фрам с жалостью пожал
плечами:
-- Что ты понимаешь? Ты еще маленький и глупый!.. Медвежонок, казалось,
понял его. Потому что он сразу погрустнел и тоненько заскулил:
-- Я, правда, еще маленький. Маленький и несчастный, посмотри, какая у
меня тут, на голове, ссадина... Но я совсем не такой глупый, как ты думаешь,
честное слово!
Он стоял перед Фрамом, освещенный луной, и почесывал маленькой лапой
голову, где действительно была видна незажившая ссадина.
Фрам нагнулся посмотреть болячку. Хотя он многое перенял от людей, но
как лечить раны, у ветеринара цирка Струцкого не научился. А потому
ограничился тем, что по звериному обычаю полизал глубокую ранку и проурчал:
-- Эге! Знаю я, что тебе тут помогло бы, господин Непоседа! Капелька
йоду! Пощипало бы чуточку и шкурка немного запачкалась бы. Но через неделю
не осталось бы и следа ни от ссадины, ни от пятна... Без йода так скоро не
заживет. Пусть подсохнет сама собой. А пока что когтями не расчесывай. Не то
мигом переменю тебе кличку и вместо Непоседы окрещу тебя Царапкой...
Медвежонку было решительно все равно: Непоседа или Царапка. Он ничего
из урчания Фрама не понял. Этот дядя говорил на каком-то другом языке,
непонятном в Заполярье. И совсем уже странной казалась ему перенятая у людей
привычка Фрама давать всем клички. Для медвежонка всякий медведь, большой
или маленький, пустоголовый или нет -- просто-напросто медведь и ничего
больше. Песец есть песец, а заяц -- заяц.
У него в голове не было, как у Фрама, полно всевозможных кличек. Зато
была ранка, которая здорово болела и к которой невольно тянулась его лапа.
Фрам отвел лапу и пожурил его:
-- Сказано: не трогать! Объясни лучше, как это ты заработал такую
ссадину?.. Ранка глубокая, похоже, что тебя задели когтем. Бьюсь об заклад,
что медвежьим. А ну-ка расскажи, как было дело?
Непоседа чувствовал себя очень несчастным. Стоял перед Фрамом и вся его
веселость исчезла. Урчание большого, доброго медведя он не понимал. Но
рассказать ему было что. С ним стряслась большая беда, он еле спасся...
Только как об этом расскажешь? Лучше отвести дядю на место происшествия.
Большой добрый медведь сам сообразит, как случилось, что он остался
сиротой, и почему страх загнал его на макушку высоченной скалы.
Он потянул Фрама лапой, точно так же, как детеныши людей тянут своих
дядей за полку пальто, приглашая их зайти в кондитерскую.
Фрам понял.
Понял и не стал расспрашивать, как и что. Они отправились на место
происшествия. Непоседа впереди, следом за ним Фрам. Между скал, при ярком
лунном свете на снегу виднелись следы. Определенно медвежьи. Следы были
тройные. Два следа большие, почти одинаковые, потом поменьше -- следы
Непоседы, которые вели к той самой скале, с которой снял его Фрам.
Медвежонок бросился вперед.
Фрам остановился.
Перед ними лежало на снегу большое белое тело.
Медвежонок бросился к нему, зарылся головой в мех, потом заскулил и
забегал вокруг.
Фрам осторожно приблизился. Сначала он подумал, что медведица просто
отдыхает на снегу. Что будет дальше, он уже знал: она вскочит, яростно
зарычит, потом бросится на него, заставит его проделать свое знаменитое
сальто-мортале, которое не могло принести ей никакого вреда, а лишь должно
было доказать в два счета, что драться с ним нет никакого смысла. Драться
Фраму очень не хотелось: драка положила бы конец его дружбе с Непоседой.
Но медведица не подавала никаких признаков жизни.
Она не поднялась на задние лапы, не заревела, гневно раскачивая
головой.
Внимание Фрама привлекли следы борьбы на снегу. Он увидел пятна крови и
понял печальную действительность.
Мать Непоседы была мертва и холодна, как кусок льда. Она была убита в
схватке, совсем непохожей на шуточные битвы Фрама. В схватке с медведем. Об
этом рассказывали следы.
Медвежонок совался мордочкой в мохнатое брюхо мертвой матери, где, он
знал, был источник теплого молока. Источник иссяк. Детеныш не мог понять
этого страшного чуда, точно так же, как Фрам когда-то, когда он остался
сиротой, не понимал того ужасного, что произошло с его матерью среди других
таких же суровых льдов.
Малыш жалобно скулил и катался по снегу, то и дело вскидывая глаза на
доброго большого медведя, словно ожидая от него объяснения.
Фрам погладил его по голове и обнял, отдаленно и смутно припоминая, как
тяжело остаться сиротой.
-- Нам тут больше нечего делать! -- проурчал он и потянул за собой
медвежонка. -- Мне все теперь ясно. Твоя мама погибла, защищая тебя. Убив
ее, медведь погнался за тобой и убил бы тебя тоже, если бы ты не залез на
скалу. Только тем ты и спасся. Вот бы встретиться с этим негодяем и вместе с
тобой проучить его. Обещаю, что ему придется туго!..
Медвежонок никак не мог оторваться от трупа матери. Фраму пришлось
поднять его и унести. Малыш глядел на мертвую медведицу через его плечо и
скулил.
-- Ну, будет! Довольно реветь. Будь мужчиной! -- ласково пожурил его
Фрам. -- Слезами тут не поможешь. Пока что нам с тобой не мешает
подкрепиться. Я-то привык поститься. А ты -- другое дело!
Медвежонок продолжал неутешно скулить и все оглядывался назад через
плечо Фрама.
Фрам решительно направился по следам убийцы.
XIII. ФРАМ НАХОДИТ СЕБЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА
После первых зимних вьюг небо очистилось. Ветер стих. Открылся высокий
синий небосвод, засверкал мириадами звезд. Настала студеная, неземная,
сказочная полярная ночь.
Необъятные белые просторы иногда озаряла луна. Перламутром переливался
ледяной покров океана, перламутром сияли снега, перламутром лучились
обледенелые утесы.
Иногда светили одни звезды.
Потом на полнеба развернулось-заполыхало северное сияние.
Справа показались три радуги всех виданных и невиданных красок.
Показались, растаяли одна в другой, разделились и снова слились. А из-под их
таинственной, начертанной в небе дуги замерцали, затрепетали в
фантастической пляске огни. Голубые, белые, зеленые, фиолетовые и оранжевые,
желтые и пурпуровые, они сплетались и спадали шелковыми полотнищами, то
развертываясь, то неожиданно снова сходясь.
Вдруг все исчезло.
Потом опять началась колдовская пляска.
Как свечки на новогодней елке, загорались огоньки, реяли золотые нити.
Взвивались ракеты. Текли реки расплавленного золота и серебра. Рассыпались
фейерверком искры. Внезапно вся эта феерия превращалась под аркой радуги в
прозрачный занавес, по которому скользили светозарные голубые и алые,
фиолетовые и зеленые, желтые и оранжевые змейки.
Звонкий воздух огласился далекой, нежной, едва уловимой музыкой,
напоминавшей не то перезвон серебряных бубенцов на зимней дороге, не то
вздохи невидимого струнного оркестра. Это вздыхало само небо.
Взгромоздившись на высокую скалу, Фрам смотрел на фантастическую пляску
огней, слушал никогда не слышанную им музыку.
Имей медведь человеческий разум, он, наверно, спросил бы себя: для кого
все это великолепие в скованной морозом пустыне?
Кому здесь радоваться величию полярной ночи, ее волшебству? Не
пустынным же холодным, застывшим под ледяным зеркальным покровом просторам
океана!
Фрам залез в свое ледяное убежище, свернулся клубком, зарывшись мордой
в мягкую, густую шерсть на брюхе, и пытался заснуть.
Ни с того ни с сего разыгралась пурга. Черные тучи заволокли луну.
Поглотили звезды. Погасили мерцание северного сияния.
Покатились волны провеенной снежной пыли, рушились гребни скал, трещали
льды. Синей ночью вновь овладели и пошли куралесить духи мрака.
Угас волшебный свет.
Феерическое представление окончилось.
Заревела, застонала, засвистела на все лады обезумевшая пурга.
Закрыв глаза, Фрам мечтает о теплых странах, где каждый вечер
зажигаются огни, стоит лишь повернуть выключатель, где смеются дети и, сидя
у открытой жаркой печки, просят стариков рассказать им о чудесных
приключениях в полярных льдах.
Мечты переходят в сон.
Фрам скулит во сне точно так же, как он скулил по ночам в клетке цирка
Струцкого, когда ему снились эти пустынные дали.
Тогда он тосковал по здешней жизни.
Теперь, дрожа от холода, он тоскует по тамошней жизни.
Когда пурга улеглась, он вылез, голодный, из берлоги.
Остальные медведи куда-то исчезли. Фрама больше не ждет готовый обед,
как раньше, когда он поражал и пугал их своими сальто-мортале. Может быть,
медведи ушли в им одним известные места, где в полыньях еще высовывают
головы моржи и тюлени? А может, они залегли в берлогах, где у них припасено
мясо, и ждут в сонном оцепенении, когда на краю небосклона снова покажется
полярное солнце?
Один, мучимый голодом, Фрам шарит по щелям между скал. Его сопровождает
в лунном свете лишь собственная тень. Все следы замело. И все равно они были
старые. Ни одного свежего следа.
Пустыня.
Безмолвие.
Сверху смотрит стеклянная, неподвижная луна.
Фраму хочется поднять вверх морду и завыть по-волчьи.
Здесь нет никакой меры времени -- он не знает, долго ли еще ждать конца
этой бесконечной ночи.
В черном отчаянии он спускается на лед и бредет без цели, куда глаза
глядят. Ему теперь безразлично куда идти, лишь бы избавиться от жуткого
одиночества. Быть может, ледяной мост соединяет этот остров с другим? Может,
где-нибудь существует остров, где все же больше жизни, чем здесь?
Зачуяв пургу, он, как умел, строил себе из снега убежище и, лежа в нем,
часами ждал, когда стихнет ветер. Потом долго разминал онемевшие ноги,
повернувшись спиной к северному сиянию: чудо это не согревало его, не могло
утолить его голод.
Сколько времени он брел по льду? Неделю? Две? Больше?
Кто его знает!
Иногда ему хотелось растянуться на ледяном ложе и больше не вставать,
даже не поднимать головы, так он был изнурен.
Но остатки воли все же заставляли его встряхнуться. Собрав последние
силы, Фрам вставал на задние лапы и принюхивался к ветру: не принесет ли он
хоть далекого дыхания земли, запаха живой твари, а может быть, и человека?..
Холодный ветер больно резал ноздри, но ничего ниоткуда не приносил.
Заплетающимися шагами Фрам шел дальше, к неведомой цели.
Шел, опустив голову, не вглядываясь в дали.
Поэтому он не сразу заметил, когда в лунном свете на горизонте
показалась синеватая полоска, и не ускорил шага. Другой берег, другой
остров... Что ждет его там? Опять, верно, медведи, которые скалятся и
убегают при его приближении. Неужели он так и не найдет себе товарища,
друга? А ведь, кажется, пора уже. Фрам не терял надежды...
Не глядя вокруг, он вскарабкался по крутому ледяному берегу. Лунные
лучи падали косо. Рядом с ним ползла его тень. Она была его единственным
спутником в этой пустыне, лишь с ней делил он свое одиночество.
С ней, со своей верной тенью, он изъездил немало теплых стран. Она одна
знает, где они побывали, какие люди живут за рубежом полярной ночи, какой
там бархатный песок, какие сады, где цветет сирень и растет коротенькая,
мелкая, мягкая, как постель, трава, на которой усталой тени было так хорошо
отдыхать у его ног.
Косо падали лунные лучи.
А с другой стороны шагала рядом тень Фрама, его верная, неразлучная
подруга среди жуткого одиночества полярной ночи.
Повернув голову, не глядя себе под ноги, Фрам следит теперь только за
движениями своей тени по льду. Поднимет он лапу -- поднимет и она; ускорит
шаг -- ускорит и она; качнет головой -- качнет и она.
Но вот тень остановилась с поднятой лапой.
Она встретилась с другой тенью.
Та, другая тень, маленькая, черная, прыгала и танцевала.
Фрам повернулся к луне и вскинул глаза -- посмотреть, кому же
принадлежит эта новая, игривая тень.
В лунном свете на макушке высокой скалы плясал и прыгал белый
медвежонок.
Но Фрам тотчас же понял, что это лишь обманчивая видимость. Положение
медвежонка на макушке скалы было совсем не таким веселым. Как и зачем он
туда забрался, было известно лишь ему одному. А теперь у него не хватало
храбрости слезть. Когда медвежонок пробовал спуститься, лапы его скользили
по обледенелому камню, он испуганно цеплялся за скалу когтями и подтягивался
обратно. Потом скуля и дрожа от страха, кое-как возвращал себе утерянное
равновесие.
При виде этого малыша в беде Фраму стало весело.
Он поднялся на задние лапы и, прислонившись плечом к скале, сделал
медвежонку лапой ободряющий знак:
-- А ну, глупыш! Прыгай, не бойся! Гоп! У меня в жизни бывали положения
потруднее!
Медвежонок трусил.
Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш,
казалось, обрадовался и ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с
ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся.
Фрам снова подал ему знак, на этот раз обеими лапами:
-- Смелее, бесенок! Дядя поймает тебя, как мячик. Медвежонок закрыл
глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед
собой на снег, потом отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем свела его
судьба.
Медвежонок смотрел на него снизу.
А Фрам на него сверху.
-- У тебя, кажется, симпатичная рожица, -- дружелюбно проурчал он.
-- А ты, кажется, славный дядя! -- казалось, отвечало радостное урчание
медвежонка.
После этого по медвежьему закону они обнюхали друг друга нос к носу,
чтобы лучше познакомиться.
Малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе
неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг.
Их тени спутались на снегу.
Маленькая тень прыгала и вертелась вокруг большой, сливалась с ней и,
снова отделяясь, возвращалась на место.
Фрам погладил своего нового друга лапой по темени, как он когда-то
ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами.
Медвежонок не отскочил, не заворчал, а, наоборот, казался очень
довольным такой лаской.
Растроганный Фрам почесал у него под подбородком, потом приподнял его,
чтобы заглянуть ему в глаза. Вся его горечь рассеялась. Наконец-то он
встретил родича, который не показывает ему клыков и не удирает от него во
всю прыть!
-- А теперь надо придумать тебе кличку, -- проурчал он, опуская
медвежонка на снег и глядя на него с нежностью. -- Кажется, я уж придумал.
Нрав у тебя, видно, неугомонный, забрался ты куда не следовало, потому я
назову тебя "Непоседой". Это звучит не очень красиво, зато подходит тебе в
самый раз, дорогой мой Непоседа! Не огорчайся, потому что быть Непоседой все
же лучше, чем быть Пустоголовым...
Медвежонок не знал, что стал Непоседой, так как не понимал урчания
Фрама. Зато он тотчас же постарался оправдать свою кличку и стал цепляться
за взрослого дядю, чтобы тот опять взял его "на руки". Видно, ему впервые
пришлось испытать это удовольствие и теперь захотелось еще.
-- Нет, дружок! -- проурчал Фрам. -- Нечего привыкать! Ты, я вижу, уже
большой. И, вообще, для медвежонка стыдно проситься на руки. Хочешь лазить?
Пожалуйста, вот глыба льда! Или карабкайся вон на ту скалу.
Медвежонок понял, что его на руках носить не станут, и быстро свыкся с
мыслью, что придется идти самому.
Фрам посмотрел на него с грустью. От людей он научился осторожности.
Радость их встречи могла оказаться преждевременной, а дружба недолговечной.
Из-за скалы могла в любой момент появиться медведица, ощериться и броситься
на него с ревом и воем. И тогда ему опять придется обороняться обычными
акробатическими фигурами, прыжками и подножками, пока медведица не зароется
носом в снег и не откажется от борьбы с циркачом.
И все закончится так же, как неизменно кончались прежние встречи.
Разъяренная медведица повернется и влепит медвежонку две-три увесистых
оплеухи, чтобы научить его уму-разуму, чтобы не шатался без толку. Потом
поддаст лапой сзади, и когда малыш покатится кубарем, проворчит: "Марш
вперед! Я тебя догоню. Мы с тобой еще поговорим!.."
И Фрам опять останется один со своей тенью и опять будет слоняться как
зачумленный по ледяной пустыне.
Вот какую горькую думу думал Фрам, стоя на задних лапах и глядя на
медвежонка.
Непоседа тронул его лапой и проурчал на своем языке:
-- Эй, дядя! О чем задумался? Я тебе уже надоел? Фрам с жалостью пожал
плечами:
-- Что ты понимаешь? Ты еще маленький и глупый!.. Медвежонок, казалось,
понял его. Потому что он сразу погрустнел и тоненько заскулил:
-- Я, правда, еще маленький. Маленький и несчастный, посмотри, какая у
меня тут, на голове, ссадина... Но я совсем не такой глупый, как ты думаешь,
честное слово!
Он стоял перед Фрамом, освещенный луной, и почесывал маленькой лапой
голову, где действительно была видна незажившая ссадина.
Фрам нагнулся посмотреть болячку. Хотя он многое перенял от людей, но
как лечить раны, у ветеринара цирка Струцкого не научился. А потому
ограничился тем, что по звериному обычаю полизал глубокую ранку и проурчал:
-- Эге! Знаю я, что тебе тут помогло бы, господин Непоседа! Капелька
йоду! Пощипало бы чуточку и шкурка немного запачкалась бы. Но через неделю
не осталось бы и следа ни от ссадины, ни от пятна... Без йода так скоро не
заживет. Пусть подсохнет сама собой. А пока что когтями не расчесывай. Не то
мигом переменю тебе кличку и вместо Непоседы окрещу тебя Царапкой...
Медвежонку было решительно все равно: Непоседа или Царапка. Он ничего
из урчания Фрама не понял. Этот дядя говорил на каком-то другом языке,
непонятном в Заполярье. И совсем уже странной казалась ему перенятая у людей
привычка Фрама давать всем клички. Для медвежонка всякий медведь, большой
или маленький, пустоголовый или нет -- просто-напросто медведь и ничего
больше. Песец есть песец, а заяц -- заяц.
У него в голове не было, как у Фрама, полно всевозможных кличек. Зато
была ранка, которая здорово болела и к которой невольно тянулась его лапа.
Фрам отвел лапу и пожурил его:
-- Сказано: не трогать! Объясни лучше, как это ты заработал такую
ссадину?.. Ранка глубокая, похоже, что тебя задели когтем. Бьюсь об заклад,
что медвежьим. А ну-ка расскажи, как было дело?
Непоседа чувствовал себя очень несчастным. Стоял перед Фрамом и вся его
веселость исчезла. Урчание большого, доброго медведя он не понимал. Но
рассказать ему было что. С ним стряслась большая беда, он еле спасся...
Только как об этом расскажешь? Лучше отвести дядю на место происшествия.
Большой добрый медведь сам сообразит, как случилось, что он остался
сиротой, и почему страх загнал его на макушку высоченной скалы.
Он потянул Фрама лапой, точно так же, как детеныши людей тянут своих
дядей за полку пальто, приглашая их зайти в кондитерскую.
Фрам понял.
Понял и не стал расспрашивать, как и что. Они отправились на место
происшествия. Непоседа впереди, следом за ним Фрам. Между скал, при ярком
лунном свете на снегу виднелись следы. Определенно медвежьи. Следы были
тройные. Два следа большие, почти одинаковые, потом поменьше -- следы
Непоседы, которые вели к той самой скале, с которой снял его Фрам.
Медвежонок бросился вперед.
Фрам остановился.
Перед ними лежало на снегу большое белое тело.
Медвежонок бросился к нему, зарылся головой в мех, потом заскулил и
забегал вокруг.
Фрам осторожно приблизился. Сначала он подумал, что медведица просто
отдыхает на снегу. Что будет дальше, он уже знал: она вскочит, яростно
зарычит, потом бросится на него, заставит его проделать свое знаменитое
сальто-мортале, которое не могло принести ей никакого вреда, а лишь должно
было доказать в два счета, что драться с ним нет никакого смысла. Драться
Фраму очень не хотелось: драка положила бы конец его дружбе с Непоседой.
Но медведица не подавала никаких признаков жизни.
Она не поднялась на задние лапы, не заревела, гневно раскачивая
головой.
Внимание Фрама привлекли следы борьбы на снегу. Он увидел пятна крови и
понял печальную действительность.
Мать Непоседы была мертва и холодна, как кусок льда. Она была убита в
схватке, совсем непохожей на шуточные битвы Фрама. В схватке с медведем. Об
этом рассказывали следы.
Медвежонок совался мордочкой в мохнатое брюхо мертвой матери, где, он
знал, был источник теплого молока. Источник иссяк. Детеныш не мог понять
этого страшного чуда, точно так же, как Фрам когда-то, когда он остался
сиротой, не понимал того ужасного, что произошло с его матерью среди других
таких же суровых льдов.
Малыш жалобно скулил и катался по снегу, то и дело вскидывая глаза на
доброго большого медведя, словно ожидая от него объяснения.
Фрам погладил его по голове и обнял, отдаленно и смутно припоминая, как
тяжело остаться сиротой.
-- Нам тут больше нечего делать! -- проурчал он и потянул за собой
медвежонка. -- Мне все теперь ясно. Твоя мама погибла, защищая тебя. Убив
ее, медведь погнался за тобой и убил бы тебя тоже, если бы ты не залез на
скалу. Только тем ты и спасся. Вот бы встретиться с этим негодяем и вместе с
тобой проучить его. Обещаю, что ему придется туго!..
Медвежонок никак не мог оторваться от трупа матери. Фраму пришлось
поднять его и унести. Малыш глядел на мертвую медведицу через его плечо и
скулил.
-- Ну, будет! Довольно реветь. Будь мужчиной! -- ласково пожурил его
Фрам. -- Слезами тут не поможешь. Пока что нам с тобой не мешает
подкрепиться. Я-то привык поститься. А ты -- другое дело!
Медвежонок продолжал неутешно скулить и все оглядывался назад через
плечо Фрама.
Фрам решительно направился по следам убийцы.
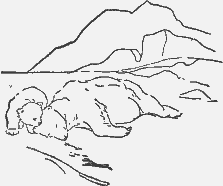 * * *
* * *
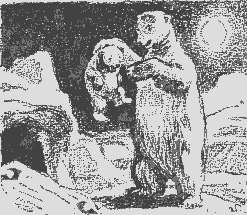 XIV. ФРАМ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ДРУГОМ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Через некоторое время медвежонок начал проявлять беспокойство и страх.
Его молодое обоняние, не притупленное жизнью среди людей и обитателей
циркового зверинца, обоняние свободного дикого зверя почувствовало
приближение опасности. Непоседа узнал запах медведя, который гнался за ним и
убил его мать. Фрам замедлил шаг.
Луна проливала на все вокруг таинственный холодный свет, такой чистый и
прозрачный, какой бывает только в полярных краях.
На голубом снегу, как рисунок на бумаге, четко обозначался каждый след.
Местами следы сопровождались пятнами крови.
Медвежонок тихонько заскулил. Фрам закрыл ему пасть лапой. Малыш понял
и смолк.
Теперь Фрам бесшумно крался длинным упругим шагом, как бенгальские
тигры, когда они приближаются к добыче.
Он опустил малыша на снег и, потеревшись носом о его мордочку, тихонько
проурчал ему на ухо то, что на человеческом языке означало бы примерно:
-- Сиди смирно, малыш! И чтоб я тебя не слышал! Жди!.. Ручаюсь, тебе
понравится то, что ты увидишь...
Медвежонок, конечно, не понимал чужого языка, на котором Фрам
объяснялся с людьми. Да и сам Фрам, возможно, сказал не совсем то что мы
передали, то есть именно этими самыми словами: при всей своей выучке, он все
же не обладал даром слова, да и ум у него не мог рассуждать по-человечески.
Тем не менее медвежонок замер на месте. Для нашей повести этого
достаточно.
Не шевелясь, затаив дыхание, он прислушивался к тиканью своего сердца.
Фрам обогнул отвесный утес с подветренной стороны, чтобы легкий ветерок
на мог его выдать, и неожиданно предстал на задних лапах перед
медведем-убийцей.
Тот поднял на него скорее удивленные, чем сердитые глаза, заворчал и
замотал головой. Может быть, в эту минуту он чувствовал некоторое презрение.
Он видел, что Фрам худой и облезлый, отощавший от голода. Сам же он был
гладкий и сильный и только что попробовал свои силы, расправившись с
медведицей. Ему было противно связываться с таким дохлым медведем.
В его глухом рычании слышалось приказание облезлому убираться
подобру-поздорову. И пусть считает себя счастливым, что дешево отделался --
застал его в хорошем настроении.
Но Фрам, казалось, не понял угрозы. Он приближался молча, не выказывая
никаких признаков робости и не торопясь, потирал передние лапы одну о другую
и даже прихлопывал в ладоши, как он делал на арене цирка, когда приглашал
охотников помериться с ним силами в борьбе или боксе.
Такой самонадеянности медведь-убийца еще не видывал. Надо было
немедленно наказать нахала.
Он уперся всеми лапами и устремился головой в брюхо Фрама --
безошибочный прием, который всегда опрокидывает противника. На этот раз,
однако, голова не встретила на своем пути ничего: вместо вражеского брюха
она ударила мимо. Фрам завертелся волчком и теперь ждал, что будет дальше.
Убийца ткнулся носом в снег, поднялся, отряхнулся и с гневным ревом
пошел на противника на задних лапах, намереваясь охватить его и перегрызть
ему горло -- словом, покончить с ним в два счета.
Фрам подпустил его совсем близко, немного отступил, прикинувшись
испуганным, потом неожиданно ударил снизу вверх под подбородок, как его
учили в цирке: бац! Злодей прикусил язык. От ярости и боли у него помутнело
в глазах.
Он завыл и вытянул лапы, чтобы обнять Фрама за шею, но подножка и удар
в брюхо повалили его мордой в снег. Фрам вскочил ему на спину, вцепился
обеими лапами в загривок и принялся мерно колотить его носом об лед: один
раз, два, три, десять раз, двадцать...
Напрасно извивался противник, выл, пытался подняться и стряхнуть с себя
Фрама. Глаза его слезились, голова шла кругом, сил с каждым ударом
становилось все меньше.
Из-за утеса медвежонок со страхом глядел на этот невиданный поединок,
не подходивший ни под какие правила Заполярья. Не удержавшись, он тоже
бросился в бой и принялся кусать убийцу за лапы, рвать ему шубу. Хотелось
поскорей увидеть его мертвым на льду, как лежала его мать с потухшими
глазами и иссякшим источником молока.
Фрам, однако, таких жестоких намерений как будто не имел. Ему хотелось
только вывести противника из строя и немного притупить ему клыки. Это,
видно, ему вполне удалось, потому что нескольких клыков тот потом не
досчитался.
Сочтя свой долг выполненным, Фрам слез со спины убийцы.
Дикарь бросился было кусаться, но Фрам схватил его за загривок,
завертел и ударил мордой об гранитный утес. Едва очухавшись, тот зарычал и
снова ринулся в бой.
Фрам повторил маневр. Три раза кряду кидался на него убийца и три раза
прикладывался в том же месте к гранитной стенке, пока, наконец, ему стало не
до драки.
Он лежал, скорчившись, тер лапами окровавленную морду и ревел, не
понимая, что с ним произошло.
Фрам подозвал Непоседу, и они отправились дальше.
А за ними в ночном безмолвии еще долго раздавались вой и стоны медведя
с выбитыми зубами.
Но Фрам их не слушал: он поступил так, как считал справедливым.
Однако глаза семенившего рядом с ним медвежонка, казалось, спрашивали
его с удивленным недоумением:
-- Почему ты не убил его, как он убил маму? Что это за драка?! Какой же
ты после этого медведь? Никогда не видел такой драки и таких медведей!..
Подняв морду и принюхавшись к ветру, Непоседа вдруг радостно заурчал.
-- В чем дело? -- спросил Фрам на своем языке, ласково подталкивая его
мордой. -- Что ты там учуял?
-- Что-то вкусное... Мясо... Сало! -- ответило урчание Непоседы. В
ледяной пустыне медвежонок оказался более подготовленным к вольной и опасной
жизни, чем Фрам. Он быстрее улавливал доносимый ветром запах дичи. Быстрее
чувствовал опасность.
Нюх Фрама был слабее и нередко обманывал его. Обоняние его притупили в
зверинце запахи сотни разных зверей. Из-за этого и по многим другим причинам
он жестоко страдал теперь от голода и чувствовал себя в Заполярье, как
последний нищий.
Фрам брел, задумчиво покачивая головой. Медвежонок торопил его, теребя
зубами за шкуру:
-- Ну же, дядя! Дождешься, что нас опередят другие! Не пойму, что ты за
медведь!..
Когда запах еды усилился, Непоседа помчался вперед, спотыкаясь, падая и
снова поднимаясь.
Чуткий нос его не обманул...
На скалистом склоне берега, где зияло устье пещеры, лежала громадная
мерзлая туша моржа: припрятанная добыча. А в самом устье пещеры оказалась
еще одна, обе едва тронутые. Только голова и шея были обглоданы. Зимние
запасы хозяйственного и бережливого медведя.
-- Кажется, мы набрели на кладовую Щербатого! -- весело проурчал Фрам.
-- Вот это удача! На ночь -- то есть на зиму -- нам с тобой хватит с
избытком.
Медвежонок не стал дожидаться приглашения и набросился на одну из туш
своими маленькими, еще молочными зубами, пытаясь порвать ее толстую,
замерзшую, блестящую шкуру. Но его зубки скользили, как по стеклу. Малыш
валился через голову, вставал, снова ворча и сопя принимался то за одну
тушу, то за другую, потом карабкался на них: недаром его звали Непоседой!
Он издавал сердитые, жадные звуки. Слушая их, можно было подумать, что
медвежонок собирается в один присест сожрать обе огромные туши -- сотни
килограммов мяса и сала. Но зубы его ничего не могли ухватить, и Непоседа то
и дело скатывался кувырком в снег.
-- Вот так история! -- проурчал он наконец, усевшись на снег и глядя на
Фрама. -- Научи меня, как быть! Я выбился из сил!
Вид у него был такой жалкий и огорченный, а озорная мордашка такая
симпатичная, что Фрам решил научить его одной хитрости, которую сам он
перенял у людей и которая могла пригодиться малышу в будущем.
Он начал с того, что вырвал когтями два куска мяса из брюха одного из
моржей. Два замерзших, твердых, как камень, куска. Потом улегся на них,
согревая их своей шерстью. Медвежонок глядел на него, ничего не понимая.
Пробовал сунуться мордой под брюхо Фраму: он еще никогда не видел белого
медведя в роли наседки.
Немного погодя Фрам достал из-под себя размякшее, теплое мясо. И
Непоседа вынужден был честно признаться, что его взрослый друг не только
добряк и первоклассный борец, но еще знает множество всяких штук, одна
другой хитрее, каких еще не видывали медведи Заполярья.
Оба наелись до отвала. Облизав себе морду, Непоседа поднялся на задние
лапы и спросил глазами:
-- Ну, дядя? Теперь куда?
Но Фрам еще не закончил выучки. Кое-что малышу еще следовало
показать...
Он вошел в пещеру и тщательно ее обследовал. Она показалась ему
подходящим убежищем, удобным для хранения провизии. С трудом перетащив
моржовые туши, он сложил их в глубине пещеры и придвинул к ее устью тяжелую
ледяную глыбу. Теперь у них была дверь.
-- А теперь пора и отдохнуть... Видишь, и луна заходит!
-- А мне спать совсем не хочется! -- заявил на своем языке Непоседа.
-- Хочется -- не хочется, пока ты со мной, мое слово -- закон! Усвой
раз навсегда!..
Проворчав это, Фрам схватил медвежонка за загривок, пятясь, втащил его
в берлогу и задвинул за собой ледяную глыбу.
Через пять минут медвежонок храпел, уткнувшись мордочкой в косматое
брюхо Фрама.
Так завязалась их дружба, которая продлилась всю полярную ночь.
Провизии у них было вдоволь. Когда бушевала пурга, они загораживали
устье берлоги ледяной глыбой, а когда в проясневшем небе снова показывалась
луна, выходили на разведку.
Им дважды встречался медведь-убийца. Он брел шатаясь, худой, отощавший.
Завидев Фрама с медвежонком, он тотчас же прятался за скалы.
Урока повторять не пришлось. Возможно, Щербатый встречался за это время
с другими медведями, может, даже дрался с ними и понял, что сила его
потеряна навсегда, вместе с зубами.
Но вот небо начало понемногу светлеть. Звезды растаяли одна за другой.
На востоке появилась огненная полоска. Приближалось полярное утро, весна.
Непоседа подрос и окреп. Кругленький, в теплой зимней шубке, он
резвился без угомону. Однако из повиновения своего взрослого, умного и
доброго друга не выходил.
Лишь только, бывало, заслышит его призывное урчание, сейчас прибежит и
замахает у его ног своим смешным коротеньким хвостиком.
Медвежонок оказался на редкость смышленым. Видно было, что из него со
временем получится первостатейный охотник. Несколько раз, почуяв песцов,
привлеченных запахами берлоги, он смело вступал с ними в бой и получал
хорошую встрепку. Доставалось от его клыков и песцам. Так или иначе, но они
больше не возвращались.
Однажды утром, уже в преддверии весны, разразилась пурга и пробушевала
целую неделю.
Когда ветер улегся и дали очистились, над горизонтом поднялось в
медвежий рост солнце. Подул ласковый, теплый ветерок. Ледяной покров океана
взломался, оставив у берега глубокие зеленые разводья.
Прилетели первые полярные крачки, потом первые серебристые и сизые
чайки. Прилетели и те редкостные птицы, которых называют чайками Росса -- с
голубой спинкой, розовым брюшком и черным бархатным ободком вокруг шейки.
Возвращаясь с побережья, Фрам с медвежонком в третий раз встретили
медведя-убийцу.
Он превратился в тень. Едва плелся, то и дело падая, поднимался и,
сделав несколько шагов, снова падал.
Завидев Фрама и Непоседу, он не выказал прежнего страха. Даже не
попытался удрать.
Ему теперь было все равно.
Он, вероятно, тащился к своему прежнему логову, в пещеру, чтобы уснуть
там вечным, беспробудным сном.
Медвежонок накинулся на него с грозным рычанием, принялся кусать и
рвать его шкуру: старый долг еще не был выплачен сполна. Вместо того чтобы
защищаться, Щербатый покачнулся, ища глазами, куда бы лечь.
Поведение Фрама навсегда осталось непонятным медвежонку. Он с сердитым
рычанием одним движением лапы отшвырнул Непоседу от его жертвы, поднял за
шиворот и посадил на высокую скалу -- обычное место Непоседы. Затем знаком
приказал ему сидеть смирно, а не то не миновать взбучки.
Потом направился к Щербатому.
Убийца лежал с закрытыми глазами, положив морду на вытянутые лапы.
Зная, какой способ борьбы предпочитает этот чудак, он не сомневался, что его
сейчас схватят за загривок и начнут колотить мордой об лед.
Но лапа Фрама не схватила его, не встряхнула, не ударила об лед, а
только легонько толкнула. Щербатый застонал, прося пощады.
-- Вставай! -- проворчал Фрам. -- Пора сообразить, что я тебя не трону.
Поднимайся и иди за мной!
Щербатый дрожал, не открывая глаз, и жалобно скулил. Фрам сгреб его,
взвалил себе на спину и точно так же, как таскал когда-то, под хохот
галерки, вокруг арены глупого Августина, отнес Щербатого в берлогу, к
остаткам моржовых туш. Там он положил его мордой к мерзлому мясу. Щербатый
со стоном открыл глаза. Порванные ноздри его расширились, он облизал
разбитый нос и попробовал было откусить кусок, но беззубые десна только
скользнули по мясу. Он уже не мог встать на ноги и откусить хороший кус,
тряся головой, как прежде, когда у него были все зубы.
Фрам оттолкнул его. Щербатый испуганно съежился и застонал. То, что он
увидел, было превыше его понимания.
Ученый циркач оторвал когтями кусок моржовой туши и, чтобы согреть его,
сунул себе под брюхо. Потом, когда мясо достаточно размякло, положил его
голодному Щербатому под нос. Тот принялся медленно жевать, как жуют беззубые
старики. Он не знал, что ожидает его дальше, но пока что свершилось чудо:
его кормят! Он получил теплый, мягкий кусок моржатины из лап того, от кого
он ожидал смерти.
Кончив есть, он поднял на Фрама испуганные глаза.
-- Чего тебе еще? -- проворчал тот, теряя терпение. -- Уж не
воображаешь ли ты, что я буду нянчиться с тобой всю жизнь? Научился
обращаться с мерзлым мясом и ступай себе подобру-поздорову!
Фрам направился к выходу из берлоги.
Щербатый оторопело глядел ему вслед. Вероятно, он принял все, что было,
за хитрость и боялся, как бы этот чудной медведь не вернулся и не перегрыз
ему глотку.
У входа в пещеру Фрам нашел медвежонка, который старался подглядеть,
что происходит внутри. Фрам не обратил на это никакого внимания, -- забыл,
что велел Непоседе смирно сидеть на скале, куда сам посадил его. В отличном
настроении, он знаком приказал медвежонку собираться в дорогу.
Берлогу они оставили Щербатому.
Пришла весна. Места было довольно для всех. Где-нибудь найдется логово
и для них.
Сначала они шли рядом. Но медвежонок то и дело оглядывался и стал
понемногу отставать. Фрам долго ничего не замечал, а когда хватился,
медвежонка уже с ним не оказалось. Он остановился... Принялся звать его,
сердито рыча... Никакого ответа! Тогда он пошел обратно по маленьким следам,
ускоряя шаг по мере того, как ему становилось ясно, куда они ведут. Им
овладела тревога.
Следы терялись в устье берлоги.
Фрам прислушался. Тишина... Это не обрадовало, а еще больше встревожило
его. Он кинулся в берлогу.
Медвежонок преспокойно облизывался. Щербатый лежал с вытаращенными
глазами и перегрызенным горлом.
Медвежонок расправился с ним по закону диких медведей Заполярья.
У малыша был старый должок, и он его уплатил.
А теперь облизывал себе морду.
В первую минуту Фраму захотелось задать ему хорошую трепку, чтобы тот
запомнил ее на всю жизнь, как Фрам помнил трепки, которые он сам, тогда еще
глупый медвежонок, получал от дрессировщика цирка Струцкого. Он даже занес
было лапу, но глаза Непоседы выражали такую невинную гордость, что лапа
Фрама повисла в воздухе.
Он опустил ее, не тронув медвежонка.
Дальнейшую судьбу свою медвежонок нашел сам, и она была такой, какой и
должна была быть в этих суровых местах. Жизнь для него едва лишь начиналась.
Ей предстояло быть долгой и протечь здесь, в стране вечных льдов, по законам
Заполярья.
Фрам подтолкнул его сзади лапой и угрюмо проворчал:
-- Ну, потешил себя! Теперь ступай...
Выходя, оба оглянулись на труп убийцы, растянувшийся возле остатков
моржовых туш.
Взгляд Фрама выражал почти человеческие чувства.
Глаза медвежонка сияли гордостью.
Они долго скитались по острову. Им не раз попадались Другие медведи,
уплетавшие свежепойманных в разводьях тюленей. Пользуясь испытанными
приемами, избавлявшими его от драки, укусов и переломанных костей, Фрам
неизменно оставался хозяином поля. Он поднимался на задние лапы, козырял,
прыгал через голову, ходил колесом, проделывал сальто-мортале; и дикий
медведь пускался наутек. Потом, отбежав подальше, останавливался и изумленно
оглядывался на чудовище.
С неменьшим изумлением смотрел на Фрама и медвежонок.
То, что он видел, превосходило все, чему научился от своего взрослого
друга с такими странными повадками.
Повадки эти нравились ему. В них было что-то веселое, невиданное и в то
же время устрашающее даже для самых могучих белых медведей, которых Фрам
обращал в бегство без особых для себя хлопот. Это было какое-то колдовство.
Приложенная к виску лапа, сальто-мортале, колесо, несколько плавных движений
вальса и, пожалуйста!.. Обед готов!
Они вдоволь наедались и уходили, оставляя излишки хозяевам. Знали, что
в другом месте найдут другой такой же дешевый и сытный обед. Медведей на
острове было много.
И все они, наверное, были опытными, искусными охотниками. Друзьям не
грозила голодовка.
Принюхиваясь поднятым по ветру носом, медвежонок первым сигналил о
близости еды. Потом поглядывал украдкой на Фрама, пытаясь разгадать, в чем
заключается его таинственная сила, обращавшая в бегство самых больших и
могучих медведей. Непоседе все это казалось ужасно забавным.
Он весело смотрел вслед удиравшему с непроглоченным куском медведю,
наблюдая, как беглец останавливается и с удивлением оглядывается на
диковинное и страшное существо, способное на такие штуки.
Солнце между тем не спеша продвигалось к середине неба.
И снова по освободившемуся от ледяного покрова океану поплыли на юг,
как таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, ледяные горы.
Иногда Фрам останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу
вглядывался в дали. Потом переводил взор на стоявшего рядом медвежонка и
назад, на полный медведей и дичи остров. И с каждым разом его все сильнее
грызла тоска, еще невнятная и безотчетная.
Однажды под берегом, у своих ног, на широком и плоском, омытом прибоем
камне они увидели гревшегося на солнце детеныша тюленя. Маленького,
круглого, блестящего. Его подсадила туда мордой мать, а сама нырнула в
зеленую пучину за живым кормом для него же.
Непоседа вскинул глаза на Фрама. Потом глянул вниз и начал проявлять
нетерпение.
Перехватив удивленный взгляд невинных круглых глаз тюлененка, Фрам
отвернулся. Он знал наперед, что произойдет, но ничего поделать не мог.
Непоседа проворно соскользнул с утеса на своих белых панталонах, как на
салазках. Внизу он одним прыжком очутился на ничего не подозревавшем
детеныше тюленя, и череп жертвы хрустнул под его молодыми острыми клыками.
У берега билась старая тюлениха, стараясь короткими толчками ластов
выбраться из воды на помощь детенышу. Когда ей наконец это удалось, Непоседа
уже был высоко, на половине подъема: волочил за собой добычу.
Мать жалобно застонала. А медвежонок с довольным урчанием принялся за
еду: он праздновал свой первый охотничий успех.
Потом облизываясь, сытый и гордый, завертелся вокруг Фрама.
Фрам же старался не глядеть на него, чувствуя в эту минуту, как что-то
навсегда отдалило его от маленького жестокого друга, бессознательно
жестокого, потому что закон ледяной пустыни требовал жестокости.
Вскоре у Фрама появилась новая причина для серьезных размышлений. И на
этот раз решающая.
Он спал, растянувшись на солнце, и видел, как всегда теперь, сон о
далеком, покинутом им человеческом мире.
Непоседа куда-то запропастился. Когда Фрам засыпал, медвежонок улегся с
ним рядом. Теперь его не было.
Хрустнув суставами, Фрам поднялся и принялся за поиски. Глянул направо
-- нету, налево -- нету. Он спустился в распадок, где по ледяному дну
сочилась тоненькая струйка талой воды, и остановился, ошеломленный.
Непоседа спрятался здесь, чтобы беспрепятственно разучивать цирковые
номера Фрама. Отдавал честь, танцевал вальс, добросовестно старался
проделать сальто-мортале. Падал с разбегу то на нос то на спину. Неудачи не
останавливали его. Он упрямо повторял все сызнова и опять катился кубарем по
льду.
Почувствовав на себе взгляд Фрама, медвежонок радостно заурчал.
Возможно, он ждал от него похвалы, и двинулся навстречу ему на задних лапах,
комично раскланиваясь и кружась в вальсе. Потом остановился и козырнул,
приложив лапу к виску. Его взрослый друг, думал он, не мог не порадоваться
успехам такого талантливого и прилежного ученика.
Но взрослый друг схватил его за шиворот, поднял в воздух и принялся
безжалостно шлепать. И не раз, не два, а несколько десятков раз кряду
опустилась лапа Фрама на спину малыша.
Тот корчился, рычал, скулил. Но Фрам продолжал тузить его, пока не
устал. Потом повернул его к себе мордой и влепил ему дюжину оплеух.
Когда же он наконец отпустил медвежонка, Непоседа плюхнулся на снег,
как мешок, и не мог даже скулить.
-- Понял теперь? -- гневно урчал Фрам. -- Можешь делать все, что тебе
угодно. Устраивай свою жизнь по здешним законам. Но не превращайся в такого
же клоуна, как я! Этого я ни за что не допущу. Одного паяца довольно
Заполярью!
Медвежонок ползал у его ног, ластился к нему, просил прощения, сам не
зная за что.
Потом, испуганный, побрел вслед за Фрамом, сохраняя почтительное
расстояние. Остановится Фрам, остановится и он. Двинется Фрам вперед,
двинется и он.
Медвежонку хотелось умилостивить своего взрослого друга, добиться
прощения, но за что?
Протоптанная ими в снегу стежка вела к берегу.
Фрам шел, задумчиво опустив голову.
В нем созрело решение. Он принял его не без горечи: предстояло
расстаться с единственным существом его племени, с которым он сблизился в
этой пустыне. Но так будет лучше для медвежонка. Непоседа будет предоставлен
самому себе. Смышленый, отважный, вполне подготовленный к самостоятельной
жизни в родном краю, он со временем станет хорошим охотником. Это видно уже
сейчас.
Оставшись с ним, малыш наверняка превратится в клоуна. В никчемного
медведя, глупого Августина полярных льдов.
Фрам ускорил шаг.
Сверху, с высокого берега, перед ним открывался необъятный зеленый
океан, по которому плыли к горизонту, из неизвестности в неизвестность, как
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, большие и малые
льдины.
Одна такая льдина причалила к берегу и зацепилась за выступ скалы,
раскачиваясь на волнах, готовая уплыть дальше. Она, казалось, ждала его.
Фрам, не оборачиваясь, соскользнул вниз, прыгнул на нее и оттолкнулся
лапой от скалы.
Льдина качнулась, повернулась, подхваченная течением, вышла в открытое
море и устремилась туда, куда плыли остальные ледяные галеры без парусов,
без руля и без гребцов. На ней, повернувшись спиной к острову, плыл
одинокий, взъерошенный белый медведь.
Наверху, на высоком берегу, бегал взад и вперед, скуля и вытягивая шею,
медвежонок. Он звал Фрама назад, просил взять его с собой.
Но Фрам, белый, как его льдина, не оборачивался.
Малыш остановился, слившись с ледяным берегом. Он уже не жаловался, а
только смотрел вслед уплывавшей льдине и белой тени на ней. Она становилась
все меньше и меньше, пока наконец на растаяла на зеленой линии горизонта.
XIV. ФРАМ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ДРУГОМ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Через некоторое время медвежонок начал проявлять беспокойство и страх.
Его молодое обоняние, не притупленное жизнью среди людей и обитателей
циркового зверинца, обоняние свободного дикого зверя почувствовало
приближение опасности. Непоседа узнал запах медведя, который гнался за ним и
убил его мать. Фрам замедлил шаг.
Луна проливала на все вокруг таинственный холодный свет, такой чистый и
прозрачный, какой бывает только в полярных краях.
На голубом снегу, как рисунок на бумаге, четко обозначался каждый след.
Местами следы сопровождались пятнами крови.
Медвежонок тихонько заскулил. Фрам закрыл ему пасть лапой. Малыш понял
и смолк.
Теперь Фрам бесшумно крался длинным упругим шагом, как бенгальские
тигры, когда они приближаются к добыче.
Он опустил малыша на снег и, потеревшись носом о его мордочку, тихонько
проурчал ему на ухо то, что на человеческом языке означало бы примерно:
-- Сиди смирно, малыш! И чтоб я тебя не слышал! Жди!.. Ручаюсь, тебе
понравится то, что ты увидишь...
Медвежонок, конечно, не понимал чужого языка, на котором Фрам
объяснялся с людьми. Да и сам Фрам, возможно, сказал не совсем то что мы
передали, то есть именно этими самыми словами: при всей своей выучке, он все
же не обладал даром слова, да и ум у него не мог рассуждать по-человечески.
Тем не менее медвежонок замер на месте. Для нашей повести этого
достаточно.
Не шевелясь, затаив дыхание, он прислушивался к тиканью своего сердца.
Фрам обогнул отвесный утес с подветренной стороны, чтобы легкий ветерок
на мог его выдать, и неожиданно предстал на задних лапах перед
медведем-убийцей.
Тот поднял на него скорее удивленные, чем сердитые глаза, заворчал и
замотал головой. Может быть, в эту минуту он чувствовал некоторое презрение.
Он видел, что Фрам худой и облезлый, отощавший от голода. Сам же он был
гладкий и сильный и только что попробовал свои силы, расправившись с
медведицей. Ему было противно связываться с таким дохлым медведем.
В его глухом рычании слышалось приказание облезлому убираться
подобру-поздорову. И пусть считает себя счастливым, что дешево отделался --
застал его в хорошем настроении.
Но Фрам, казалось, не понял угрозы. Он приближался молча, не выказывая
никаких признаков робости и не торопясь, потирал передние лапы одну о другую
и даже прихлопывал в ладоши, как он делал на арене цирка, когда приглашал
охотников помериться с ним силами в борьбе или боксе.
Такой самонадеянности медведь-убийца еще не видывал. Надо было
немедленно наказать нахала.
Он уперся всеми лапами и устремился головой в брюхо Фрама --
безошибочный прием, который всегда опрокидывает противника. На этот раз,
однако, голова не встретила на своем пути ничего: вместо вражеского брюха
она ударила мимо. Фрам завертелся волчком и теперь ждал, что будет дальше.
Убийца ткнулся носом в снег, поднялся, отряхнулся и с гневным ревом
пошел на противника на задних лапах, намереваясь охватить его и перегрызть
ему горло -- словом, покончить с ним в два счета.
Фрам подпустил его совсем близко, немного отступил, прикинувшись
испуганным, потом неожиданно ударил снизу вверх под подбородок, как его
учили в цирке: бац! Злодей прикусил язык. От ярости и боли у него помутнело
в глазах.
Он завыл и вытянул лапы, чтобы обнять Фрама за шею, но подножка и удар
в брюхо повалили его мордой в снег. Фрам вскочил ему на спину, вцепился
обеими лапами в загривок и принялся мерно колотить его носом об лед: один
раз, два, три, десять раз, двадцать...
Напрасно извивался противник, выл, пытался подняться и стряхнуть с себя
Фрама. Глаза его слезились, голова шла кругом, сил с каждым ударом
становилось все меньше.
Из-за утеса медвежонок со страхом глядел на этот невиданный поединок,
не подходивший ни под какие правила Заполярья. Не удержавшись, он тоже
бросился в бой и принялся кусать убийцу за лапы, рвать ему шубу. Хотелось
поскорей увидеть его мертвым на льду, как лежала его мать с потухшими
глазами и иссякшим источником молока.
Фрам, однако, таких жестоких намерений как будто не имел. Ему хотелось
только вывести противника из строя и немного притупить ему клыки. Это,
видно, ему вполне удалось, потому что нескольких клыков тот потом не
досчитался.
Сочтя свой долг выполненным, Фрам слез со спины убийцы.
Дикарь бросился было кусаться, но Фрам схватил его за загривок,
завертел и ударил мордой об гранитный утес. Едва очухавшись, тот зарычал и
снова ринулся в бой.
Фрам повторил маневр. Три раза кряду кидался на него убийца и три раза
прикладывался в том же месте к гранитной стенке, пока, наконец, ему стало не
до драки.
Он лежал, скорчившись, тер лапами окровавленную морду и ревел, не
понимая, что с ним произошло.
Фрам подозвал Непоседу, и они отправились дальше.
А за ними в ночном безмолвии еще долго раздавались вой и стоны медведя
с выбитыми зубами.
Но Фрам их не слушал: он поступил так, как считал справедливым.
Однако глаза семенившего рядом с ним медвежонка, казалось, спрашивали
его с удивленным недоумением:
-- Почему ты не убил его, как он убил маму? Что это за драка?! Какой же
ты после этого медведь? Никогда не видел такой драки и таких медведей!..
Подняв морду и принюхавшись к ветру, Непоседа вдруг радостно заурчал.
-- В чем дело? -- спросил Фрам на своем языке, ласково подталкивая его
мордой. -- Что ты там учуял?
-- Что-то вкусное... Мясо... Сало! -- ответило урчание Непоседы. В
ледяной пустыне медвежонок оказался более подготовленным к вольной и опасной
жизни, чем Фрам. Он быстрее улавливал доносимый ветром запах дичи. Быстрее
чувствовал опасность.
Нюх Фрама был слабее и нередко обманывал его. Обоняние его притупили в
зверинце запахи сотни разных зверей. Из-за этого и по многим другим причинам
он жестоко страдал теперь от голода и чувствовал себя в Заполярье, как
последний нищий.
Фрам брел, задумчиво покачивая головой. Медвежонок торопил его, теребя
зубами за шкуру:
-- Ну же, дядя! Дождешься, что нас опередят другие! Не пойму, что ты за
медведь!..
Когда запах еды усилился, Непоседа помчался вперед, спотыкаясь, падая и
снова поднимаясь.
Чуткий нос его не обманул...
На скалистом склоне берега, где зияло устье пещеры, лежала громадная
мерзлая туша моржа: припрятанная добыча. А в самом устье пещеры оказалась
еще одна, обе едва тронутые. Только голова и шея были обглоданы. Зимние
запасы хозяйственного и бережливого медведя.
-- Кажется, мы набрели на кладовую Щербатого! -- весело проурчал Фрам.
-- Вот это удача! На ночь -- то есть на зиму -- нам с тобой хватит с
избытком.
Медвежонок не стал дожидаться приглашения и набросился на одну из туш
своими маленькими, еще молочными зубами, пытаясь порвать ее толстую,
замерзшую, блестящую шкуру. Но его зубки скользили, как по стеклу. Малыш
валился через голову, вставал, снова ворча и сопя принимался то за одну
тушу, то за другую, потом карабкался на них: недаром его звали Непоседой!
Он издавал сердитые, жадные звуки. Слушая их, можно было подумать, что
медвежонок собирается в один присест сожрать обе огромные туши -- сотни
килограммов мяса и сала. Но зубы его ничего не могли ухватить, и Непоседа то
и дело скатывался кувырком в снег.
-- Вот так история! -- проурчал он наконец, усевшись на снег и глядя на
Фрама. -- Научи меня, как быть! Я выбился из сил!
Вид у него был такой жалкий и огорченный, а озорная мордашка такая
симпатичная, что Фрам решил научить его одной хитрости, которую сам он
перенял у людей и которая могла пригодиться малышу в будущем.
Он начал с того, что вырвал когтями два куска мяса из брюха одного из
моржей. Два замерзших, твердых, как камень, куска. Потом улегся на них,
согревая их своей шерстью. Медвежонок глядел на него, ничего не понимая.
Пробовал сунуться мордой под брюхо Фраму: он еще никогда не видел белого
медведя в роли наседки.
Немного погодя Фрам достал из-под себя размякшее, теплое мясо. И
Непоседа вынужден был честно признаться, что его взрослый друг не только
добряк и первоклассный борец, но еще знает множество всяких штук, одна
другой хитрее, каких еще не видывали медведи Заполярья.
Оба наелись до отвала. Облизав себе морду, Непоседа поднялся на задние
лапы и спросил глазами:
-- Ну, дядя? Теперь куда?
Но Фрам еще не закончил выучки. Кое-что малышу еще следовало
показать...
Он вошел в пещеру и тщательно ее обследовал. Она показалась ему
подходящим убежищем, удобным для хранения провизии. С трудом перетащив
моржовые туши, он сложил их в глубине пещеры и придвинул к ее устью тяжелую
ледяную глыбу. Теперь у них была дверь.
-- А теперь пора и отдохнуть... Видишь, и луна заходит!
-- А мне спать совсем не хочется! -- заявил на своем языке Непоседа.
-- Хочется -- не хочется, пока ты со мной, мое слово -- закон! Усвой
раз навсегда!..
Проворчав это, Фрам схватил медвежонка за загривок, пятясь, втащил его
в берлогу и задвинул за собой ледяную глыбу.
Через пять минут медвежонок храпел, уткнувшись мордочкой в косматое
брюхо Фрама.
Так завязалась их дружба, которая продлилась всю полярную ночь.
Провизии у них было вдоволь. Когда бушевала пурга, они загораживали
устье берлоги ледяной глыбой, а когда в проясневшем небе снова показывалась
луна, выходили на разведку.
Им дважды встречался медведь-убийца. Он брел шатаясь, худой, отощавший.
Завидев Фрама с медвежонком, он тотчас же прятался за скалы.
Урока повторять не пришлось. Возможно, Щербатый встречался за это время
с другими медведями, может, даже дрался с ними и понял, что сила его
потеряна навсегда, вместе с зубами.
Но вот небо начало понемногу светлеть. Звезды растаяли одна за другой.
На востоке появилась огненная полоска. Приближалось полярное утро, весна.
Непоседа подрос и окреп. Кругленький, в теплой зимней шубке, он
резвился без угомону. Однако из повиновения своего взрослого, умного и
доброго друга не выходил.
Лишь только, бывало, заслышит его призывное урчание, сейчас прибежит и
замахает у его ног своим смешным коротеньким хвостиком.
Медвежонок оказался на редкость смышленым. Видно было, что из него со
временем получится первостатейный охотник. Несколько раз, почуяв песцов,
привлеченных запахами берлоги, он смело вступал с ними в бой и получал
хорошую встрепку. Доставалось от его клыков и песцам. Так или иначе, но они
больше не возвращались.
Однажды утром, уже в преддверии весны, разразилась пурга и пробушевала
целую неделю.
Когда ветер улегся и дали очистились, над горизонтом поднялось в
медвежий рост солнце. Подул ласковый, теплый ветерок. Ледяной покров океана
взломался, оставив у берега глубокие зеленые разводья.
Прилетели первые полярные крачки, потом первые серебристые и сизые
чайки. Прилетели и те редкостные птицы, которых называют чайками Росса -- с
голубой спинкой, розовым брюшком и черным бархатным ободком вокруг шейки.
Возвращаясь с побережья, Фрам с медвежонком в третий раз встретили
медведя-убийцу.
Он превратился в тень. Едва плелся, то и дело падая, поднимался и,
сделав несколько шагов, снова падал.
Завидев Фрама и Непоседу, он не выказал прежнего страха. Даже не
попытался удрать.
Ему теперь было все равно.
Он, вероятно, тащился к своему прежнему логову, в пещеру, чтобы уснуть
там вечным, беспробудным сном.
Медвежонок накинулся на него с грозным рычанием, принялся кусать и
рвать его шкуру: старый долг еще не был выплачен сполна. Вместо того чтобы
защищаться, Щербатый покачнулся, ища глазами, куда бы лечь.
Поведение Фрама навсегда осталось непонятным медвежонку. Он с сердитым
рычанием одним движением лапы отшвырнул Непоседу от его жертвы, поднял за
шиворот и посадил на высокую скалу -- обычное место Непоседы. Затем знаком
приказал ему сидеть смирно, а не то не миновать взбучки.
Потом направился к Щербатому.
Убийца лежал с закрытыми глазами, положив морду на вытянутые лапы.
Зная, какой способ борьбы предпочитает этот чудак, он не сомневался, что его
сейчас схватят за загривок и начнут колотить мордой об лед.
Но лапа Фрама не схватила его, не встряхнула, не ударила об лед, а
только легонько толкнула. Щербатый застонал, прося пощады.
-- Вставай! -- проворчал Фрам. -- Пора сообразить, что я тебя не трону.
Поднимайся и иди за мной!
Щербатый дрожал, не открывая глаз, и жалобно скулил. Фрам сгреб его,
взвалил себе на спину и точно так же, как таскал когда-то, под хохот
галерки, вокруг арены глупого Августина, отнес Щербатого в берлогу, к
остаткам моржовых туш. Там он положил его мордой к мерзлому мясу. Щербатый
со стоном открыл глаза. Порванные ноздри его расширились, он облизал
разбитый нос и попробовал было откусить кусок, но беззубые десна только
скользнули по мясу. Он уже не мог встать на ноги и откусить хороший кус,
тряся головой, как прежде, когда у него были все зубы.
Фрам оттолкнул его. Щербатый испуганно съежился и застонал. То, что он
увидел, было превыше его понимания.
Ученый циркач оторвал когтями кусок моржовой туши и, чтобы согреть его,
сунул себе под брюхо. Потом, когда мясо достаточно размякло, положил его
голодному Щербатому под нос. Тот принялся медленно жевать, как жуют беззубые
старики. Он не знал, что ожидает его дальше, но пока что свершилось чудо:
его кормят! Он получил теплый, мягкий кусок моржатины из лап того, от кого
он ожидал смерти.
Кончив есть, он поднял на Фрама испуганные глаза.
-- Чего тебе еще? -- проворчал тот, теряя терпение. -- Уж не
воображаешь ли ты, что я буду нянчиться с тобой всю жизнь? Научился
обращаться с мерзлым мясом и ступай себе подобру-поздорову!
Фрам направился к выходу из берлоги.
Щербатый оторопело глядел ему вслед. Вероятно, он принял все, что было,
за хитрость и боялся, как бы этот чудной медведь не вернулся и не перегрыз
ему глотку.
У входа в пещеру Фрам нашел медвежонка, который старался подглядеть,
что происходит внутри. Фрам не обратил на это никакого внимания, -- забыл,
что велел Непоседе смирно сидеть на скале, куда сам посадил его. В отличном
настроении, он знаком приказал медвежонку собираться в дорогу.
Берлогу они оставили Щербатому.
Пришла весна. Места было довольно для всех. Где-нибудь найдется логово
и для них.
Сначала они шли рядом. Но медвежонок то и дело оглядывался и стал
понемногу отставать. Фрам долго ничего не замечал, а когда хватился,
медвежонка уже с ним не оказалось. Он остановился... Принялся звать его,
сердито рыча... Никакого ответа! Тогда он пошел обратно по маленьким следам,
ускоряя шаг по мере того, как ему становилось ясно, куда они ведут. Им
овладела тревога.
Следы терялись в устье берлоги.
Фрам прислушался. Тишина... Это не обрадовало, а еще больше встревожило
его. Он кинулся в берлогу.
Медвежонок преспокойно облизывался. Щербатый лежал с вытаращенными
глазами и перегрызенным горлом.
Медвежонок расправился с ним по закону диких медведей Заполярья.
У малыша был старый должок, и он его уплатил.
А теперь облизывал себе морду.
В первую минуту Фраму захотелось задать ему хорошую трепку, чтобы тот
запомнил ее на всю жизнь, как Фрам помнил трепки, которые он сам, тогда еще
глупый медвежонок, получал от дрессировщика цирка Струцкого. Он даже занес
было лапу, но глаза Непоседы выражали такую невинную гордость, что лапа
Фрама повисла в воздухе.
Он опустил ее, не тронув медвежонка.
Дальнейшую судьбу свою медвежонок нашел сам, и она была такой, какой и
должна была быть в этих суровых местах. Жизнь для него едва лишь начиналась.
Ей предстояло быть долгой и протечь здесь, в стране вечных льдов, по законам
Заполярья.
Фрам подтолкнул его сзади лапой и угрюмо проворчал:
-- Ну, потешил себя! Теперь ступай...
Выходя, оба оглянулись на труп убийцы, растянувшийся возле остатков
моржовых туш.
Взгляд Фрама выражал почти человеческие чувства.
Глаза медвежонка сияли гордостью.
Они долго скитались по острову. Им не раз попадались Другие медведи,
уплетавшие свежепойманных в разводьях тюленей. Пользуясь испытанными
приемами, избавлявшими его от драки, укусов и переломанных костей, Фрам
неизменно оставался хозяином поля. Он поднимался на задние лапы, козырял,
прыгал через голову, ходил колесом, проделывал сальто-мортале; и дикий
медведь пускался наутек. Потом, отбежав подальше, останавливался и изумленно
оглядывался на чудовище.
С неменьшим изумлением смотрел на Фрама и медвежонок.
То, что он видел, превосходило все, чему научился от своего взрослого
друга с такими странными повадками.
Повадки эти нравились ему. В них было что-то веселое, невиданное и в то
же время устрашающее даже для самых могучих белых медведей, которых Фрам
обращал в бегство без особых для себя хлопот. Это было какое-то колдовство.
Приложенная к виску лапа, сальто-мортале, колесо, несколько плавных движений
вальса и, пожалуйста!.. Обед готов!
Они вдоволь наедались и уходили, оставляя излишки хозяевам. Знали, что
в другом месте найдут другой такой же дешевый и сытный обед. Медведей на
острове было много.
И все они, наверное, были опытными, искусными охотниками. Друзьям не
грозила голодовка.
Принюхиваясь поднятым по ветру носом, медвежонок первым сигналил о
близости еды. Потом поглядывал украдкой на Фрама, пытаясь разгадать, в чем
заключается его таинственная сила, обращавшая в бегство самых больших и
могучих медведей. Непоседе все это казалось ужасно забавным.
Он весело смотрел вслед удиравшему с непроглоченным куском медведю,
наблюдая, как беглец останавливается и с удивлением оглядывается на
диковинное и страшное существо, способное на такие штуки.
Солнце между тем не спеша продвигалось к середине неба.
И снова по освободившемуся от ледяного покрова океану поплыли на юг,
как таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, ледяные горы.
Иногда Фрам останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу
вглядывался в дали. Потом переводил взор на стоявшего рядом медвежонка и
назад, на полный медведей и дичи остров. И с каждым разом его все сильнее
грызла тоска, еще невнятная и безотчетная.
Однажды под берегом, у своих ног, на широком и плоском, омытом прибоем
камне они увидели гревшегося на солнце детеныша тюленя. Маленького,
круглого, блестящего. Его подсадила туда мордой мать, а сама нырнула в
зеленую пучину за живым кормом для него же.
Непоседа вскинул глаза на Фрама. Потом глянул вниз и начал проявлять
нетерпение.
Перехватив удивленный взгляд невинных круглых глаз тюлененка, Фрам
отвернулся. Он знал наперед, что произойдет, но ничего поделать не мог.
Непоседа проворно соскользнул с утеса на своих белых панталонах, как на
салазках. Внизу он одним прыжком очутился на ничего не подозревавшем
детеныше тюленя, и череп жертвы хрустнул под его молодыми острыми клыками.
У берега билась старая тюлениха, стараясь короткими толчками ластов
выбраться из воды на помощь детенышу. Когда ей наконец это удалось, Непоседа
уже был высоко, на половине подъема: волочил за собой добычу.
Мать жалобно застонала. А медвежонок с довольным урчанием принялся за
еду: он праздновал свой первый охотничий успех.
Потом облизываясь, сытый и гордый, завертелся вокруг Фрама.
Фрам же старался не глядеть на него, чувствуя в эту минуту, как что-то
навсегда отдалило его от маленького жестокого друга, бессознательно
жестокого, потому что закон ледяной пустыни требовал жестокости.
Вскоре у Фрама появилась новая причина для серьезных размышлений. И на
этот раз решающая.
Он спал, растянувшись на солнце, и видел, как всегда теперь, сон о
далеком, покинутом им человеческом мире.
Непоседа куда-то запропастился. Когда Фрам засыпал, медвежонок улегся с
ним рядом. Теперь его не было.
Хрустнув суставами, Фрам поднялся и принялся за поиски. Глянул направо
-- нету, налево -- нету. Он спустился в распадок, где по ледяному дну
сочилась тоненькая струйка талой воды, и остановился, ошеломленный.
Непоседа спрятался здесь, чтобы беспрепятственно разучивать цирковые
номера Фрама. Отдавал честь, танцевал вальс, добросовестно старался
проделать сальто-мортале. Падал с разбегу то на нос то на спину. Неудачи не
останавливали его. Он упрямо повторял все сызнова и опять катился кубарем по
льду.
Почувствовав на себе взгляд Фрама, медвежонок радостно заурчал.
Возможно, он ждал от него похвалы, и двинулся навстречу ему на задних лапах,
комично раскланиваясь и кружась в вальсе. Потом остановился и козырнул,
приложив лапу к виску. Его взрослый друг, думал он, не мог не порадоваться
успехам такого талантливого и прилежного ученика.
Но взрослый друг схватил его за шиворот, поднял в воздух и принялся
безжалостно шлепать. И не раз, не два, а несколько десятков раз кряду
опустилась лапа Фрама на спину малыша.
Тот корчился, рычал, скулил. Но Фрам продолжал тузить его, пока не
устал. Потом повернул его к себе мордой и влепил ему дюжину оплеух.
Когда же он наконец отпустил медвежонка, Непоседа плюхнулся на снег,
как мешок, и не мог даже скулить.
-- Понял теперь? -- гневно урчал Фрам. -- Можешь делать все, что тебе
угодно. Устраивай свою жизнь по здешним законам. Но не превращайся в такого
же клоуна, как я! Этого я ни за что не допущу. Одного паяца довольно
Заполярью!
Медвежонок ползал у его ног, ластился к нему, просил прощения, сам не
зная за что.
Потом, испуганный, побрел вслед за Фрамом, сохраняя почтительное
расстояние. Остановится Фрам, остановится и он. Двинется Фрам вперед,
двинется и он.
Медвежонку хотелось умилостивить своего взрослого друга, добиться
прощения, но за что?
Протоптанная ими в снегу стежка вела к берегу.
Фрам шел, задумчиво опустив голову.
В нем созрело решение. Он принял его не без горечи: предстояло
расстаться с единственным существом его племени, с которым он сблизился в
этой пустыне. Но так будет лучше для медвежонка. Непоседа будет предоставлен
самому себе. Смышленый, отважный, вполне подготовленный к самостоятельной
жизни в родном краю, он со временем станет хорошим охотником. Это видно уже
сейчас.
Оставшись с ним, малыш наверняка превратится в клоуна. В никчемного
медведя, глупого Августина полярных льдов.
Фрам ускорил шаг.
Сверху, с высокого берега, перед ним открывался необъятный зеленый
океан, по которому плыли к горизонту, из неизвестности в неизвестность, как
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, большие и малые
льдины.
Одна такая льдина причалила к берегу и зацепилась за выступ скалы,
раскачиваясь на волнах, готовая уплыть дальше. Она, казалось, ждала его.
Фрам, не оборачиваясь, соскользнул вниз, прыгнул на нее и оттолкнулся
лапой от скалы.
Льдина качнулась, повернулась, подхваченная течением, вышла в открытое
море и устремилась туда, куда плыли остальные ледяные галеры без парусов,
без руля и без гребцов. На ней, повернувшись спиной к острову, плыл
одинокий, взъерошенный белый медведь.
Наверху, на высоком берегу, бегал взад и вперед, скуля и вытягивая шею,
медвежонок. Он звал Фрама назад, просил взять его с собой.
Но Фрам, белый, как его льдина, не оборачивался.
Малыш остановился, слившись с ледяным берегом. Он уже не жаловался, а
только смотрел вслед уплывавшей льдине и белой тени на ней. Она становилась
все меньше и меньше, пока наконец на растаяла на зеленой линии горизонта.
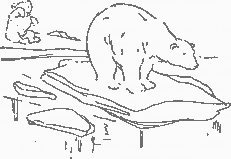 * * *
* * *
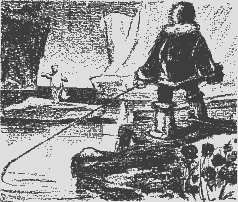 XV. НАНУК
Океан был пепельно-зеленым, студеным и страшным. О приветливой, веселой
синеве теплых морей в нем не было и помина.
Даже при ослепительном свете полярного солнца во время полугодового
полярного дня красота Ледовитого океана остается суровой, дикой и полной
тревоги. Так, по крайней мере, говорят все побывавшие там путешественники.
На сколько бы времени их ни заносило в эти неприютные просторы, вначале
их всегда поражало необыкновенное величие редкого зрелища. Его новизна. Его
трепетная красота. Неподвижно стоящее в небе солнце. Лучи, играющие на
серебряной ряби. А кругом ровный, водный горизонт, без единой полоски суши.
Не видно ни корабля, ни лодки. Нигде ни души. Лишь безбрежность зеленых
вод, по которым, влекомые течением, скользят к югу ледяные горы --
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов.
И редко когда от одного края горизонта до другого перечеркнет небо,
шелестя крыльями, станица невесть откуда и куда летящих птиц.
Во всем этом есть красота. Непонятная, тревожная.
Вначале путешественник заворожен. Но уже через неделю красота эта
начинает тяготить его, нагнетая в душу безысходную жуть. Превращается в
муку, в давящий кошмар.
Все то же неподвижное солнце среди неба. Все то же сверкание лучей в
чешуйках ряби. Все те же пустынные дали. Все те же льды, плывущие из одной
неизвестности в другую.
Утомленный однообразием этого зрелища глаз требует перемены.
Хоть бы увидеть корабль или сушу! Хоть бы услышать человеческий голос!
Пристать бы сейчас к берегу с теплым, мягким песком, с садами, где звенят
соловьиные трели! Несбыточная мечта!
Здесь суровая пустыня Ледовитого океана.
Здесь властвуют одиночество и мороз. Угнетает даже ослепительный свет.
Хочется другого освещения: утреннего, закатного, осеннего, весеннего, а не
этого вечного полдня с пригвожденным к голубому небосводу солнцем, холодным,
сверкающим, зубастым.
А если здесь и бывают перемены, то только к худшему: шторм, пурга или
туман.
Тогда небо окутывается снежной пеленой. Плавучие льды возникают из
тумана и снова исчезают, как призраки, как тени из мира теней.
Именно такой непроглядный туман скрыл солнце, когда Фрам уплывал на
своей льдине. Он опустился внезапно, окружил льдину, заволок небо, спрятал
дали. Белый, непроницаемый, ватный полог, который заглушил даже плеск воды.
Фрам свернулся клубком на своем ледяном ложе и закрыл глаза, безразличный ко
всему на свете.
В туман ли, в ясную ли погоду, плавучая льдина одинаково понесет его к
другим пустынным просторам. Ему хотелось надолго заснуть и проснуться у
зеленого берега, с лужайками и цветами, с людьми и музыкой, с аллеями в
парках, где играют на желтом песке, гоняясь за серсо, дети в белом, синем,
красном.
Но это было возможно разве что во сне.
Во сне Фрам видел себя снова посреди арены в цирке Струцкого. Ему
кричат: "Браво!", аплодируют. Он снова со своим закадычным другом, глупым
Августином. Они соревнуются в сальто-мортале. Парик клоуна кирпичного цвета,
а нос похож на спелый помидор. И снова ласковая, дружеская рука гладит его
белую шкуру, и он понимает все, что ему говорят. Видит, как нежные детские
пальчики робко протягивают ему корзиночку с леденцами. Он знаками подзывает
другого малыша и делится с ним гостинцем. Да, там его любили и понимали. А
здесь неизвестно куда занесет его влекомая течением льдина.
Позади остался маленький, смешной, верный и шустрый друг. Фрам бросил
его, чтобы не нарушать распорядка той жизни, для которой был рожден
медвежонок: простой, дикой и суровой, управляемой законами Заполярья. Теперь
он опять один как перст. Пристанет ли к острову его льдина через час или
через неделю, он знал, что жизнь в этих пустынях будет для него повсюду одна
и та же. Везде он будет глупым Августином в медвежьем обличье. Клоуном,
которого ждет одинокая старость. Несчастным шутом, которому нельзя иметь
друга, потому что те, с кем ему захочется подружится, переймут его цирковые
номера. Они не станут учеными медведями, но перестанут быть дикими, будут ни
то, ни се.
Фрам дремал на плавучей льдине, среди обступившего его со всех сторон
тумана -- не то грезил, не то видел сны.
Иногда из гущи тумана возникала и оставалась позади громадная тень.
Может быть, суша, а может, другая льдина, еще тяжелее, еще больше той, на
которой он плыл. Лежа с полузакрытыми глазами, Фрам не ощущал необходимости
встать и дойти до края своего ледяного корабля, чтобы лучше рассмотреть, что
он оставил позади.
Он дремал, мечтая о далеком мире, о людях, о городах с ярко освещенными
улицами.
Когда туман рассеялся и снова показалось солнце, Фрам обвел
безрадостным взором горизонт. Он был по-прежнему пустынным. Ни одной
окутанной дымкой полоски -- далекого острова, ни одного утеса над зеленой
водой, ничего! Ну и пускай! Даже если бы вдали и показались очертания
неведомого острова, что доброе ждало бы его там?
Плавучие льды редели. Часть их рассеялась в океанских просторах, часть
отстала, иные уплыли вперед.
Океан стал еще пустыннее. Фрам почувствовал себя еще более одиноким.
Повернувшись на другой бок, он заснул.
Прошло немало времени, пока его не разбудил сильный толчок, оборвавший
чудесный сон. Ему хотелось, чтобы этот сон никогда не кончился, настолько он
был прекрасен.
Первым делом Фрам лениво зевнул. Потянулся. Потом открыл глаза --
посмотреть, что случилось. Глаза изумленно расширились. Он поднялся.
Льдина его вошла в глубокий, узкий фиорд с высокими берегами. Такого он
еще никогда не видывал за все свои скитания по северным пустыням.
Справа и слева высились, похожие на хрустальные стены, отвесные ледяные
берега. Они отражались в лежавшей между ними узкой полоске тихой воды, и
поэтому казалось, что в ней затонули другие такие же хрустальные стены.
Сквозь прозрачный лед этих стен струился мягкий иссиня-зеленый
сказочный свет. И никак нельзя было понять, откуда он. Сверху, из небесной
лазури? Снизу, отраженный зеркалом фиорде? Или же это -- сверкание льдов?
Возможно, все вместе... Разные источники света, слитые воедино, как нежное,
успокоительное освещение осеннего дня в теплых странах, когда в воздухе
разлита беспричинная, сладостно-щемящая грусть, грусть близкого конца...
Льдина занесла Фрама в один из самых живописных уголков мира, тех чудес
природы, ради которых люди едут за тридевять земель с фотографическими
аппаратами или натянутым на подрамник холстом; чудес, о которых пишут книги,
сказки и поэмы.
Но красота эта, как и все, что Фрам видел за последнее время в полярных
пустынях, не вызвала у него никакого восторга. От былого нетерпения, с
которым он так жадно разглядывал с палубы парохода первый представший его
взору остров, не осталось и следа. Красотой не заменишь ни обеда, ни тепла.
Еще один пустынный остров -- только и всего!.. Высоко, между
хрустальных стен, виднелось небо. И то же небо повторялось опрокинутым в
неподвижной глади фиорда.
Очень красиво, а какая польза?
Но раз уже льдина занесла его сюда, Фрам решил обследовать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
XV. НАНУК
Океан был пепельно-зеленым, студеным и страшным. О приветливой, веселой
синеве теплых морей в нем не было и помина.
Даже при ослепительном свете полярного солнца во время полугодового
полярного дня красота Ледовитого океана остается суровой, дикой и полной
тревоги. Так, по крайней мере, говорят все побывавшие там путешественники.
На сколько бы времени их ни заносило в эти неприютные просторы, вначале
их всегда поражало необыкновенное величие редкого зрелища. Его новизна. Его
трепетная красота. Неподвижно стоящее в небе солнце. Лучи, играющие на
серебряной ряби. А кругом ровный, водный горизонт, без единой полоски суши.
Не видно ни корабля, ни лодки. Нигде ни души. Лишь безбрежность зеленых
вод, по которым, влекомые течением, скользят к югу ледяные горы --
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов.
И редко когда от одного края горизонта до другого перечеркнет небо,
шелестя крыльями, станица невесть откуда и куда летящих птиц.
Во всем этом есть красота. Непонятная, тревожная.
Вначале путешественник заворожен. Но уже через неделю красота эта
начинает тяготить его, нагнетая в душу безысходную жуть. Превращается в
муку, в давящий кошмар.
Все то же неподвижное солнце среди неба. Все то же сверкание лучей в
чешуйках ряби. Все те же пустынные дали. Все те же льды, плывущие из одной
неизвестности в другую.
Утомленный однообразием этого зрелища глаз требует перемены.
Хоть бы увидеть корабль или сушу! Хоть бы услышать человеческий голос!
Пристать бы сейчас к берегу с теплым, мягким песком, с садами, где звенят
соловьиные трели! Несбыточная мечта!
Здесь суровая пустыня Ледовитого океана.
Здесь властвуют одиночество и мороз. Угнетает даже ослепительный свет.
Хочется другого освещения: утреннего, закатного, осеннего, весеннего, а не
этого вечного полдня с пригвожденным к голубому небосводу солнцем, холодным,
сверкающим, зубастым.
А если здесь и бывают перемены, то только к худшему: шторм, пурга или
туман.
Тогда небо окутывается снежной пеленой. Плавучие льды возникают из
тумана и снова исчезают, как призраки, как тени из мира теней.
Именно такой непроглядный туман скрыл солнце, когда Фрам уплывал на
своей льдине. Он опустился внезапно, окружил льдину, заволок небо, спрятал
дали. Белый, непроницаемый, ватный полог, который заглушил даже плеск воды.
Фрам свернулся клубком на своем ледяном ложе и закрыл глаза, безразличный ко
всему на свете.
В туман ли, в ясную ли погоду, плавучая льдина одинаково понесет его к
другим пустынным просторам. Ему хотелось надолго заснуть и проснуться у
зеленого берега, с лужайками и цветами, с людьми и музыкой, с аллеями в
парках, где играют на желтом песке, гоняясь за серсо, дети в белом, синем,
красном.
Но это было возможно разве что во сне.
Во сне Фрам видел себя снова посреди арены в цирке Струцкого. Ему
кричат: "Браво!", аплодируют. Он снова со своим закадычным другом, глупым
Августином. Они соревнуются в сальто-мортале. Парик клоуна кирпичного цвета,
а нос похож на спелый помидор. И снова ласковая, дружеская рука гладит его
белую шкуру, и он понимает все, что ему говорят. Видит, как нежные детские
пальчики робко протягивают ему корзиночку с леденцами. Он знаками подзывает
другого малыша и делится с ним гостинцем. Да, там его любили и понимали. А
здесь неизвестно куда занесет его влекомая течением льдина.
Позади остался маленький, смешной, верный и шустрый друг. Фрам бросил
его, чтобы не нарушать распорядка той жизни, для которой был рожден
медвежонок: простой, дикой и суровой, управляемой законами Заполярья. Теперь
он опять один как перст. Пристанет ли к острову его льдина через час или
через неделю, он знал, что жизнь в этих пустынях будет для него повсюду одна
и та же. Везде он будет глупым Августином в медвежьем обличье. Клоуном,
которого ждет одинокая старость. Несчастным шутом, которому нельзя иметь
друга, потому что те, с кем ему захочется подружится, переймут его цирковые
номера. Они не станут учеными медведями, но перестанут быть дикими, будут ни
то, ни се.
Фрам дремал на плавучей льдине, среди обступившего его со всех сторон
тумана -- не то грезил, не то видел сны.
Иногда из гущи тумана возникала и оставалась позади громадная тень.
Может быть, суша, а может, другая льдина, еще тяжелее, еще больше той, на
которой он плыл. Лежа с полузакрытыми глазами, Фрам не ощущал необходимости
встать и дойти до края своего ледяного корабля, чтобы лучше рассмотреть, что
он оставил позади.
Он дремал, мечтая о далеком мире, о людях, о городах с ярко освещенными
улицами.
Когда туман рассеялся и снова показалось солнце, Фрам обвел
безрадостным взором горизонт. Он был по-прежнему пустынным. Ни одной
окутанной дымкой полоски -- далекого острова, ни одного утеса над зеленой
водой, ничего! Ну и пускай! Даже если бы вдали и показались очертания
неведомого острова, что доброе ждало бы его там?
Плавучие льды редели. Часть их рассеялась в океанских просторах, часть
отстала, иные уплыли вперед.
Океан стал еще пустыннее. Фрам почувствовал себя еще более одиноким.
Повернувшись на другой бок, он заснул.
Прошло немало времени, пока его не разбудил сильный толчок, оборвавший
чудесный сон. Ему хотелось, чтобы этот сон никогда не кончился, настолько он
был прекрасен.
Первым делом Фрам лениво зевнул. Потянулся. Потом открыл глаза --
посмотреть, что случилось. Глаза изумленно расширились. Он поднялся.
Льдина его вошла в глубокий, узкий фиорд с высокими берегами. Такого он
еще никогда не видывал за все свои скитания по северным пустыням.
Справа и слева высились, похожие на хрустальные стены, отвесные ледяные
берега. Они отражались в лежавшей между ними узкой полоске тихой воды, и
поэтому казалось, что в ней затонули другие такие же хрустальные стены.
Сквозь прозрачный лед этих стен струился мягкий иссиня-зеленый
сказочный свет. И никак нельзя было понять, откуда он. Сверху, из небесной
лазури? Снизу, отраженный зеркалом фиорде? Или же это -- сверкание льдов?
Возможно, все вместе... Разные источники света, слитые воедино, как нежное,
успокоительное освещение осеннего дня в теплых странах, когда в воздухе
разлита беспричинная, сладостно-щемящая грусть, грусть близкого конца...
Льдина занесла Фрама в один из самых живописных уголков мира, тех чудес
природы, ради которых люди едут за тридевять земель с фотографическими
аппаратами или натянутым на подрамник холстом; чудес, о которых пишут книги,
сказки и поэмы.
Но красота эта, как и все, что Фрам видел за последнее время в полярных
пустынях, не вызвала у него никакого восторга. От былого нетерпения, с
которым он так жадно разглядывал с палубы парохода первый представший его
взору остров, не осталось и следа. Красотой не заменишь ни обеда, ни тепла.
Еще один пустынный остров -- только и всего!.. Высоко, между
хрустальных стен, виднелось небо. И то же небо повторялось опрокинутым в
неподвижной глади фиорда.
Очень красиво, а какая польза?
Но раз уже льдина занесла его сюда, Фрам решил обследовать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
 * * *
* * *
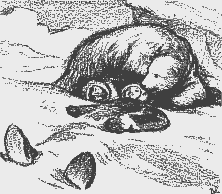 XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ревом перегонявший сугробы с одного
конца в другой. Над островами, разводьями и ледяными полями.
Двое подползли на четвереньках к вздыбленной льдине. Они надеялись
найти здесь убежище. Однако убежище оказалось обманчивым. Пурга заметала их
снегом, люди боролись с ней, стараясь не задохнуться. Но стоило высунуть из
сугроба голову, как в лицо им ударяла тонкая, словно толченое стекло,
колючая снежная пыль и забивала глаза и рот.
Их все больше сковывал мороз.
-- Эгон, ты еще чувствуешь руки?
-- Нет, Отто, давно уже не чувствую. Ни рук, ни ног...
Им приходилось кричать: из-за воя пурги они не слышали друг друга.
Усилие это было мукой для изнуренных, обессилевших людей.
-- Хлопай в ладоши, Эгон! Хлопай, не переставая, в ладоши. Шевели
пальцами, разгоняй кровь! Если кровь застынет -- конец!
Его товарищ только простонал в ответ.
Некоторое время оба молчали.
Слышалась лишь дикая свистопляска пурги, тараном бившей в торос, под
которым они искали защиты, и крутившей смерчи из стеклянистой снежной пыли.
-- Эгон... Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят.
Никогда я их больше не увижу! Никогда... Марии скоро будет два года. Через
две недели... Она забудет слово "папа". Слышишь, Эгон? Она забудет слово
"папа"...
Эгон попробовал ответить, но пурга заткнула ему рот, залепила глаза.
Да и стоило ли говорить? Что он может сказать?
И его дома ждет дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и
думает об отце: "Что-то он теперь делает, мой папа?" Или разучивает
экзерсисы на фортепьяно... Она уже большая. Ей минуло семь. Ходит в школу.
Ее фотография спрятана у него между крышками часов. Но к чему сейчас все эти
воспоминания? Все потеряно! Разумнее просто ждать смерти, потому что
спасение невозможно; оно не может прийти ниоткуда, ни от кого.
Неделю назад под ними вдруг треснул лед. То, что последовало,
приготовило им эту приближавшуюся теперь смерть. Лед словно по велению злых
духов разверзся. Нарты, собак, ружья и патроны, меховые спальные мешки и
мешки с провизией -- все поглотила зеленая пучина океана... В тот же миг
полынья закрылась, а они остались в чем были, в легкой одежде, без оружия,
на пустынном ледяном поле.
Сперва они обменялись полными ужаса взглядами. Смерили глазами дали,
небо с высоко стоявшим солнцем. Потом к ним вернулось мужество -- они были
не из тех, что сдаются без борьбы.
-- До берега двое суток хода, -- сказал Отто. -- Мы шли оттуда двое
суток, не торопясь. Если мы тронемся сейчас же и будем идти, без остановки,
есть надежда дойти. Приключение, как многие другие. Будет о чем рассказывать
дома. Вспомни Нансена. Сколько он вытерпел, в каких только передрягах ни
бывал, а надежды никогда не терял. Небо ясное. Сорокавосьмичасовая прогулка
без еды и без отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, Эгон.
Верно ? Мы с тобой бывали в худших переделках.
Они были закадычными друзьями и занимались охотой на белых медведей.
Уже много лет они охотились вместе в полярных льдах. Жили в разных
городах, а встречались всегда в одном и том же порту перед самым отплытием
на Север. Потом пять, а иногда и шесть месяцев жили жизнью, неизвестной
соотечественникам в далеких городах. Приключения, опасности, общие радости и
успехи связали их тесной дружбой, сделали братьями.
Рыболовное судно доставляло их на остров, где водились белые медведи.
Они построили себе там хижину и из года в год находили ее нетронутой. Она их
ждала. Там у них были теплые меховые постели и вдоволь провизии, были лампы
и книги. Тут же была устроена кладовая шкур, а рядом -- клетка для белых
медвежат.
Корабль высаживал их на берег в начале полярного дня и уходил дальше.
То же судно забирало их на обратном пути со всей добычей: шкурами убитых ими
белых медведей, песцов и черно-бурых лисиц и пойманными ими белыми
медвежатами, которых они потом продавали зоопаркам, зверинцам и циркам. В
редких случаях их доставлял на остров пароход. Это бывало тогда, когда
организовывался туристский рейс вроде того, недавнего, когда они захватили с
собой Фрама и высадили его на пустынном острове по поручению цирка
Струцкого.
Но промысловое судно неизменно заходило за ними и ждало их у острова в
конце каждой полярной осени, перед тем, как начинались вьюги и океан
покрывался ледяным панцирем. В этом году добыча была богаче обычного,
кладовая набита мехами, а в клетке сидели три белых медвежонка.
До прихода корабля оставалось еще две недели. Время проходило
незаметно. Друзья строили планы на те шесть месяцев, которые им предстояло
провести дома, в теплых странах. Там их ждут дети, которым они будут
рассказывать о своих удивительных приключениях. Этим летом они привезли с
собой в Заполярье радиоприемник и часто слушали голоса далекого мира.
Концерты, хоровое пение, известия о разных празднествах и переменах
правительств. Собаки у них были сытые, гладкие и веселые: сибирские псы,
привычные к морозу и нартам. Ничто, казалось, не угрожало благополучию
охотников.
Год этот отличался редким изобилием дичи; охота была успешной.
Оба мечтали о теплых морях, на берегах которых цветут апельсинные
деревья и зреют сочные золотистые плоды. Оба стосковались по дому, по детям,
садам, где благоухают розы.
Особенное нетерпение выказывал Эгон. Ему казалось, что они с Отто
обленились и начинают жиреть.
-- Почему бы нам не отправиться в дальний конец острова? -- предложил
он товарищу. -- Ведь нам здесь сидеть еще целых две недели. Почему бы не
провести кое-какие наблюдения и исследования? Научные общества скажут нам
спасибо... А то живем как пенсионеры!..
-- Будь по-твоему! -- согласился Отто.
Они всегда понимали друг друга с двух слов.
Приготовления длились недолго: положили белым медвежатам в клетку корма
на неделю, погрузили на нарты провизию, ружья, патроны, запрягли собак и
пустились в путь. Все предвещало приятное и веселое путешествие. Никаких
хлопот и осложнений не предвиделось.
Недалеко от их острова лежал другой, поменьше.
Там они еще издали увидели в бинокль двух разгуливающих у берега
медведей.
-- Эти будут наши! -- сказал Эгон, радостно потирая руки.
-- Ну-с, господа белые медведи, готовьтесь расстаться со шкурой! --
прибавил Отто. -- Мы сейчас пошлем вам по маленькой пульке, от которой у вас
зачешется в ушах.
С острова на остров перешли по льду. Охота удалась на славу. Два
выстрела, два убитых медведя, две навьюченные на нарты шкуры.
А как насчет ученых наблюдений?
Ими была исписана целая тетрадка. Нет, друзья не потеряли времени зря!
Беда подстерегала их на обратном пути. Лед треснул, и открывшаяся
полынья поглотила и собак, и нарты с провизией, ружьями, патронами и еще
теплыми шкурами. Поглотила и тут же закрылась, как ящик, ледяной крышкой.
Оба они были сильные и мужественные, закаленные полной риска и
неожиданностей жизнью. И хотя у них невольно сжалось сердце, они подсчитали,
что до хижины всего сорок восемь часов ходу, если идти прямо и без
остановок, и, не долго думая, выступили в поход.
-- Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички! -- сказал Эгон и
даже попробовал рассмеяться.
Он закурил. Шли, посвистывая.
Потеряны были ружья, патроны, провизия, тетрадь с записями, две
великолепные медвежьи шкуры, нарты.
Печальнее всего была гибель собак. Псы эти были верными товарищами
охотников, послушные, смелые, привычные к условиям полярной жизни. Не раз
они вместе выходили из трудных, опасных положений. Собаки погибли, и их
смерть омрачила обратный путь охотников.
Эгон перестал свистеть.
-- Мне особенно жаль Сибирь! -- сказал он вполголоса. -- Помнишь, как
она спасла меня два года назад от белого медведя, который повалил меня и
вцепился мне в плечо? Шрам остался до сих пор. Сибирь впилась ему в глотку.
Дед Мартын отпустил меня, чтобы разделаться с псом. Я вскочил на ноги,
схватил ружье... Бац! Медведь перекувырнулся через голову и растянулся на
снегу...
Отто не слушал его. Остановившись, он тревожно вглядывался в небо. Дул
северный ветерок, и там, на севере, над горизонтом темнели свинцовые тучи.
-- Дело дрянь!.. -- сказал Отто и покачал головой.
Эгон промолчал. Оба ускорили шаг.
Но надвигавшаяся пурга была проворнее их.
Она догнала охотников. Через час уже нельзя было отличить небо от
ледяного покрова океана. Впереди не было видно ни зги. Они спотыкались,
падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро
обнаружилось, что вместо того чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте.
Другого выхода, как укрыться за торосом, не было. Пурга крепчала...
Потянулись длинные часы... В ушах все так же свистел ветер, все так же
хлестали в лицо волны колючего снега. Руки и ноги немели. Охотники не могли
больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть,
превращающая тело в ледяную глыбу.
Наконец стихия угомонилась, ветер стих. Еще один порыв, и небо вдруг
очистилось. Засияло клонившееся к западу солнце.
Охотники прислушались, подняли головы, то есть попытались встать. Увы,
их мышцы отказались повиноваться. Головы беспомощно упали на снег.
Изнуренные голодом, полузамерзшие, друзья были не в силах двинуться,
покинуть снежное ложе.
-- Ее зовут Мария... Она забудет слова "папа"... -- начал бредить Отто.
Потом уставился остекленевшими, вытаращенными глазами в стеклянное
небо.
Эгон лежал на боку и не видел неба. Перед ним расстилался обледенелый,
заснеженный остров, в дальнем конце которого находилась их хижина с теплыми
меховыми одеялами, запасом провизии и приемником, которому теперь уже не для
кого будет принимать из эфира позывные далекого мира.
Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках.
Но вдруг в его поле зрения возникло не иначе, как бредовое видение.
Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того чтобы идти, как все
медведи, на четырех лапах, этот двигался прыжками, кувыркался через голову,
отдавал честь, вертелся в вальсе или шел как на параде, печатая шаг...
Эгон закрыл глаза.
Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец, подумал он, и
стал ждать смерти -- жуткой смерти от мороза, когда после обманчивых видений
в сердце застывает кровь.
Едва показавшись из-под век, слезы превращались в ледяные шарики.
Дочка... Может быть, она сейчас беззаботно разыгрывает гаммы. Или
разглядывает альбом с фотографиями... Смотрит на его фотографию, которая
висит на стене. "Мамочка, как ты думаешь, папа привезет белого медвежонка,
которого он мне обещал?.. -- может, спрашивает она. -- Скажи, мамочка!..
Чего ж ты плачешь?..
Эгон почувствовал, что он погружается в тот глубокий сон, от которого
еще никто не пробуждался...
Но щеку его вдруг обдало горячее дыхание; теплый, влажный нос коснулся
его лица.
Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности, лизал ему щеки,
глаза, нос, пятился и, выждав немного, снова принимался лизать. Он никак не
мог понять, отчего эти люди лежат пластом, почему молчат, не просыпаются, не
поднимают рук.
Это было непонятно.
Запах их он узнал издалека. Чутье, обманывавшее его, когда речь шла о
зверях, издали возвестило ему, что здесь люди, люди из далеких, теплых
стран. Учуяв их, он побежал во всю прыть, чтобы принять дорогих гостей,
доказать им свою дружбу, приветствовать их веселым кувырканием и
сальто-мортале, что, наверно, доставит им удовольствие, чтобы отдать им
по-военному честь. И вдруг нашел их в таком странном состоянии.
Фрам отступил на три шага и замер, приложив лапу к виску:
-- Ну, же, люди!.. Меня запросто не проведешь!
Он уже узнал в одной из лежащих фигур того самого охотника, который
когда-то сопровождал его на пароходе и выпустил на свободу на пустынный
остров, позаботившись оставить на первое время запас провизии в расселине
скал. Другого способа выразить радость встречи, кроме клоунских прыжков и
кувыркания, у него не было.
Эгон открыл глаза и собрал последние силы:
-- Отто! Это же Фрам! Фрам!.. Ты слышишь меня? Фрам, из цирка
Струцкого!
-- Ее зовут Мария... -- бредил Отто. -- Она уже никого больше не
назовет папой. Она забудет это слово...
Он ничего не слышал. Он смотрел в пустое небо пустыми глазами. Только
теперь развитому общением с людьми медвежьему разуму открылся смысл
происходящего.
Не мешкая, Фрам отгреб лапами снег, уложил охотников рядом, а сам
улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от
своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Охотники уже настолько
отрешились от всего земного и были настолько обессилены, что даже не
пытались понять, что с ними делается. Белый медведь. Правда, он когда-то
выступал в пирке, но с тех пор, конечно, одичал; чего от него ждать?
Оба много лет кряду убивали белых медведей. Теперь настал их черед.
Безоружные, обессиленные, они попались в лапы белого медведя и станут его
добычей. Но почему же он медлит, почему клыки его еще не раздробили им
черепа, как моржам и тюленям? Уж кончал бы скорее, настал бы конец этой
муке!..
-- Ее зовут Мария... -- продолжал бредить один. -- Ей скоро исполнится
два года... Она никогда больше не скажет слово "папа", никогда...
Другой повторял, как заведенный:
-- Это Фрам... Я хорошо его помню... Фрам со своими прыжками. Ну же,
Фрам, скорей... Терзай нас, кусай... Приканчивай!.. Сжалься над нами, Фрам,
не томи понапрасну, кончай разом!..
Их голоса понемногу стихли. Бред перешел в сон. Странный сон. Сон,
принесший тепло. Может, это и есть смерть? Так, говорят, умирают
замерзающие. Сначала коченеют руки и ноги, потом в жилах застывает,
останавливается кровь. А человеку, между тем, снится, что ему тепло, он
чувствует жар в лице, в груди, в глазах...
Таким был и этот сон. Сколько он длился? Целую вечность... Открыв
наконец глаза, они почувствовали на груди тяжесть теплой медвежьей шубы.
Попробовали шевельнуть руками, потом ногами. Руки слушались. Ноги тоже.
-- Эгон!
-- Отто!
Это были их голоса. Оба слышали и узнавали свой голос.
Значит, это не смерть. Не глубокий, беспробудный сон замерзающих.
Давившая на них шуба задвигалась. Поднялась сама. Их грело живое
одеяло.
Фрам стал сначала на все четыре лапы, потом поднялся на задние и
церемонно отдал честь.
Воскресшие охотники приподнялись на локтях, переглянулись и уставились
на медведя.
-- Дай-ка трубку, Отто! Все это кажется мне сном. Только трубка решит
загадку, жив я или мертв!..
Эгон и в самом деле ощупывал себя, желая убедиться, что он жив. Как
будто все было в порядке. Руки действовали, ноги тоже. С ни с чем не
сравнимым удовольствием он хрустнул суставами пальцев. А цирковой медведь
все еще стоял навытяжку, приложив лапу к голове.
-- Фрам и есть! Я ж тебе сразу сказал, что это Фрам!..
Эгон вскочил на ноги. Его шатало от голода. Он прислонился к торосу,
потом подошел заплетающимися шагами к своему избавителю.
Язык еще плохо слушался, не мог выразить мыслей, которые рождались и
росли в усталом мозгу.
-- То, что ты сделал, Фрам... То, что ты сделал, Фрам!.. -- повторил он
несколько раз, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как
ребенок.
Отто тоже поднялся.
Оба медвежатника стояли теперь, беспомощно прислонясь к груди
медведя...
Фрам осторожно отстранил их лапой. Он привык иметь дело с сильными и
гордыми людьми. Да и понимал, казалось, что сейчас не время лить слезы. У
него поблизости берлога с запасами -- добычей, отобранной у других медведей
уже известным нам способом: клоунскими прыжками и сальто-мортале, неизменно
обращавшими хозяев добычи в бегство.
Туда он и приглашал охотников.
-- Что нам делать? -- спросил Отто.
-- По-моему, его знаки имеют определенный смысл, -- ответил Эгон.
-- Держу пари, что он приглашает нас обедать... Что меня вовсе не
удивило бы!..
Он оказался прав.
Обед, который Фрам предложил своим гостям, был скромен и состоял всего
из одного блюда: тюленьего мяса, его ежедневного меню.
Охотники наелись. У них прибавилось сил. Они начали с беспокойством
поглядывать на запад, где солнце уже клонилось к горизонту. Наступали
полярные сумерки.
Это была последняя неделя полярной навигации, последняя неделя, когда
суда еще решались бороздить пустынный Ледовитый океан.
Охотниками овладела тревога: а что, если промысловое судно уже прибыло
и уйдет, не дождавшись их?
Медлить было нельзя. Взвалив на плечи по куску мороженого тюленьего
мяса, они направились в конец острова.
-- Лишь бы не повстречаться с белым медведем! -- сказал Отто, --
Безоружных, он съест нас за милую душу.
Эгон показал на Фрама, который, как огромный пес, шел рядом с ними,
покачиваясь на четырех лапах.
-- Пока этот попутчик с нами, бояться нечего!.. Уверен, что он умеет
обращаться со своими родичами. Верно, Фрам?
Услышав свою кличку, Фрам поднялся на задние лапы, козырнул, как
солдат, который говорит: "Рад стараться!", потом вернулся в прежде положение
и пошел дальше.
И если он не мог выразить это словами, то всем своим видом показывал,
что для родичей у него действительно есть средство, но куда более
безобидное, чем пули, которыми пользуются люди.
Обратный путь занял не сорок восемь, а все шестьдесят часов: усталость
заставляла охотников часто останавливаться и отдыхать.
Корабль еще не прибыл. Зато друзей ждала их хижина с теплыми меховыми
одеялами и приемником. И трое белых медвежат в клетке, которые жалобно
скулили от голода.
Фрам несколько раз обошел вокруг клетки. Сердито ворча, посмотрел на
людей, посмотрел на дверцу, потом тихонько отодвинул засов. Медвежата не
решались выйти. Фраму пришлось вытаскивать их по одному зубами. Вытащив
последнего, он дал каждому пинка: ступайте, мол, на все четыре стороны!
Охотники смотрели на эту сцену, засунув руки в карманы и попыхивая
трубками.
-- Бьюсь об заклад, что у этого медведя человеческие мозги! -- сказал
Эгон. -- Видал, как он открыл клетку? Меня это не удивило: мало ли чему он
научился у людей в своем цирке?.. Удивительно другое: как ему пришла в
голову мысль освободить медвежат, своих соплеменников?
-- Когда мы будем рассказывать об этом происшествии, над нами станут
смеяться, скажут, что это охотничьи басни. Как по-твоему, Фрам?..
Фрам заурчал в ответ. Умей медведь говорить, он, наверно, рассказал бы
о том, что в одном эскимосском стойбище у него есть знакомый мальчик,
который тоже, вероятно, прослыл великим выдумщиком, прежде чем стать
охотником. Он снова заурчал и выжидательно посмотрел на хижину, где
находилась волшебная поющая коробка.
-- Фрам просит включить радио, -- рассмеялся Эгон. -- Я не встречал
более страстного любителя музыки!..
Он вошел в хижину и включил приемник.
Из далекой теплой страны потекла по волнам эфира мелодия. Положив морду
на вытянутые лапы, Фрам слушал с закрытыми глазами. Волновала его не столько
сама музыка, сколько воспоминания, которые она будила... О далеких городах,
согретых жарким солнцем, с ярко освещенными по вечерам улицами, с парками и
цветущими садами. О ребятах, которые протягивали ему кулечки с конфетами,
чтобы он поделил их с другими, о детских ручках, которые едва осмеливались с
робкой лаской прикоснуться к его шкуре. О курносом мальчугане с сияющими
глазами, который кричал ему "Браво!" на прощальном представлении цирка в
одном из тех далеких городов.
Промысловое судно наконец прибыло и, бросив якорь в открытом море,
прислало две лодки за шкурами. По всему было видно, что капитан торопится.
Фрам смотрел и все понимал. Глаза у него были грустные.
Люди глядели на него с недоумением.
-- Жалко оставлять его здесь! -- сказал Эгон. -- Расстаешься с ним, как
с близким другом.
-- Да ведь он создан для здешней жизни! -- заметил Отто. -- Такова его
участь. Ты, верно, помнишь, что цирк Струцкого отправил его сюда с тобой
именно потому, что он тосковал по родине...
Охотники вошли в хижину посмотреть, не забыто ли что-нибудь. Когда они
вышли, Фрама уже не было. Они бросились его искать, звали.
-- Жаль все-таки, что мы с ним не простились... Видел, с каким
удивлением смотрели на него матросы?
Эгон забрался на высокую скалу, откуда было видно далеко кругом. Видны
были и две стоявшие у берега лодки.
-- Смотри! -- крикнул он товарищу. -- Мы ищем Фрама, а он уже в лодке.
Опередил нас!
XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ревом перегонявший сугробы с одного
конца в другой. Над островами, разводьями и ледяными полями.
Двое подползли на четвереньках к вздыбленной льдине. Они надеялись
найти здесь убежище. Однако убежище оказалось обманчивым. Пурга заметала их
снегом, люди боролись с ней, стараясь не задохнуться. Но стоило высунуть из
сугроба голову, как в лицо им ударяла тонкая, словно толченое стекло,
колючая снежная пыль и забивала глаза и рот.
Их все больше сковывал мороз.
-- Эгон, ты еще чувствуешь руки?
-- Нет, Отто, давно уже не чувствую. Ни рук, ни ног...
Им приходилось кричать: из-за воя пурги они не слышали друг друга.
Усилие это было мукой для изнуренных, обессилевших людей.
-- Хлопай в ладоши, Эгон! Хлопай, не переставая, в ладоши. Шевели
пальцами, разгоняй кровь! Если кровь застынет -- конец!
Его товарищ только простонал в ответ.
Некоторое время оба молчали.
Слышалась лишь дикая свистопляска пурги, тараном бившей в торос, под
которым они искали защиты, и крутившей смерчи из стеклянистой снежной пыли.
-- Эгон... Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят.
Никогда я их больше не увижу! Никогда... Марии скоро будет два года. Через
две недели... Она забудет слово "папа". Слышишь, Эгон? Она забудет слово
"папа"...
Эгон попробовал ответить, но пурга заткнула ему рот, залепила глаза.
Да и стоило ли говорить? Что он может сказать?
И его дома ждет дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и
думает об отце: "Что-то он теперь делает, мой папа?" Или разучивает
экзерсисы на фортепьяно... Она уже большая. Ей минуло семь. Ходит в школу.
Ее фотография спрятана у него между крышками часов. Но к чему сейчас все эти
воспоминания? Все потеряно! Разумнее просто ждать смерти, потому что
спасение невозможно; оно не может прийти ниоткуда, ни от кого.
Неделю назад под ними вдруг треснул лед. То, что последовало,
приготовило им эту приближавшуюся теперь смерть. Лед словно по велению злых
духов разверзся. Нарты, собак, ружья и патроны, меховые спальные мешки и
мешки с провизией -- все поглотила зеленая пучина океана... В тот же миг
полынья закрылась, а они остались в чем были, в легкой одежде, без оружия,
на пустынном ледяном поле.
Сперва они обменялись полными ужаса взглядами. Смерили глазами дали,
небо с высоко стоявшим солнцем. Потом к ним вернулось мужество -- они были
не из тех, что сдаются без борьбы.
-- До берега двое суток хода, -- сказал Отто. -- Мы шли оттуда двое
суток, не торопясь. Если мы тронемся сейчас же и будем идти, без остановки,
есть надежда дойти. Приключение, как многие другие. Будет о чем рассказывать
дома. Вспомни Нансена. Сколько он вытерпел, в каких только передрягах ни
бывал, а надежды никогда не терял. Небо ясное. Сорокавосьмичасовая прогулка
без еды и без отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, Эгон.
Верно ? Мы с тобой бывали в худших переделках.
Они были закадычными друзьями и занимались охотой на белых медведей.
Уже много лет они охотились вместе в полярных льдах. Жили в разных
городах, а встречались всегда в одном и том же порту перед самым отплытием
на Север. Потом пять, а иногда и шесть месяцев жили жизнью, неизвестной
соотечественникам в далеких городах. Приключения, опасности, общие радости и
успехи связали их тесной дружбой, сделали братьями.
Рыболовное судно доставляло их на остров, где водились белые медведи.
Они построили себе там хижину и из года в год находили ее нетронутой. Она их
ждала. Там у них были теплые меховые постели и вдоволь провизии, были лампы
и книги. Тут же была устроена кладовая шкур, а рядом -- клетка для белых
медвежат.
Корабль высаживал их на берег в начале полярного дня и уходил дальше.
То же судно забирало их на обратном пути со всей добычей: шкурами убитых ими
белых медведей, песцов и черно-бурых лисиц и пойманными ими белыми
медвежатами, которых они потом продавали зоопаркам, зверинцам и циркам. В
редких случаях их доставлял на остров пароход. Это бывало тогда, когда
организовывался туристский рейс вроде того, недавнего, когда они захватили с
собой Фрама и высадили его на пустынном острове по поручению цирка
Струцкого.
Но промысловое судно неизменно заходило за ними и ждало их у острова в
конце каждой полярной осени, перед тем, как начинались вьюги и океан
покрывался ледяным панцирем. В этом году добыча была богаче обычного,
кладовая набита мехами, а в клетке сидели три белых медвежонка.
До прихода корабля оставалось еще две недели. Время проходило
незаметно. Друзья строили планы на те шесть месяцев, которые им предстояло
провести дома, в теплых странах. Там их ждут дети, которым они будут
рассказывать о своих удивительных приключениях. Этим летом они привезли с
собой в Заполярье радиоприемник и часто слушали голоса далекого мира.
Концерты, хоровое пение, известия о разных празднествах и переменах
правительств. Собаки у них были сытые, гладкие и веселые: сибирские псы,
привычные к морозу и нартам. Ничто, казалось, не угрожало благополучию
охотников.
Год этот отличался редким изобилием дичи; охота была успешной.
Оба мечтали о теплых морях, на берегах которых цветут апельсинные
деревья и зреют сочные золотистые плоды. Оба стосковались по дому, по детям,
садам, где благоухают розы.
Особенное нетерпение выказывал Эгон. Ему казалось, что они с Отто
обленились и начинают жиреть.
-- Почему бы нам не отправиться в дальний конец острова? -- предложил
он товарищу. -- Ведь нам здесь сидеть еще целых две недели. Почему бы не
провести кое-какие наблюдения и исследования? Научные общества скажут нам
спасибо... А то живем как пенсионеры!..
-- Будь по-твоему! -- согласился Отто.
Они всегда понимали друг друга с двух слов.
Приготовления длились недолго: положили белым медвежатам в клетку корма
на неделю, погрузили на нарты провизию, ружья, патроны, запрягли собак и
пустились в путь. Все предвещало приятное и веселое путешествие. Никаких
хлопот и осложнений не предвиделось.
Недалеко от их острова лежал другой, поменьше.
Там они еще издали увидели в бинокль двух разгуливающих у берега
медведей.
-- Эти будут наши! -- сказал Эгон, радостно потирая руки.
-- Ну-с, господа белые медведи, готовьтесь расстаться со шкурой! --
прибавил Отто. -- Мы сейчас пошлем вам по маленькой пульке, от которой у вас
зачешется в ушах.
С острова на остров перешли по льду. Охота удалась на славу. Два
выстрела, два убитых медведя, две навьюченные на нарты шкуры.
А как насчет ученых наблюдений?
Ими была исписана целая тетрадка. Нет, друзья не потеряли времени зря!
Беда подстерегала их на обратном пути. Лед треснул, и открывшаяся
полынья поглотила и собак, и нарты с провизией, ружьями, патронами и еще
теплыми шкурами. Поглотила и тут же закрылась, как ящик, ледяной крышкой.
Оба они были сильные и мужественные, закаленные полной риска и
неожиданностей жизнью. И хотя у них невольно сжалось сердце, они подсчитали,
что до хижины всего сорок восемь часов ходу, если идти прямо и без
остановок, и, не долго думая, выступили в поход.
-- Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички! -- сказал Эгон и
даже попробовал рассмеяться.
Он закурил. Шли, посвистывая.
Потеряны были ружья, патроны, провизия, тетрадь с записями, две
великолепные медвежьи шкуры, нарты.
Печальнее всего была гибель собак. Псы эти были верными товарищами
охотников, послушные, смелые, привычные к условиям полярной жизни. Не раз
они вместе выходили из трудных, опасных положений. Собаки погибли, и их
смерть омрачила обратный путь охотников.
Эгон перестал свистеть.
-- Мне особенно жаль Сибирь! -- сказал он вполголоса. -- Помнишь, как
она спасла меня два года назад от белого медведя, который повалил меня и
вцепился мне в плечо? Шрам остался до сих пор. Сибирь впилась ему в глотку.
Дед Мартын отпустил меня, чтобы разделаться с псом. Я вскочил на ноги,
схватил ружье... Бац! Медведь перекувырнулся через голову и растянулся на
снегу...
Отто не слушал его. Остановившись, он тревожно вглядывался в небо. Дул
северный ветерок, и там, на севере, над горизонтом темнели свинцовые тучи.
-- Дело дрянь!.. -- сказал Отто и покачал головой.
Эгон промолчал. Оба ускорили шаг.
Но надвигавшаяся пурга была проворнее их.
Она догнала охотников. Через час уже нельзя было отличить небо от
ледяного покрова океана. Впереди не было видно ни зги. Они спотыкались,
падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро
обнаружилось, что вместо того чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте.
Другого выхода, как укрыться за торосом, не было. Пурга крепчала...
Потянулись длинные часы... В ушах все так же свистел ветер, все так же
хлестали в лицо волны колючего снега. Руки и ноги немели. Охотники не могли
больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть,
превращающая тело в ледяную глыбу.
Наконец стихия угомонилась, ветер стих. Еще один порыв, и небо вдруг
очистилось. Засияло клонившееся к западу солнце.
Охотники прислушались, подняли головы, то есть попытались встать. Увы,
их мышцы отказались повиноваться. Головы беспомощно упали на снег.
Изнуренные голодом, полузамерзшие, друзья были не в силах двинуться,
покинуть снежное ложе.
-- Ее зовут Мария... Она забудет слова "папа"... -- начал бредить Отто.
Потом уставился остекленевшими, вытаращенными глазами в стеклянное
небо.
Эгон лежал на боку и не видел неба. Перед ним расстилался обледенелый,
заснеженный остров, в дальнем конце которого находилась их хижина с теплыми
меховыми одеялами, запасом провизии и приемником, которому теперь уже не для
кого будет принимать из эфира позывные далекого мира.
Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках.
Но вдруг в его поле зрения возникло не иначе, как бредовое видение.
Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того чтобы идти, как все
медведи, на четырех лапах, этот двигался прыжками, кувыркался через голову,
отдавал честь, вертелся в вальсе или шел как на параде, печатая шаг...
Эгон закрыл глаза.
Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец, подумал он, и
стал ждать смерти -- жуткой смерти от мороза, когда после обманчивых видений
в сердце застывает кровь.
Едва показавшись из-под век, слезы превращались в ледяные шарики.
Дочка... Может быть, она сейчас беззаботно разыгрывает гаммы. Или
разглядывает альбом с фотографиями... Смотрит на его фотографию, которая
висит на стене. "Мамочка, как ты думаешь, папа привезет белого медвежонка,
которого он мне обещал?.. -- может, спрашивает она. -- Скажи, мамочка!..
Чего ж ты плачешь?..
Эгон почувствовал, что он погружается в тот глубокий сон, от которого
еще никто не пробуждался...
Но щеку его вдруг обдало горячее дыхание; теплый, влажный нос коснулся
его лица.
Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности, лизал ему щеки,
глаза, нос, пятился и, выждав немного, снова принимался лизать. Он никак не
мог понять, отчего эти люди лежат пластом, почему молчат, не просыпаются, не
поднимают рук.
Это было непонятно.
Запах их он узнал издалека. Чутье, обманывавшее его, когда речь шла о
зверях, издали возвестило ему, что здесь люди, люди из далеких, теплых
стран. Учуяв их, он побежал во всю прыть, чтобы принять дорогих гостей,
доказать им свою дружбу, приветствовать их веселым кувырканием и
сальто-мортале, что, наверно, доставит им удовольствие, чтобы отдать им
по-военному честь. И вдруг нашел их в таком странном состоянии.
Фрам отступил на три шага и замер, приложив лапу к виску:
-- Ну, же, люди!.. Меня запросто не проведешь!
Он уже узнал в одной из лежащих фигур того самого охотника, который
когда-то сопровождал его на пароходе и выпустил на свободу на пустынный
остров, позаботившись оставить на первое время запас провизии в расселине
скал. Другого способа выразить радость встречи, кроме клоунских прыжков и
кувыркания, у него не было.
Эгон открыл глаза и собрал последние силы:
-- Отто! Это же Фрам! Фрам!.. Ты слышишь меня? Фрам, из цирка
Струцкого!
-- Ее зовут Мария... -- бредил Отто. -- Она уже никого больше не
назовет папой. Она забудет это слово...
Он ничего не слышал. Он смотрел в пустое небо пустыми глазами. Только
теперь развитому общением с людьми медвежьему разуму открылся смысл
происходящего.
Не мешкая, Фрам отгреб лапами снег, уложил охотников рядом, а сам
улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от
своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Охотники уже настолько
отрешились от всего земного и были настолько обессилены, что даже не
пытались понять, что с ними делается. Белый медведь. Правда, он когда-то
выступал в пирке, но с тех пор, конечно, одичал; чего от него ждать?
Оба много лет кряду убивали белых медведей. Теперь настал их черед.
Безоружные, обессиленные, они попались в лапы белого медведя и станут его
добычей. Но почему же он медлит, почему клыки его еще не раздробили им
черепа, как моржам и тюленям? Уж кончал бы скорее, настал бы конец этой
муке!..
-- Ее зовут Мария... -- продолжал бредить один. -- Ей скоро исполнится
два года... Она никогда больше не скажет слово "папа", никогда...
Другой повторял, как заведенный:
-- Это Фрам... Я хорошо его помню... Фрам со своими прыжками. Ну же,
Фрам, скорей... Терзай нас, кусай... Приканчивай!.. Сжалься над нами, Фрам,
не томи понапрасну, кончай разом!..
Их голоса понемногу стихли. Бред перешел в сон. Странный сон. Сон,
принесший тепло. Может, это и есть смерть? Так, говорят, умирают
замерзающие. Сначала коченеют руки и ноги, потом в жилах застывает,
останавливается кровь. А человеку, между тем, снится, что ему тепло, он
чувствует жар в лице, в груди, в глазах...
Таким был и этот сон. Сколько он длился? Целую вечность... Открыв
наконец глаза, они почувствовали на груди тяжесть теплой медвежьей шубы.
Попробовали шевельнуть руками, потом ногами. Руки слушались. Ноги тоже.
-- Эгон!
-- Отто!
Это были их голоса. Оба слышали и узнавали свой голос.
Значит, это не смерть. Не глубокий, беспробудный сон замерзающих.
Давившая на них шуба задвигалась. Поднялась сама. Их грело живое
одеяло.
Фрам стал сначала на все четыре лапы, потом поднялся на задние и
церемонно отдал честь.
Воскресшие охотники приподнялись на локтях, переглянулись и уставились
на медведя.
-- Дай-ка трубку, Отто! Все это кажется мне сном. Только трубка решит
загадку, жив я или мертв!..
Эгон и в самом деле ощупывал себя, желая убедиться, что он жив. Как
будто все было в порядке. Руки действовали, ноги тоже. С ни с чем не
сравнимым удовольствием он хрустнул суставами пальцев. А цирковой медведь
все еще стоял навытяжку, приложив лапу к голове.
-- Фрам и есть! Я ж тебе сразу сказал, что это Фрам!..
Эгон вскочил на ноги. Его шатало от голода. Он прислонился к торосу,
потом подошел заплетающимися шагами к своему избавителю.
Язык еще плохо слушался, не мог выразить мыслей, которые рождались и
росли в усталом мозгу.
-- То, что ты сделал, Фрам... То, что ты сделал, Фрам!.. -- повторил он
несколько раз, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как
ребенок.
Отто тоже поднялся.
Оба медвежатника стояли теперь, беспомощно прислонясь к груди
медведя...
Фрам осторожно отстранил их лапой. Он привык иметь дело с сильными и
гордыми людьми. Да и понимал, казалось, что сейчас не время лить слезы. У
него поблизости берлога с запасами -- добычей, отобранной у других медведей
уже известным нам способом: клоунскими прыжками и сальто-мортале, неизменно
обращавшими хозяев добычи в бегство.
Туда он и приглашал охотников.
-- Что нам делать? -- спросил Отто.
-- По-моему, его знаки имеют определенный смысл, -- ответил Эгон.
-- Держу пари, что он приглашает нас обедать... Что меня вовсе не
удивило бы!..
Он оказался прав.
Обед, который Фрам предложил своим гостям, был скромен и состоял всего
из одного блюда: тюленьего мяса, его ежедневного меню.
Охотники наелись. У них прибавилось сил. Они начали с беспокойством
поглядывать на запад, где солнце уже клонилось к горизонту. Наступали
полярные сумерки.
Это была последняя неделя полярной навигации, последняя неделя, когда
суда еще решались бороздить пустынный Ледовитый океан.
Охотниками овладела тревога: а что, если промысловое судно уже прибыло
и уйдет, не дождавшись их?
Медлить было нельзя. Взвалив на плечи по куску мороженого тюленьего
мяса, они направились в конец острова.
-- Лишь бы не повстречаться с белым медведем! -- сказал Отто, --
Безоружных, он съест нас за милую душу.
Эгон показал на Фрама, который, как огромный пес, шел рядом с ними,
покачиваясь на четырех лапах.
-- Пока этот попутчик с нами, бояться нечего!.. Уверен, что он умеет
обращаться со своими родичами. Верно, Фрам?
Услышав свою кличку, Фрам поднялся на задние лапы, козырнул, как
солдат, который говорит: "Рад стараться!", потом вернулся в прежде положение
и пошел дальше.
И если он не мог выразить это словами, то всем своим видом показывал,
что для родичей у него действительно есть средство, но куда более
безобидное, чем пули, которыми пользуются люди.
Обратный путь занял не сорок восемь, а все шестьдесят часов: усталость
заставляла охотников часто останавливаться и отдыхать.
Корабль еще не прибыл. Зато друзей ждала их хижина с теплыми меховыми
одеялами и приемником. И трое белых медвежат в клетке, которые жалобно
скулили от голода.
Фрам несколько раз обошел вокруг клетки. Сердито ворча, посмотрел на
людей, посмотрел на дверцу, потом тихонько отодвинул засов. Медвежата не
решались выйти. Фраму пришлось вытаскивать их по одному зубами. Вытащив
последнего, он дал каждому пинка: ступайте, мол, на все четыре стороны!
Охотники смотрели на эту сцену, засунув руки в карманы и попыхивая
трубками.
-- Бьюсь об заклад, что у этого медведя человеческие мозги! -- сказал
Эгон. -- Видал, как он открыл клетку? Меня это не удивило: мало ли чему он
научился у людей в своем цирке?.. Удивительно другое: как ему пришла в
голову мысль освободить медвежат, своих соплеменников?
-- Когда мы будем рассказывать об этом происшествии, над нами станут
смеяться, скажут, что это охотничьи басни. Как по-твоему, Фрам?..
Фрам заурчал в ответ. Умей медведь говорить, он, наверно, рассказал бы
о том, что в одном эскимосском стойбище у него есть знакомый мальчик,
который тоже, вероятно, прослыл великим выдумщиком, прежде чем стать
охотником. Он снова заурчал и выжидательно посмотрел на хижину, где
находилась волшебная поющая коробка.
-- Фрам просит включить радио, -- рассмеялся Эгон. -- Я не встречал
более страстного любителя музыки!..
Он вошел в хижину и включил приемник.
Из далекой теплой страны потекла по волнам эфира мелодия. Положив морду
на вытянутые лапы, Фрам слушал с закрытыми глазами. Волновала его не столько
сама музыка, сколько воспоминания, которые она будила... О далеких городах,
согретых жарким солнцем, с ярко освещенными по вечерам улицами, с парками и
цветущими садами. О ребятах, которые протягивали ему кулечки с конфетами,
чтобы он поделил их с другими, о детских ручках, которые едва осмеливались с
робкой лаской прикоснуться к его шкуре. О курносом мальчугане с сияющими
глазами, который кричал ему "Браво!" на прощальном представлении цирка в
одном из тех далеких городов.
Промысловое судно наконец прибыло и, бросив якорь в открытом море,
прислало две лодки за шкурами. По всему было видно, что капитан торопится.
Фрам смотрел и все понимал. Глаза у него были грустные.
Люди глядели на него с недоумением.
-- Жалко оставлять его здесь! -- сказал Эгон. -- Расстаешься с ним, как
с близким другом.
-- Да ведь он создан для здешней жизни! -- заметил Отто. -- Такова его
участь. Ты, верно, помнишь, что цирк Струцкого отправил его сюда с тобой
именно потому, что он тосковал по родине...
Охотники вошли в хижину посмотреть, не забыто ли что-нибудь. Когда они
вышли, Фрама уже не было. Они бросились его искать, звали.
-- Жаль все-таки, что мы с ним не простились... Видел, с каким
удивлением смотрели на него матросы?
Эгон забрался на высокую скалу, откуда было видно далеко кругом. Видны
были и две стоявшие у берега лодки.
-- Смотри! -- крикнул он товарищу. -- Мы ищем Фрама, а он уже в лодке.
Опередил нас!
 И действительно, Фрам, не дожидаясь охотников, залез в лодку. Он стоял
в ней, повернувшись спиной к берегу. Матросы пытались согнать его на берег.
Но Фрам словно слился с лодкой.
-- Итак... -- начал Отто.
-- Итак, мы берем его с собой! -- договорил Эгон. -- Таково его
желание. Высказать его он не может, но всем своим видом ясно показывает, что
это именно так.
Охотники спустились по скалистому берегу. Весла у гребцов были
наготове, чтобы погнать лодку к стоявшему в открытом море кораблю. Эгон
положил руку на шею медведя.
-- Дорогой Фрам, -- сказал он. -- Значит, ты возвращаешься в наш мир
навсегда? Почему ж тогда ты не прощаешься с этим ледяным краем? Прими к
сведению, что во второй раз я тебя сюда не повезу!..
Словно поняв смысл обращенных к нему слов, Фрам медленно повернул
голову и долго глядел на покидаемые им навеки родные места. Потом отвернулся
и устремил взор вперед, к далекому миру, лежащему по ту сторону вечных льдов
и студеных вод сурового океана.
-- Весла на воду! Пошли! -- проговорил один из гребцов.
И действительно, Фрам, не дожидаясь охотников, залез в лодку. Он стоял
в ней, повернувшись спиной к берегу. Матросы пытались согнать его на берег.
Но Фрам словно слился с лодкой.
-- Итак... -- начал Отто.
-- Итак, мы берем его с собой! -- договорил Эгон. -- Таково его
желание. Высказать его он не может, но всем своим видом ясно показывает, что
это именно так.
Охотники спустились по скалистому берегу. Весла у гребцов были
наготове, чтобы погнать лодку к стоявшему в открытом море кораблю. Эгон
положил руку на шею медведя.
-- Дорогой Фрам, -- сказал он. -- Значит, ты возвращаешься в наш мир
навсегда? Почему ж тогда ты не прощаешься с этим ледяным краем? Прими к
сведению, что во второй раз я тебя сюда не повезу!..
Словно поняв смысл обращенных к нему слов, Фрам медленно повернул
голову и долго глядел на покидаемые им навеки родные места. Потом отвернулся
и устремил взор вперед, к далекому миру, лежащему по ту сторону вечных льдов
и студеных вод сурового океана.
-- Весла на воду! Пошли! -- проговорил один из гребцов.
 * * *
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. Прощальное представление цирка Струцкого
II. Фрам капризничает
Ш. После отъезда цирка
IV. В Ноевом ковчеге
V. Фрам родился далеко, в полярных льдах
VI. Человек, собака и ружье
VII. Ты будешь называться "Фрам"!
VIII. Назад к Ледовитому океану
IX. Пустынный остров на краю земли
X. Первая встреча
XI. Буффон Ледовитого океана
ХII. Друзья Фрама в далеких городах не забыли его
ХШ. Фрам находит себе маленького друга
XIV. Фрам расстается со своим маленьким другом по собственному желанию
XV. Нанук
XVI. Эпилог
НАПЕЧАТАНО В РУМЫНИИ
OCR-GVG-2005, примечание: Переводчик, вероятно, был румынский, в книге
было много ошибок, хотя издана книга очень добротно. Грубые грамматические я
пытался исправлять, а, вероятно, близкие к языку оригинала, но не верные с
точки зрения русской грамматики, я не исправлял (например, слово влекомые в
русском языке отсутствует и его нельзя исправить, а можно только заменить)
* * *
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. Прощальное представление цирка Струцкого
II. Фрам капризничает
Ш. После отъезда цирка
IV. В Ноевом ковчеге
V. Фрам родился далеко, в полярных льдах
VI. Человек, собака и ружье
VII. Ты будешь называться "Фрам"!
VIII. Назад к Ледовитому океану
IX. Пустынный остров на краю земли
X. Первая встреча
XI. Буффон Ледовитого океана
ХII. Друзья Фрама в далеких городах не забыли его
ХШ. Фрам находит себе маленького друга
XIV. Фрам расстается со своим маленьким другом по собственному желанию
XV. Нанук
XVI. Эпилог
НАПЕЧАТАНО В РУМЫНИИ
OCR-GVG-2005, примечание: Переводчик, вероятно, был румынский, в книге
было много ошибок, хотя издана книга очень добротно. Грубые грамматические я
пытался исправлять, а, вероятно, близкие к языку оригинала, но не верные с
точки зрения русской грамматики, я не исправлял (например, слово влекомые в
русском языке отсутствует и его нельзя исправить, а можно только заменить)
Last-modified: Wed, 08 Jun 2005 17:22:20 GMT
 ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ
ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ
ЧЕЗАР ПЕТРЕСКУ
ПОВЕСТЬ О БЕЛОМ МЕДВЕДЕ
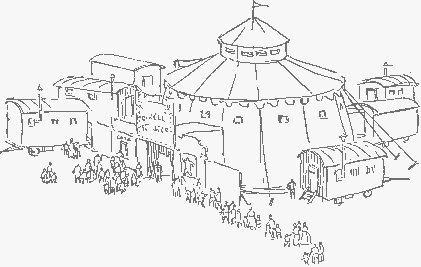 ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ
БУХАРЕСТ - 1965
OCR-GVG-2005
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ
БУХАРЕСТ - 1965
OCR-GVG-2005
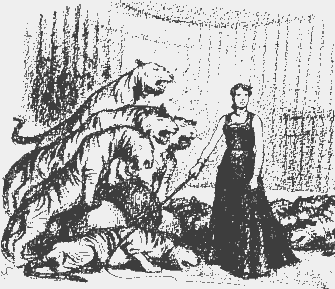 I. ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА СТРУЦКОГО
Тигры выходили на арену по одному. Их бархатные лапы ступали по песку
мягко, бесшумно. Ни один не глянул желтыми, будто стеклянными глазами ни
вправо, ни влево.
По ту сторону решетки заполнявшая партер публика смотрела на них,
затаив дыхание, со страхом и нетерпением.
Но для бенгальских тигров публики не существовало: она даже не
заслуживала взгляда. Единственным существовавшим для них человеческим
существом была стоявшая среди арены женщина в платье из золотистых чешуек,
со сверкающими разноцветными камнями.
Зеленые глаза ее горели таким же огнем, как у тигров. Только у нее они
смотрели повелительно и беспощадно, тогда как в глазах зверей читалась
усталая покорность.
Их взгляды искали, выжидали друг друга, встречались. Этого было
достаточно: тигры понимали женщину и женщина понимала тигров.
Глаза укротительницы пронизывали зверей, глаза зверей послушно
опускались. В вытянутой руке она держала хлыстик с шелковой кисточкой на
конце. Кисточка указывала каждому тигру его место.
-- Ты сюда!.. Ты поближе!.. А ты туда!..
И тигры занимали свои места безропотно, подходя к шарам пружинистым
шагом, помахивая тяжелыми длинными хвостами.
По одну и по другую сторону от них лежало рядком по шесть огромных
деревянных шаров.
Крайний тигр потрогал лапой шар, взвился на него плавным, легким
прыжком, как кошка на ворота, и, поджидая других, зевнул -- распушил колючие
усы, показал небо, обнажил клыки.
У зрителей дрогнуло сердце. Одна мысль владела всеми: все знали, что
эти острые, могучие клыки, эти лапы с железными когтями могут в одну секунду
раздавить как воробья, растерзать в клочья женщину в платье из золотистых
чешуек, со сверкающими разноцветными камнями.
Но мисс Эллиан улыбалась. Так ее звали: мисс Эллиан. Она улыбалась как
ни в чем не бывало.
Мисс Эллиан была одна среди хищников. Никакого оружия: только хлыстик с
шелковой кисточкой да еще пронизывающий взгляд.
Но этого было достаточно для того, чтобы двенадцать бенгальских тигров
превратились в двенадцать смирных, послушных кошек.
-- Вся сила укротительницы -- в глазах! -- сказал занимавший место у
самой решетки старый господин сидевшей рядом внучке. -- Стоит ей отвести
взгляд, стоит тиграм почувствовать, что она задумалась или просто боится их,
как они в ту же секунду бросятся на нее и...
-- Мне страшно, когда ты так говоришь... Ужасно страшно! -- прошептала
девочка и прижалась к деду.
-- Шш... Тише...
Все замерли. Светлокудрая голубоглазая девочка в белой шубке еще крепче
прижалась к старому господину. Ей слышно, как бьется ее маленькое сердце.
Сидя на деревянных шарах, двенадцать бенгальских тигров напряженно ждут
команды, которую подадут им глаза мисс Эллиан.
Из купола цирка лился ослепительный электрический свет. Две тысячи
разместившихся в цирке локоть к локтю человек окаменели.
Публика была очень пестрая: старики и молодые женщины, родители с
детьми, школьницы со своими учительницами. Людей этих разделяли лишь ряды
скамеек или стульев да еще цена билетов. Одни, заполнявшие галерку, стояли;
другие сидели вокруг решетки в обитых красным плюшем креслах.
Все забыли о своих домашних заботах, о повседневных маленьких радостях
и огорчениях и не отрываясь глядели на арену.
Кто из них на улице не пугался какой-нибудь неожиданно залаявшей шавки
с хвостом закорючкой? А дома кто не вздрагивал ночью, когда вдруг скрипнет
мебель или из-под шкафа покажется мышка с глазами как черные бусинки?
Здесь все эти страхи казались смешными. Все чувствовали себя
участниками чего-то необычайного, чудесного.
Двенадцать диких, укрощенных зверей слушались одного женского взгляда,
хлопка хлыста с шелковой кисточкой, поданного кончиком пальца знака.
Тишина. Не слышно ни шелеста программ, ни разговоров, ни скрипа
скамеек, ни покашливания.
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
Так напечатано в программе.
Последнее, прощальное представление.
Завтра цирковая палатка будет сложена, а звери уедут в белых вагонах в
другой город. Может быть, они никогда больше сюда не вернутся. О них будет
напоминать лишь пустырь возле городского сада.
Взрослые вернутся к своим обычным занятиям и заботам; дети -- к
животным из войлока, плюша или раскрашенного дерева.
Мальчики, увлеченные своими играми, скоро забудут, что на свете
существуют звери дикой, несравненной красоты, с бархатной шкурой и желтыми,
будто стеклянными глазами; звери, прыжок которых описывает дугообразную
линию пущенного из рогатки камня. И опять пугливые девочки будут
вздрагивать, когда из-за забора вдруг залает на них шавка с хвостом
закорючкой или когда по комнате пробежит, как заводная игрушка, мышь.
Поэтому все они, мальчики и девочки, собрались сегодня здесь, чтобы еще
раз -- в последний раз -- увидеть два чуда, которые показывает на своем
прощальном представлении цирк Струцкого:
МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ФРАМ
Тигры, образуя круг, ждали на своих деревянных шарах.
Женщина в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими разноцветными
камнями отступила на шаг.
Двенадцать одинаковых, грациозных прыжков -- и тигры очутились возле
нее, легли кругом, положив морды на вытянутые лапы. Теперь казалось, что
вокруг женщины раскрылся гигантский подсолнечник с двенадцатью оранжевыми
лепестками, перечерченными блестящими бархатными черными полосами.
Рука женщины принялась гладить круглые головы, мягкие уши, влажные
морды. Она ласкала своих тигров. Она довольна ими.
Внучке старого господина стало стыдно при мысли, что дома ее не
слушается даже кот Пуфулец.
Еще на прошлой неделе в самом разгаре игры он ни с того, ни с сего
поцарапал ей щеку.
Выше, в заднем ряду, курносый мальчик с сияющими глазами поднялся на
цыпочки, чтобы лучше видеть.
Это -- Петруш, младший сынок рабочего одного из заводов города. Как и
многие другие его сверстники, он целую неделю торчал у входа в цирк и скопил
по грошам стоимость билета. Теперь ему хотелось не пропустить ничего из
того, что происходило на арене: не зря же он с таким напряженным вниманием
читал и перечитывал афишу, невзирая на холод и мокрый снег! И не зря с такой
завистью смотрел на входившую в цирк публику. Теперь, когда он наконец
здесь, как не превратиться в слух, не глядеть во все глаза?!
Окруженная тиграми мисс Эллиан подняла руки -- звери могут встать, --
потом щелкнула хлыстом. Резиновым, неслышным шагом тигры вернулись на свои
места, уселись на шары и замерли в ожидании новой команды. Женщина в
золотистом платье со сверкающими камнями подняла обтянутый бумагой обруч и
подожгла другой такой же, на железной подставке.
Снова щелкнул хлыст.
Один за другим звери отделяются от лакированных шаров, в длинном прыжке
пролетают сквозь бумажный круг и, едва коснувшись песка, плавно переносят
вытянутое туловище сквозь второй, пылающий круг.
Самый молодой и строптивый тигр не встретил повелительного взгляда
укротительницы. Притворяясь, будто он не понял, что от него хотят, зверь
пытается пролезть под объятым пламенем обручем, потом преспокойно
усаживается на свой шар и лениво, со скучающим видом зевает.
-- Это Раджа. Его зовут Раджа! -- шепчет девочка. -- Я запомнила его с
прошлого воскресенья. Самый из всех злой...
Укротительница не окликнула его по имени, не тронула шелковой кисточкой
хлыста, не копнула гневно песок носком туфельки. Она только раз пристально
взглянула на него и подняла круг.
Тигр оскалился.
-- Мне страшно! Идем домой, дедушка, мне страшно!.. -- испугалась
девочка и вцепилась в рукав деда.
-- Шш...
Но кудрявой голубоглазой девочке в белой шубке и белой шапочке нечего
было бояться.
Стальной взгляд укротительницы снова пересилил упрямство молодого
строптивого тигра.
Раджа потупился, гибким движением слез с шара, напряг мускулы под
бархатной шкурой и в два прыжка молниеносно пронесся через бумажные круги,
один из которых продолжал полыхать.
Потом смирно вернулся на свое место. Его глаза смущенно просили
прощения. Он знал, что его ждет.
Когда он вернется в свою клетку, его накажут несколькими сильными
ударами по морде, но не тем тоненьким хлыстиком с шелковой кисточкой,
которым укротительница пользуется на представлении, а кожаным арапником, что
очень больно. А когда придет время кормежки, вместо куска сырого мяса он
получит ведро воды. Наказание это было ему знакомо. Знаком ему был и другой
облик женщины в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими камнями, облик,
которого не видел никто из людей, заполнявших партер, ложи и галерку. За
кулисами мисс Эллиан меняла сверкающий туалет, в котором она появлялась
перед публикой, на старую кожаную тужурку и короткую запятнанную юбку. И уже
не улыбалась пленительно, посылая во все стороны воздушные поцелуи, в то
время как цирк сотрясался от аплодисментов.
Она вооружается острым железным прутом и арапником с вплетенным в конце
свинцом, хрипло кричит на тигров, бьет их и тычет им в ребра острым прутом.
Она груба и беспощадна с ними, потому что хозяин -- он же директор -- цирка,
человек куда более жестокий и жадный, чем его звери, не допускает ни
малейшего отклонения от своих приказаний. Ему вечно кажется, что все
лодырничают, мало работают. Ему хочется, чтобы номера программы были еще
более рискованными. Все артисты для него -- дармоеды.
-- Я вас на улицу выкину, -- то и дело грозится он. -- Подыхайте потом
с голоду!
Дрессировщиков он осыпает бранью, мечет громы и молнии. А те с перепугу
вымещают обиду на животных. Все страдают, все терпят. Все знают, что иного
выхода нет. Их тяжелый труд, их страдания, взимаемые с них по любому поводу
штрафы обогащают хозяина. Он богатеет с каждым днем, с каждым
представлением. Это -- самый опасный, самый ненасытный из всех зверей цирка.
Но все это происходит за кулисами, в зверинце, после того, как публика
расходится и огни гаснут.
Да, молодой строптивый Раджа знает, что его ждет. Знает он и то, что
его сейчас вызовут движением хлыста на середину арены.
Укротительница откроет ему руками пасть и вложит свою завитую головку
между его страшных клыков. Она проделает это с ним, Раджой, именно потому,
что у него репутация самого злого, самого непокорного из всех двенадцати
тигров, а мисс Эллиан хочет показать, что она ничего, решительно ничего не
боится. Номер этот повторяется три вечера сряду. "А что, -- думает Раджа, --
если чуточку, самую чуточку, сжать челюсти?" Череп ненавистной женщины
треснет, как яичная скорлупа, как кости тех антилоп, которых он убивал на
свободе, в джунглях далекой Бенгалии, бросаясь из чащи на свою жертву.
Раджа зевает на лакированном деревянном шаре.
Тигр знает, что никогда этого не сделает, -- он теперь во власти людей.
Взгляд горящих зеленых глаз укротительницы в самом зародыше убивает
всякую попытку сопротивления. Раджа сейчас такое же ничтожество, как
уродины-обезьяны в зверинце, которые угодливо попрошайничают, чтобы
полакомиться земляными орехами или мандаринами.
Тигр опускает веки на желтые, будто стеклянные глаза с раскосо
суженными зрачками, как у домашних кошек в полдень. Он больше не видит ни
мисс Эллиан, ни публику за решеткой.
Тигр видит то, что предстает перед ним всегда, как только он закроет
глаза.
Тропический лес. Широкая листва, непролазная чаща, свисающие до земли
лианы, птицы всех цветов радуги. С шелковистым шелестом проходят павлины,
порхают колибри, которые не больше насекомых, и громадные бабочки,
неуступающие в размере птицам. Что это раскачивается на дереве? Ветка или
змея? Откуда шорох: от ветра или среди широких листьев крадется другой тигр,
чужой? Ну, конечно, там есть заросшее бамбуком озерцо... Как хорошо известны
ему эти места! Сколько раз он прятался там, притаившись, выслеживая антилоп,
которые приходили на водопой! Ждал час и два, а то, случалось, и до поздней
ночи; менял место, смотря по направлению ветра, чтобы его не почуяли.
Наконец появлялись антилопы. Две, три, иногда только одна... Озираясь
пугливыми, влажными глазами, она нюхала воздух. Шагов на мягкой земле не
слышно. Вот она нагнулась к воде, вздрогнула, насторожила уши, вытянула шею
среди листьев лотоса. В этот миг он, как спущенная из лука стрела, прыгал из
чащи прямо на спину своей жертвы: она не успевала издать ни одного звука,
даже не дергалась в его клыках. Но бывало, что с добычей приходилось
повозиться. Трещали ветки, дебри оглашались диким ревом. Однажды дикий
буйвол... Раджа почуял его издали, подкараулил, прыгнул ему на хребет, но
буйвол перекинул его через голову, навалился на него, подмял под себя,
собираясь поддеть рогами. Лес замер в гробовом молчании. Обезьяны
попрятались по дуплам, остальные звери приникли к земле. Это был жестокий
поединок между хозяевами джунглей! Слышно было только их тяжелое дыхание,
прерываемое мычанием буйвола. Одолел все же он, Раджа... Потом, в другой
раз, было сражение со слоном, который схватил его хоботом, намереваясь
грохнуть оземь и раздавить толстыми, как бревна, ногами... Но в конце концов
убежал не Раджа, а слон с растерзанным в клочья хоботом и окровавленным
глазом. И долго еще среди ночи раздавался его гневный топот, ломались ветки,
срывались с деревьев пологи лиан, валились на землю заросли бамбука. А трое
вооруженных копьями охотников, которые хотели его окружить, и все трое
достались ему на обед!.. С тех пор о Радже пошла молва. Его боялась вся
округа. Все называли его ТИРАНОМ. Так называли его все. И у всех дрожали
поджилки, когда лес оглашался ревом. Никто больше не отваживался выходить на
лесные тропы. Люди поклялись предать его смерти, а сами смертельно боялись
его. Издали почуяв приближение человека, он подкрадывался к нему с такой
осторожностью, что не слышал своего дыхания. Делал несколько шагов,
останавливался... Еще шаг... прыжок. Удар клыками. Все! На водопое, куда
приходили антилопы, он неизменно оставался хозяином. Но однажды ночью его
лапу сжали железные тиски. Он попробовал разгрызть капкан. Лес огласился его
испуганным ревом. Пленник попытался вырваться, даже оставить свою лапу, в
капкане. Напрасная мука! Глубокая рана, нанесенная железом, дает о себе
знать до сих пор, когда холодно или идет дождь. Обессиленный болью и потерей
крови, он вытянулся на земле и стал ждать смерти, примиренно, не жалуясь на
судьбу. Только через неделю пришли люди с топорами, чтобы забрать его,
полумертвого от жажды и голода. Они отняли у него право спокойно умереть.
И вот он здесь.
Его отделяет от всего света железная решетка.
Его привезли сюда, и теперь он дрожит от страха, когда щелкает хлыст с
шелковой кисточкой. Этому предшествовали долгие, мучительные месяцы
дрессировки. Теперь он опускает глаза под взглядом женщины, единственное
оружие которой -- хлыстик с шелковой кисточкой. От нее нет спасения нигде!
Обезьяны бросают в него апельсинными и банановыми корками, строют рожи и
чешутся, карабкаясь по прутьям решетки, делают ему знаки своими неугомонными
лапами, когда его провозят мимо них в клетке на колесах. Только когда он
ревет, их внезапно обуревает ужас, как в джунглях, и тогда они смешно
корчатся, стараясь куда-нибудь спрятаться.
Шелковая кисточка слегка коснулась его морды. Это было совсем легкое,
воздушное прикосновение, почти ласка. Но тигр знал, что это выговор, знал,
что обещает такая ласка: злой арапник и железный прут.
Но куда денешься? Выбора нет. Поэтому он послушно слез с деревянного
шара, как того требовала программа представления.
Зрители затаили дыхание. В цирке водворилась такая тишина, что с
далекой улицы донеслись гудки автомобилей и грохот трамваев.
Двенадцать тигров улеглись среди арены, образовав круг. Мисс Эллиан
подобрала подол платья, бросила хлыст, легла на спину в середине этого
круга, скрестив на груди руки, и вложила голову в раскрытую пасть Раджи. Ее
затылок опирался на его клыки, как на откидной подголовник зубоврачебного
кресла.
Тигр моргает большими желтыми, будто стеклянными глазами. Вот если бы
немного придавить ненавистную голову зубами!.. Хоть немножко!.. Но глаза
женщины сверлят его. Он не видит их, но чувствует их пронизывающий взгляд.
Ах, как он его чувствует! И Раджа не сжимает челюстей, а лежит неподвижно,
как чучело, с открытой пастью.
Петруш, мальчик с блестящими глазами, сжал кулаки, вытянул шею и, сам
того не замечая, пробрался поближе к арене, чтобы лучше видеть, что там
происходит.
Девочка со светлыми локонами прикусила губку. Сердце ее бьется так
сильно, что того и гляди выскочит из маленькой груди. Кое-кто закрыл глаза.
Другие заткнули уши, чтобы не услышать вопля укротительницы. Даже у дедушки
белокурой девочки чуть задрожала рука на набалдашнике из слоновой кости,
который украшал его трость. Он уже видел раз, как тигры растерзали
укротителя, и знает, что этим кончают почти все дрессировщики диких зверей.
Знает также, что звери в таких случаях бросаются на решетку, яростно рычат и
кусают друг друга.
-- Гоп!
Грациозный прыжок, и женщина снова на ногах, посреди арены.
Она встряхивает иссиня-черными кудрями и откидывает шуршащий шлейф
платья носком туфельки. Улыбается, кланяется публике и, отвечая на бурные
аплодисменты, посылает воздушные поцелуи в ложи, партер, на галерку.
На обтянутом красным сукном помосте оркестр заиграл марш всеми своими
барабанами, трубами, флейтами и кларнетами... Дзинь-дзинь!
Дзинь-дзинь! -- позвякивал треугольник под ударами серебряного
молоточка.
Марш торжественный, церемониальный.
Через ворота в глубине арены двенадцать бенгальских тигров возвращаются
в свои клетки.
Они идут гуськом, как смирные домашние кошки, помахивая тяжелыми
длинными хвостами, не глядя ни вправо, ни влево большими желтыми, словно
стеклянными глазами.
Бархатные лапы ступают по песку мягко, бесшумно.
I. ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРКА СТРУЦКОГО
Тигры выходили на арену по одному. Их бархатные лапы ступали по песку
мягко, бесшумно. Ни один не глянул желтыми, будто стеклянными глазами ни
вправо, ни влево.
По ту сторону решетки заполнявшая партер публика смотрела на них,
затаив дыхание, со страхом и нетерпением.
Но для бенгальских тигров публики не существовало: она даже не
заслуживала взгляда. Единственным существовавшим для них человеческим
существом была стоявшая среди арены женщина в платье из золотистых чешуек,
со сверкающими разноцветными камнями.
Зеленые глаза ее горели таким же огнем, как у тигров. Только у нее они
смотрели повелительно и беспощадно, тогда как в глазах зверей читалась
усталая покорность.
Их взгляды искали, выжидали друг друга, встречались. Этого было
достаточно: тигры понимали женщину и женщина понимала тигров.
Глаза укротительницы пронизывали зверей, глаза зверей послушно
опускались. В вытянутой руке она держала хлыстик с шелковой кисточкой на
конце. Кисточка указывала каждому тигру его место.
-- Ты сюда!.. Ты поближе!.. А ты туда!..
И тигры занимали свои места безропотно, подходя к шарам пружинистым
шагом, помахивая тяжелыми длинными хвостами.
По одну и по другую сторону от них лежало рядком по шесть огромных
деревянных шаров.
Крайний тигр потрогал лапой шар, взвился на него плавным, легким
прыжком, как кошка на ворота, и, поджидая других, зевнул -- распушил колючие
усы, показал небо, обнажил клыки.
У зрителей дрогнуло сердце. Одна мысль владела всеми: все знали, что
эти острые, могучие клыки, эти лапы с железными когтями могут в одну секунду
раздавить как воробья, растерзать в клочья женщину в платье из золотистых
чешуек, со сверкающими разноцветными камнями.
Но мисс Эллиан улыбалась. Так ее звали: мисс Эллиан. Она улыбалась как
ни в чем не бывало.
Мисс Эллиан была одна среди хищников. Никакого оружия: только хлыстик с
шелковой кисточкой да еще пронизывающий взгляд.
Но этого было достаточно для того, чтобы двенадцать бенгальских тигров
превратились в двенадцать смирных, послушных кошек.
-- Вся сила укротительницы -- в глазах! -- сказал занимавший место у
самой решетки старый господин сидевшей рядом внучке. -- Стоит ей отвести
взгляд, стоит тиграм почувствовать, что она задумалась или просто боится их,
как они в ту же секунду бросятся на нее и...
-- Мне страшно, когда ты так говоришь... Ужасно страшно! -- прошептала
девочка и прижалась к деду.
-- Шш... Тише...
Все замерли. Светлокудрая голубоглазая девочка в белой шубке еще крепче
прижалась к старому господину. Ей слышно, как бьется ее маленькое сердце.
Сидя на деревянных шарах, двенадцать бенгальских тигров напряженно ждут
команды, которую подадут им глаза мисс Эллиан.
Из купола цирка лился ослепительный электрический свет. Две тысячи
разместившихся в цирке локоть к локтю человек окаменели.
Публика была очень пестрая: старики и молодые женщины, родители с
детьми, школьницы со своими учительницами. Людей этих разделяли лишь ряды
скамеек или стульев да еще цена билетов. Одни, заполнявшие галерку, стояли;
другие сидели вокруг решетки в обитых красным плюшем креслах.
Все забыли о своих домашних заботах, о повседневных маленьких радостях
и огорчениях и не отрываясь глядели на арену.
Кто из них на улице не пугался какой-нибудь неожиданно залаявшей шавки
с хвостом закорючкой? А дома кто не вздрагивал ночью, когда вдруг скрипнет
мебель или из-под шкафа покажется мышка с глазами как черные бусинки?
Здесь все эти страхи казались смешными. Все чувствовали себя
участниками чего-то необычайного, чудесного.
Двенадцать диких, укрощенных зверей слушались одного женского взгляда,
хлопка хлыста с шелковой кисточкой, поданного кончиком пальца знака.
Тишина. Не слышно ни шелеста программ, ни разговоров, ни скрипа
скамеек, ни покашливания.
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
Так напечатано в программе.
Последнее, прощальное представление.
Завтра цирковая палатка будет сложена, а звери уедут в белых вагонах в
другой город. Может быть, они никогда больше сюда не вернутся. О них будет
напоминать лишь пустырь возле городского сада.
Взрослые вернутся к своим обычным занятиям и заботам; дети -- к
животным из войлока, плюша или раскрашенного дерева.
Мальчики, увлеченные своими играми, скоро забудут, что на свете
существуют звери дикой, несравненной красоты, с бархатной шкурой и желтыми,
будто стеклянными глазами; звери, прыжок которых описывает дугообразную
линию пущенного из рогатки камня. И опять пугливые девочки будут
вздрагивать, когда из-за забора вдруг залает на них шавка с хвостом
закорючкой или когда по комнате пробежит, как заводная игрушка, мышь.
Поэтому все они, мальчики и девочки, собрались сегодня здесь, чтобы еще
раз -- в последний раз -- увидеть два чуда, которые показывает на своем
прощальном представлении цирк Струцкого:
МИСС ЭЛЛИАН С ДВЕНАДЦАТЬЮ БЕНГАЛЬСКИМИ ТИГРАМИ
И БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ФРАМ
Тигры, образуя круг, ждали на своих деревянных шарах.
Женщина в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими разноцветными
камнями отступила на шаг.
Двенадцать одинаковых, грациозных прыжков -- и тигры очутились возле
нее, легли кругом, положив морды на вытянутые лапы. Теперь казалось, что
вокруг женщины раскрылся гигантский подсолнечник с двенадцатью оранжевыми
лепестками, перечерченными блестящими бархатными черными полосами.
Рука женщины принялась гладить круглые головы, мягкие уши, влажные
морды. Она ласкала своих тигров. Она довольна ими.
Внучке старого господина стало стыдно при мысли, что дома ее не
слушается даже кот Пуфулец.
Еще на прошлой неделе в самом разгаре игры он ни с того, ни с сего
поцарапал ей щеку.
Выше, в заднем ряду, курносый мальчик с сияющими глазами поднялся на
цыпочки, чтобы лучше видеть.
Это -- Петруш, младший сынок рабочего одного из заводов города. Как и
многие другие его сверстники, он целую неделю торчал у входа в цирк и скопил
по грошам стоимость билета. Теперь ему хотелось не пропустить ничего из
того, что происходило на арене: не зря же он с таким напряженным вниманием
читал и перечитывал афишу, невзирая на холод и мокрый снег! И не зря с такой
завистью смотрел на входившую в цирк публику. Теперь, когда он наконец
здесь, как не превратиться в слух, не глядеть во все глаза?!
Окруженная тиграми мисс Эллиан подняла руки -- звери могут встать, --
потом щелкнула хлыстом. Резиновым, неслышным шагом тигры вернулись на свои
места, уселись на шары и замерли в ожидании новой команды. Женщина в
золотистом платье со сверкающими камнями подняла обтянутый бумагой обруч и
подожгла другой такой же, на железной подставке.
Снова щелкнул хлыст.
Один за другим звери отделяются от лакированных шаров, в длинном прыжке
пролетают сквозь бумажный круг и, едва коснувшись песка, плавно переносят
вытянутое туловище сквозь второй, пылающий круг.
Самый молодой и строптивый тигр не встретил повелительного взгляда
укротительницы. Притворяясь, будто он не понял, что от него хотят, зверь
пытается пролезть под объятым пламенем обручем, потом преспокойно
усаживается на свой шар и лениво, со скучающим видом зевает.
-- Это Раджа. Его зовут Раджа! -- шепчет девочка. -- Я запомнила его с
прошлого воскресенья. Самый из всех злой...
Укротительница не окликнула его по имени, не тронула шелковой кисточкой
хлыста, не копнула гневно песок носком туфельки. Она только раз пристально
взглянула на него и подняла круг.
Тигр оскалился.
-- Мне страшно! Идем домой, дедушка, мне страшно!.. -- испугалась
девочка и вцепилась в рукав деда.
-- Шш...
Но кудрявой голубоглазой девочке в белой шубке и белой шапочке нечего
было бояться.
Стальной взгляд укротительницы снова пересилил упрямство молодого
строптивого тигра.
Раджа потупился, гибким движением слез с шара, напряг мускулы под
бархатной шкурой и в два прыжка молниеносно пронесся через бумажные круги,
один из которых продолжал полыхать.
Потом смирно вернулся на свое место. Его глаза смущенно просили
прощения. Он знал, что его ждет.
Когда он вернется в свою клетку, его накажут несколькими сильными
ударами по морде, но не тем тоненьким хлыстиком с шелковой кисточкой,
которым укротительница пользуется на представлении, а кожаным арапником, что
очень больно. А когда придет время кормежки, вместо куска сырого мяса он
получит ведро воды. Наказание это было ему знакомо. Знаком ему был и другой
облик женщины в золотистом чешуйчатом платье со сверкающими камнями, облик,
которого не видел никто из людей, заполнявших партер, ложи и галерку. За
кулисами мисс Эллиан меняла сверкающий туалет, в котором она появлялась
перед публикой, на старую кожаную тужурку и короткую запятнанную юбку. И уже
не улыбалась пленительно, посылая во все стороны воздушные поцелуи, в то
время как цирк сотрясался от аплодисментов.
Она вооружается острым железным прутом и арапником с вплетенным в конце
свинцом, хрипло кричит на тигров, бьет их и тычет им в ребра острым прутом.
Она груба и беспощадна с ними, потому что хозяин -- он же директор -- цирка,
человек куда более жестокий и жадный, чем его звери, не допускает ни
малейшего отклонения от своих приказаний. Ему вечно кажется, что все
лодырничают, мало работают. Ему хочется, чтобы номера программы были еще
более рискованными. Все артисты для него -- дармоеды.
-- Я вас на улицу выкину, -- то и дело грозится он. -- Подыхайте потом
с голоду!
Дрессировщиков он осыпает бранью, мечет громы и молнии. А те с перепугу
вымещают обиду на животных. Все страдают, все терпят. Все знают, что иного
выхода нет. Их тяжелый труд, их страдания, взимаемые с них по любому поводу
штрафы обогащают хозяина. Он богатеет с каждым днем, с каждым
представлением. Это -- самый опасный, самый ненасытный из всех зверей цирка.
Но все это происходит за кулисами, в зверинце, после того, как публика
расходится и огни гаснут.
Да, молодой строптивый Раджа знает, что его ждет. Знает он и то, что
его сейчас вызовут движением хлыста на середину арены.
Укротительница откроет ему руками пасть и вложит свою завитую головку
между его страшных клыков. Она проделает это с ним, Раджой, именно потому,
что у него репутация самого злого, самого непокорного из всех двенадцати
тигров, а мисс Эллиан хочет показать, что она ничего, решительно ничего не
боится. Номер этот повторяется три вечера сряду. "А что, -- думает Раджа, --
если чуточку, самую чуточку, сжать челюсти?" Череп ненавистной женщины
треснет, как яичная скорлупа, как кости тех антилоп, которых он убивал на
свободе, в джунглях далекой Бенгалии, бросаясь из чащи на свою жертву.
Раджа зевает на лакированном деревянном шаре.
Тигр знает, что никогда этого не сделает, -- он теперь во власти людей.
Взгляд горящих зеленых глаз укротительницы в самом зародыше убивает
всякую попытку сопротивления. Раджа сейчас такое же ничтожество, как
уродины-обезьяны в зверинце, которые угодливо попрошайничают, чтобы
полакомиться земляными орехами или мандаринами.
Тигр опускает веки на желтые, будто стеклянные глаза с раскосо
суженными зрачками, как у домашних кошек в полдень. Он больше не видит ни
мисс Эллиан, ни публику за решеткой.
Тигр видит то, что предстает перед ним всегда, как только он закроет
глаза.
Тропический лес. Широкая листва, непролазная чаща, свисающие до земли
лианы, птицы всех цветов радуги. С шелковистым шелестом проходят павлины,
порхают колибри, которые не больше насекомых, и громадные бабочки,
неуступающие в размере птицам. Что это раскачивается на дереве? Ветка или
змея? Откуда шорох: от ветра или среди широких листьев крадется другой тигр,
чужой? Ну, конечно, там есть заросшее бамбуком озерцо... Как хорошо известны
ему эти места! Сколько раз он прятался там, притаившись, выслеживая антилоп,
которые приходили на водопой! Ждал час и два, а то, случалось, и до поздней
ночи; менял место, смотря по направлению ветра, чтобы его не почуяли.
Наконец появлялись антилопы. Две, три, иногда только одна... Озираясь
пугливыми, влажными глазами, она нюхала воздух. Шагов на мягкой земле не
слышно. Вот она нагнулась к воде, вздрогнула, насторожила уши, вытянула шею
среди листьев лотоса. В этот миг он, как спущенная из лука стрела, прыгал из
чащи прямо на спину своей жертвы: она не успевала издать ни одного звука,
даже не дергалась в его клыках. Но бывало, что с добычей приходилось
повозиться. Трещали ветки, дебри оглашались диким ревом. Однажды дикий
буйвол... Раджа почуял его издали, подкараулил, прыгнул ему на хребет, но
буйвол перекинул его через голову, навалился на него, подмял под себя,
собираясь поддеть рогами. Лес замер в гробовом молчании. Обезьяны
попрятались по дуплам, остальные звери приникли к земле. Это был жестокий
поединок между хозяевами джунглей! Слышно было только их тяжелое дыхание,
прерываемое мычанием буйвола. Одолел все же он, Раджа... Потом, в другой
раз, было сражение со слоном, который схватил его хоботом, намереваясь
грохнуть оземь и раздавить толстыми, как бревна, ногами... Но в конце концов
убежал не Раджа, а слон с растерзанным в клочья хоботом и окровавленным
глазом. И долго еще среди ночи раздавался его гневный топот, ломались ветки,
срывались с деревьев пологи лиан, валились на землю заросли бамбука. А трое
вооруженных копьями охотников, которые хотели его окружить, и все трое
достались ему на обед!.. С тех пор о Радже пошла молва. Его боялась вся
округа. Все называли его ТИРАНОМ. Так называли его все. И у всех дрожали
поджилки, когда лес оглашался ревом. Никто больше не отваживался выходить на
лесные тропы. Люди поклялись предать его смерти, а сами смертельно боялись
его. Издали почуяв приближение человека, он подкрадывался к нему с такой
осторожностью, что не слышал своего дыхания. Делал несколько шагов,
останавливался... Еще шаг... прыжок. Удар клыками. Все! На водопое, куда
приходили антилопы, он неизменно оставался хозяином. Но однажды ночью его
лапу сжали железные тиски. Он попробовал разгрызть капкан. Лес огласился его
испуганным ревом. Пленник попытался вырваться, даже оставить свою лапу, в
капкане. Напрасная мука! Глубокая рана, нанесенная железом, дает о себе
знать до сих пор, когда холодно или идет дождь. Обессиленный болью и потерей
крови, он вытянулся на земле и стал ждать смерти, примиренно, не жалуясь на
судьбу. Только через неделю пришли люди с топорами, чтобы забрать его,
полумертвого от жажды и голода. Они отняли у него право спокойно умереть.
И вот он здесь.
Его отделяет от всего света железная решетка.
Его привезли сюда, и теперь он дрожит от страха, когда щелкает хлыст с
шелковой кисточкой. Этому предшествовали долгие, мучительные месяцы
дрессировки. Теперь он опускает глаза под взглядом женщины, единственное
оружие которой -- хлыстик с шелковой кисточкой. От нее нет спасения нигде!
Обезьяны бросают в него апельсинными и банановыми корками, строют рожи и
чешутся, карабкаясь по прутьям решетки, делают ему знаки своими неугомонными
лапами, когда его провозят мимо них в клетке на колесах. Только когда он
ревет, их внезапно обуревает ужас, как в джунглях, и тогда они смешно
корчатся, стараясь куда-нибудь спрятаться.
Шелковая кисточка слегка коснулась его морды. Это было совсем легкое,
воздушное прикосновение, почти ласка. Но тигр знал, что это выговор, знал,
что обещает такая ласка: злой арапник и железный прут.
Но куда денешься? Выбора нет. Поэтому он послушно слез с деревянного
шара, как того требовала программа представления.
Зрители затаили дыхание. В цирке водворилась такая тишина, что с
далекой улицы донеслись гудки автомобилей и грохот трамваев.
Двенадцать тигров улеглись среди арены, образовав круг. Мисс Эллиан
подобрала подол платья, бросила хлыст, легла на спину в середине этого
круга, скрестив на груди руки, и вложила голову в раскрытую пасть Раджи. Ее
затылок опирался на его клыки, как на откидной подголовник зубоврачебного
кресла.
Тигр моргает большими желтыми, будто стеклянными глазами. Вот если бы
немного придавить ненавистную голову зубами!.. Хоть немножко!.. Но глаза
женщины сверлят его. Он не видит их, но чувствует их пронизывающий взгляд.
Ах, как он его чувствует! И Раджа не сжимает челюстей, а лежит неподвижно,
как чучело, с открытой пастью.
Петруш, мальчик с блестящими глазами, сжал кулаки, вытянул шею и, сам
того не замечая, пробрался поближе к арене, чтобы лучше видеть, что там
происходит.
Девочка со светлыми локонами прикусила губку. Сердце ее бьется так
сильно, что того и гляди выскочит из маленькой груди. Кое-кто закрыл глаза.
Другие заткнули уши, чтобы не услышать вопля укротительницы. Даже у дедушки
белокурой девочки чуть задрожала рука на набалдашнике из слоновой кости,
который украшал его трость. Он уже видел раз, как тигры растерзали
укротителя, и знает, что этим кончают почти все дрессировщики диких зверей.
Знает также, что звери в таких случаях бросаются на решетку, яростно рычат и
кусают друг друга.
-- Гоп!
Грациозный прыжок, и женщина снова на ногах, посреди арены.
Она встряхивает иссиня-черными кудрями и откидывает шуршащий шлейф
платья носком туфельки. Улыбается, кланяется публике и, отвечая на бурные
аплодисменты, посылает воздушные поцелуи в ложи, партер, на галерку.
На обтянутом красным сукном помосте оркестр заиграл марш всеми своими
барабанами, трубами, флейтами и кларнетами... Дзинь-дзинь!
Дзинь-дзинь! -- позвякивал треугольник под ударами серебряного
молоточка.
Марш торжественный, церемониальный.
Через ворота в глубине арены двенадцать бенгальских тигров возвращаются
в свои клетки.
Они идут гуськом, как смирные домашние кошки, помахивая тяжелыми
длинными хвостами, не глядя ни вправо, ни влево большими желтыми, словно
стеклянными глазами.
Бархатные лапы ступают по песку мягко, бесшумно.
 * * *
* * *
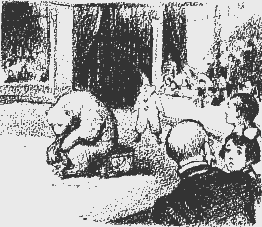 II. ФРАМ КАПРИЗНИЧАЕТ
Это был настоящий прощальный вечер.
Никогда еще у цирка Струцкого не было более богатой программы. Гимнасты
и эквилибристы. Лошади и слоны. Обезьяны и львы. Пантеры и собаки. Акробаты
и клоуны. И все они состязались в ловкости и смелости, в выносливости и
презрении к смерти, словно заранее решив оставить по себе неизгладимую
память.
Публика переходила от волнения к взрывам хохота, от изумления к
радости, доставляемой выходками паяцев в широких панталонах и колпаках с
колокольчиком.
Всех пробрала дрожь при виде сальто-мортале гимнастов в черном трико.
На груди у них был вышит белый череп. Они летали с одной трапеции на другую
без защитной сетки, которая обычно натягивалась под ними.
-- Хватит! Перестаньте! Довольно! -- слышались отовсюду, из партера и с
галерки, возгласы зрителей, испуганных этой безумной игрой со смертью.
Но гимнасты с белым черепом на черном трико только трясли головой: что
значит "довольно"? Терпение, господа, у нас есть и другие номера!
Их было четверо: двое мужчин и две женщины.
Они раскачивались в воздухе на тонких трапециях, прикрепленных к
колосникам цирка-шапито, под ослепительно горевшими лампочками.
Перекликались, звали друг друга, повисая над пустотой то тут, то там и через
секунду опять возвращаясь на прежнее место. Они скрещивались в воздухе,
скользили, меняя руки, с одной трапеции на другую, соединялись в одну черную
гроздь тел, разматывались цепочкой и вновь оказывались на раскачивающихся
трапециях, улыбаясь онемевшей от страха публике и натирая ладони белым
порошком, чтобы начать все снова.
Гимнасты соперничали в ловкости с белками, которые живут в лесу, но у
белок нет на груди черепа. Им не грозит опасность сорваться от малейшей
ошибки и разбиться насмерть на песке, утоптанном ногами людей и копытами
лошадей.
Потом настал черед громадных слонов с пепельной кожей и ушами, как
лопухи. Они грузно выступали на своих похожих на толстые бревна ногах,
поднимали хобот, чтобы, как из душа, окатить себе спину холодной водой,
вставали на дыбы и танцевали в такт музыке. Это были добродушные великаны.
Они слушались тоненького прутика и забавно дудели в горн хоботом.
Не преминул появиться на арене и глупый Августин.
Как всегда, этот лопоухий простофиля показался совершенно некстати в
глубине арены из-за бархатного, вишневого цвета занавеса. Фалды его фрака
волочились по песку. Длиннейшие туфли напоминали лыжи. Высоченный
крахмальный воротничок казался надетой на шею манжетой. Костюм его дополняли
пять напяленных один на другой жилетов и пестрый галстук. Нос у Августина
напоминал спелый помидор, а кирпичного цвета волосы торчали, как иглы
испуганного ежа. На пощечины и удары по голове широкой доской он не обращал
никакого внимания. Внезапно на лбу у него выросла увенчанная красной
лампочкой шишка, из волос вырвались пламя и дым. Когда он упал, споткнувшись
о ковер, где-то в задней части панталон у него сама собой заиграла губная
гармошка. Потом он стащил кухонные ходики и, пристегнув их на цепочку,
принялся горделиво расхаживать по арене, подражая важному барину на главной
улице города. Ходики оказались в то же время будильником и зазвонили у него
в кармане в ту секунду, когда их хозяин обратился к нему с вопросом: не
знает ли Августин, кто украл у него часы? После новых проделок,
сопровождавшихся, по обыкновению, неистовым враньем, он поссорился с другими
клоунами, Тото и Тэнасе, мешая им петь и требуя, чтоб они научили его этому
искусству.
И как полагается, простофиля Августин неизменно оставался в дураках.
Голубоглазая девочка в белой шапочке забыла про только что испытанные
страхи и уже не цепляется за рукав дедушки: раскрасневшаяся от хохота, она
топает ножками.
Топал ногами и Петруш в своем поношенном пальтишке. Не обращая внимания
на строгий взгляд билетера в синей ливрее с позолоченными пуговицами, он все
еще стоял в партере, у самой арены.
К счастью, в это время сзади к Августину подошел осел, схватил его
зубами за панталоны и уволок с арены, чтоб тот не путался под ногами.
Японские акробаты виртуозно жонглировали тарелками, бутылками, мячами,
апельсинами и серсо. Потом был парад лошадей, и наездница в короткой юбочке
показала чудеса вольтижировки. Ее сменил силач, который выдержал на груди
тяжесть мельничного жернова с пятью стоявшими на нем людьми, пока другие
атлеты не разбили жернова молотками. Обезьяны обедали за столом и катались
на автомобильчике, который был не больше детской коляски. Шофером была тоже
обезьяна. Она умела ездить только на большой скорости и отчаянно, не
переставая, сигналила. На крутом вираже автомобильчик перевернулся посреди
арены, и самая старая из обезьян в наказанье схватила незадачливого шофера
за уши и пинком прогнала его прочь. Но самой забавной была обезьянка,
умевшая играть на гармонике и курить.
Вдоволь насмеявшись, зрители снова склонились над программами.
Послышался нетерпеливый шорох.
Недоставало Фрама, белого медведя.
Почему Фрам заставляет себя ждать?
Этого еще никогда не бывало.
Фрам превосходил в искусстве всех цирковых зверей. Он не нуждался в
укротителе. Не нужно было понукать его хлыстом или показывать что делать. Он
выходил на арену один, на задних лапах, выпрямившись во весь рост, как
человек. Отвешивал поклоны вправо и влево, вперед и назад. Под грохот
аплодисментов прогуливался вокруг арены, заложив передние лапы за спину.
Потом требовал лапой тишины и самостоятельно начинал свою программу: лазил
на шест, как матрос на мачту корабля, катался на громадном велосипеде,
уверенно переезжая шаткие мостики, делал двойные сальто-мортале и пил из
бутылки пиво.
Он умел быть смешным и серьезным.
Лапой вызывал из партера или с галерки охотников бороться с ним или
боксировать. И на галерке всегда находился желающий помериться с ним силами.
Обычно это был один из цирковых атлетов, нарочно с этой целью смешавшийся с
толпой. Поединок вызывал дружный смех, потому что Фрам был очень сильный, но
в то же время совсем ручной и большой шутник. Одним мягким толчком он
нокаутировал противника, потом, размахивая лапой, принимался считать; раз,
два, три, четыре, пять... Покончив со счетом, он хватал противника под
мышки, поднимал его и кидал, как тюк, на песок. Тот кубарем катился под ноги
публике и вставал, отряхиваясь, под всеобщий хохот.
Расправившись с одним, Фрам лапой вызывал другого: кто еще охотник?
Выходи, не робей!
Но охотников больше не находилось. В ответ ему слышался смех. Белый
медведь с презрительной жалостью складывал лапы: чего ж, мол, смеетесь?
Кишка тонка?.. Там, наверху-то, каждый храбрец!..
Его прыжки через голову, его акробатические упражнения на передних
лапах, номер, когда он шел колесом вокруг арены, вызывали изумление и бурный
восторг.
Дети любили Фрама за то, что он их смешил.
Взрослые восторгались им потому, что было и в самом деле удивительно,
как громоздкий и дикий зверь, завезенный из ледяных пустынь, может быть
таким ручным, понятливым и подвижным.
Представление, на котором отсутствовал Фрам, было как обед без
сладкого.
Другое дело мисс Эллиан со своими двенадцатью бенгальскими тиграми. Ее
номер показывал, что может сделать женщина только взглядом и тоненьким
хлыстиком из самых свирепых хищников азиатских лесов. Она держала всех в
напряжении. Когда тигры уходили, публика облегченно вздыхала.
Появление Фрама зрители встречали совсем иначе. Это был громадный,
могучий зверь, рожденный в стране вечных льдов, но кроткий, как ягненок, и
понятливый, как человек. Для его номеров не нужно было ни хлыста, ни
повелительного взгляда. Не нужно было показывать ему место на арене или
напоминать ежеминутно, что он должен делать. Его наградой были аплодисменты.
А Фрам любил аплодисменты.
Видно было, что он понимает их смысл и ждет их, что они доставляют ему
удовольствие.
Да, он любил аплодисменты и любил публику, особенно детей. Заметив, что
мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу; пусть угостит и его.
Благодарил, по-солдатски прикладывая лапу к голове. Если ему доставалось
несколько конфет, он съедал только одну, а остальные предлагал, вытянув
перевернутую лапу, другим детям, словно догадываясь, что не все они
одинаково часто лакомятся сластями. Какой-нибудь смельчак спускался на арену
за гостинцем. Фрам гладил его по головке огромной лапой, внезапно
становившейся легкой и мягкой, как рука матери.
Мальчика, получавшего конфеты, он не отпускал обратно на галерку, где
тесно и плохо видно, а, перегнувшись через барьер, подхватывал лапой стул,
ставил его в ложу и знаком приглашал счастливца сесть. Если же тот не
решался, конфузился или боялся, белый медведь поднимал его двумя лапами, сам
сажал на стул и, приложив к морде коготь, приказывал сидеть смирно и ничего
не бояться. Потом поворачивался к билетерам, показывал им на мальчика и клал
себе лапу на грудь: пусть знают, что это его подопечный и что он за него
отвечает.
Как же после этого было не любить Фрама? Как мог он не быть всеобщим
баловнем?
II. ФРАМ КАПРИЗНИЧАЕТ
Это был настоящий прощальный вечер.
Никогда еще у цирка Струцкого не было более богатой программы. Гимнасты
и эквилибристы. Лошади и слоны. Обезьяны и львы. Пантеры и собаки. Акробаты
и клоуны. И все они состязались в ловкости и смелости, в выносливости и
презрении к смерти, словно заранее решив оставить по себе неизгладимую
память.
Публика переходила от волнения к взрывам хохота, от изумления к
радости, доставляемой выходками паяцев в широких панталонах и колпаках с
колокольчиком.
Всех пробрала дрожь при виде сальто-мортале гимнастов в черном трико.
На груди у них был вышит белый череп. Они летали с одной трапеции на другую
без защитной сетки, которая обычно натягивалась под ними.
-- Хватит! Перестаньте! Довольно! -- слышались отовсюду, из партера и с
галерки, возгласы зрителей, испуганных этой безумной игрой со смертью.
Но гимнасты с белым черепом на черном трико только трясли головой: что
значит "довольно"? Терпение, господа, у нас есть и другие номера!
Их было четверо: двое мужчин и две женщины.
Они раскачивались в воздухе на тонких трапециях, прикрепленных к
колосникам цирка-шапито, под ослепительно горевшими лампочками.
Перекликались, звали друг друга, повисая над пустотой то тут, то там и через
секунду опять возвращаясь на прежнее место. Они скрещивались в воздухе,
скользили, меняя руки, с одной трапеции на другую, соединялись в одну черную
гроздь тел, разматывались цепочкой и вновь оказывались на раскачивающихся
трапециях, улыбаясь онемевшей от страха публике и натирая ладони белым
порошком, чтобы начать все снова.
Гимнасты соперничали в ловкости с белками, которые живут в лесу, но у
белок нет на груди черепа. Им не грозит опасность сорваться от малейшей
ошибки и разбиться насмерть на песке, утоптанном ногами людей и копытами
лошадей.
Потом настал черед громадных слонов с пепельной кожей и ушами, как
лопухи. Они грузно выступали на своих похожих на толстые бревна ногах,
поднимали хобот, чтобы, как из душа, окатить себе спину холодной водой,
вставали на дыбы и танцевали в такт музыке. Это были добродушные великаны.
Они слушались тоненького прутика и забавно дудели в горн хоботом.
Не преминул появиться на арене и глупый Августин.
Как всегда, этот лопоухий простофиля показался совершенно некстати в
глубине арены из-за бархатного, вишневого цвета занавеса. Фалды его фрака
волочились по песку. Длиннейшие туфли напоминали лыжи. Высоченный
крахмальный воротничок казался надетой на шею манжетой. Костюм его дополняли
пять напяленных один на другой жилетов и пестрый галстук. Нос у Августина
напоминал спелый помидор, а кирпичного цвета волосы торчали, как иглы
испуганного ежа. На пощечины и удары по голове широкой доской он не обращал
никакого внимания. Внезапно на лбу у него выросла увенчанная красной
лампочкой шишка, из волос вырвались пламя и дым. Когда он упал, споткнувшись
о ковер, где-то в задней части панталон у него сама собой заиграла губная
гармошка. Потом он стащил кухонные ходики и, пристегнув их на цепочку,
принялся горделиво расхаживать по арене, подражая важному барину на главной
улице города. Ходики оказались в то же время будильником и зазвонили у него
в кармане в ту секунду, когда их хозяин обратился к нему с вопросом: не
знает ли Августин, кто украл у него часы? После новых проделок,
сопровождавшихся, по обыкновению, неистовым враньем, он поссорился с другими
клоунами, Тото и Тэнасе, мешая им петь и требуя, чтоб они научили его этому
искусству.
И как полагается, простофиля Августин неизменно оставался в дураках.
Голубоглазая девочка в белой шапочке забыла про только что испытанные
страхи и уже не цепляется за рукав дедушки: раскрасневшаяся от хохота, она
топает ножками.
Топал ногами и Петруш в своем поношенном пальтишке. Не обращая внимания
на строгий взгляд билетера в синей ливрее с позолоченными пуговицами, он все
еще стоял в партере, у самой арены.
К счастью, в это время сзади к Августину подошел осел, схватил его
зубами за панталоны и уволок с арены, чтоб тот не путался под ногами.
Японские акробаты виртуозно жонглировали тарелками, бутылками, мячами,
апельсинами и серсо. Потом был парад лошадей, и наездница в короткой юбочке
показала чудеса вольтижировки. Ее сменил силач, который выдержал на груди
тяжесть мельничного жернова с пятью стоявшими на нем людьми, пока другие
атлеты не разбили жернова молотками. Обезьяны обедали за столом и катались
на автомобильчике, который был не больше детской коляски. Шофером была тоже
обезьяна. Она умела ездить только на большой скорости и отчаянно, не
переставая, сигналила. На крутом вираже автомобильчик перевернулся посреди
арены, и самая старая из обезьян в наказанье схватила незадачливого шофера
за уши и пинком прогнала его прочь. Но самой забавной была обезьянка,
умевшая играть на гармонике и курить.
Вдоволь насмеявшись, зрители снова склонились над программами.
Послышался нетерпеливый шорох.
Недоставало Фрама, белого медведя.
Почему Фрам заставляет себя ждать?
Этого еще никогда не бывало.
Фрам превосходил в искусстве всех цирковых зверей. Он не нуждался в
укротителе. Не нужно было понукать его хлыстом или показывать что делать. Он
выходил на арену один, на задних лапах, выпрямившись во весь рост, как
человек. Отвешивал поклоны вправо и влево, вперед и назад. Под грохот
аплодисментов прогуливался вокруг арены, заложив передние лапы за спину.
Потом требовал лапой тишины и самостоятельно начинал свою программу: лазил
на шест, как матрос на мачту корабля, катался на громадном велосипеде,
уверенно переезжая шаткие мостики, делал двойные сальто-мортале и пил из
бутылки пиво.
Он умел быть смешным и серьезным.
Лапой вызывал из партера или с галерки охотников бороться с ним или
боксировать. И на галерке всегда находился желающий помериться с ним силами.
Обычно это был один из цирковых атлетов, нарочно с этой целью смешавшийся с
толпой. Поединок вызывал дружный смех, потому что Фрам был очень сильный, но
в то же время совсем ручной и большой шутник. Одним мягким толчком он
нокаутировал противника, потом, размахивая лапой, принимался считать; раз,
два, три, четыре, пять... Покончив со счетом, он хватал противника под
мышки, поднимал его и кидал, как тюк, на песок. Тот кубарем катился под ноги
публике и вставал, отряхиваясь, под всеобщий хохот.
Расправившись с одним, Фрам лапой вызывал другого: кто еще охотник?
Выходи, не робей!
Но охотников больше не находилось. В ответ ему слышался смех. Белый
медведь с презрительной жалостью складывал лапы: чего ж, мол, смеетесь?
Кишка тонка?.. Там, наверху-то, каждый храбрец!..
Его прыжки через голову, его акробатические упражнения на передних
лапах, номер, когда он шел колесом вокруг арены, вызывали изумление и бурный
восторг.
Дети любили Фрама за то, что он их смешил.
Взрослые восторгались им потому, что было и в самом деле удивительно,
как громоздкий и дикий зверь, завезенный из ледяных пустынь, может быть
таким ручным, понятливым и подвижным.
Представление, на котором отсутствовал Фрам, было как обед без
сладкого.
Другое дело мисс Эллиан со своими двенадцатью бенгальскими тиграми. Ее
номер показывал, что может сделать женщина только взглядом и тоненьким
хлыстиком из самых свирепых хищников азиатских лесов. Она держала всех в
напряжении. Когда тигры уходили, публика облегченно вздыхала.
Появление Фрама зрители встречали совсем иначе. Это был громадный,
могучий зверь, рожденный в стране вечных льдов, но кроткий, как ягненок, и
понятливый, как человек. Для его номеров не нужно было ни хлыста, ни
повелительного взгляда. Не нужно было показывать ему место на арене или
напоминать ежеминутно, что он должен делать. Его наградой были аплодисменты.
А Фрам любил аплодисменты.
Видно было, что он понимает их смысл и ждет их, что они доставляют ему
удовольствие.
Да, он любил аплодисменты и любил публику, особенно детей. Заметив, что
мальчик или девочка грызет конфету, он протягивал лапу; пусть угостит и его.
Благодарил, по-солдатски прикладывая лапу к голове. Если ему доставалось
несколько конфет, он съедал только одну, а остальные предлагал, вытянув
перевернутую лапу, другим детям, словно догадываясь, что не все они
одинаково часто лакомятся сластями. Какой-нибудь смельчак спускался на арену
за гостинцем. Фрам гладил его по головке огромной лапой, внезапно
становившейся легкой и мягкой, как рука матери.
Мальчика, получавшего конфеты, он не отпускал обратно на галерку, где
тесно и плохо видно, а, перегнувшись через барьер, подхватывал лапой стул,
ставил его в ложу и знаком приглашал счастливца сесть. Если же тот не
решался, конфузился или боялся, белый медведь поднимал его двумя лапами, сам
сажал на стул и, приложив к морде коготь, приказывал сидеть смирно и ничего
не бояться. Потом поворачивался к билетерам, показывал им на мальчика и клал
себе лапу на грудь: пусть знают, что это его подопечный и что он за него
отвечает.
Как же после этого было не любить Фрама? Как мог он не быть всеобщим
баловнем?
 И вдруг теперь Фрам почему-то заставляет себя ждать. Его нет. Программа
близится к концу. Его номер давно позади.
Публика начинает громко протестовать.
В первую очередь, конечно, галерка. Потом дети в партере и ложах:
-- Фрам!
-- Где Фрам?
-- Почему нет Фрама?
-- Фрама!
Голоса сливаются в хор и скандируют:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Раздавались в этом хоре и голоса совсем маленьких ребят, которые еще
даже не умели как следует произносить слова, но тоже требовали права
участвовать в общей радости:
-- Фла-ма!
-- Фла-ма!
Светлокудрая девочка в белой шапочке вовсе позабыла о том, как она в
страхе просила дедушку отвести ее домой. Теперь и она изо всех сил хлопает в
ладошки:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама! -- кричит Петруш, который видел ученого белого медведя только
на расклеенных в городе афишах, но знал про него все от других мальчиков.
-- Фрама!
-- Дамы и господа! Уважаемая публика!.. -- попробовал успокоить
зрителей директор, выйдя на середину арены.
Но никто его не слушал. Голоса перебивали его, публика продолжала
требовать:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Глупый Августин, Тото и Тэнасе появились в шкуре белого медведя. Так
обычно изображали они, дурачась, Фрама, вызывая хохот публики, когда его
номер кончался.
Но прежде их ждал на арене настоящий Фрам.
Он садился на барьер, как человек, подпирал морду лапой и
снисходительно смотрел на дурачества паяцев. Он понимал шутки и, возможно,
даже смеялся про себя.
Когда ему казалось, что клоуны играли свою роль плохо и подражали ему
неудачно, он вставал и вступал в игру: хватал обеими лапами медвежью шкуру,
под которой скрывались Тото и Тэнасе, и тряс ее, как мешок с орехами, потом
подбирал вывалившихся паяцев, сажал их на барьер -- Тото по одну сторону от
себя, Тэнасе по другую-- и прижимал им головы лапой, чтобы они сидели
смирно, глядели на него и учились клоунскому искусству.
Для наглядности Фрам принимался изображать самого себя. Его смешные
гримасы повторяли все, что он раньше проделывал внимательно и всерьез.
Глупый Августин топтался вокруг него и орал во всю глотку, открывая
накрашенный до ушей рот:
-- Учись, Тэнасе! Учись, Тото!.. Браво, Фрам!..
Он топал ногами, катался по песку, вставал и снова принимался
паясничать, пока Фрам не поворачивался к нему, глядя на него строгими
глазами и словно говоря: "Слушай, рожа, не довольно ли валять дурака?"
Тогда Августин пятился, путаясь в фалдах фрака, и не произносил больше
ни слова.
Теперь тройка клоунов никого не развеселила. Из их появления в
медвежьей шкуре и подражания Фраму ничего не вышло. Публика снова принялась
свистеть и топать ногами, вызывая белого медведя:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Вишневый занавес в глубине арены, из-за которого выходили животные,
гимнасты и акробаты, заколыхался, то раздвигаясь, то сходясь обратно.
Там что-то происходило, но что именно -- никто не знал.
Директор еще два раза появлялся на арене, но ему даже не давали начать:
"Дамы и господа, уважаемая публика!.." "Уважаемая публика" затыкала ему рот
неимоверным гамом:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Директор пожимал плечами и ретировался за вишневый занавес.
-- Не понимаю, что происходит, -- сказал старый господин белокурой
внучке. -- Уж не заболел ли Фрам? Возможно, он не в состоянии выступать...
Но девочка ничего не слышала, не желала слышать: хлопая в ладошки и
топая ногами, она кричала вместе со всеми:
-- Фрама! Фрама!
-- Этот медведь начал капризничать. Слишком его избаловали!.. Он,
наверно, воображает себя великим артистом. Точь-в-точь, как люди, милочка,
-- сказала своей соседке дама с острым носом и тонкими губами.
-- Я того же мнения, дорогая, -- согласилась с ней ее соседка, такая же
остроносая, но с еще более тонкими губами.
Обе страдали желудком. Им было прописано есть только вареный картофель,
и то без соли. Поэтому все на свете казалось им скверным и скучным, все, по
их мнению, капризничали. Весь вечер они морщили нос и ни разу не
аплодировали. Мисс Эллиан с бенгальскими тиграми им не понравилась. Не
угодили и гимнасты в черном трико с вышитым белым шелком черепом, которые
ежесекундно рисковали жизнью. Ни одной улыбки не мелькнуло на их постных
лицах, когда выступали со своими комичными проделками глупый Августин, Тото
и Тэнасе.
Это были очень надменные дамы. Лучше бы они вообще остались дома и
легли спать. Но тогда нельзя было бы рассказывать завтра обо всем, что они
видели и раскритиковали.
-- Все ясно. Медведь просто капризничает. Издевается над публикой.
Кудрявая девочка в белой шапочке перестала топать. Она слышала этот
разговор, потому что остроносые дамы сидели в ложе рядом. Она покраснела,
набралась храбрости и выступила в защиту своего любимца:
-- Он вовсе не капризничает. Фрам никогда не капризничает.
-- Это еще что такое? Ты, девочка, просто нахалка!
Дамы обиделись и надменно посмотрели на нее сквозь лорнет.
Девочка залилась румянцем.
Но оказавшийся тут же Петруш чуть не захлопал в ладоши, чуть было не
крикнул: "Молодчина! Так им и надо! Правильно, что ты поставила их на
место!"
-- Веди себя прилично, Лилика! -- пожурил ее дед, впрочем, больше для
вида, потому что в душе был с ней согласен.
-- Но ведь они сказали, дедушка, что Фрам капризничает и издевается над
нами... Фрам никогда не капризничает!
Дедушка хотел еще что-то прибавить, но не успел.
В цирке вдруг стало тихо.
Топание и крики прекратились, и на арену ковром легла тишина. Такая
тишина, какой не было ни когда с трапеции на трапецию перелетали гимнасты в
черном трико, ни когда мисс Эллиан клала голову в пасть тигру.
Из-за бархатного вишневого занавеса показался Фрам.
Одна лапа еще держала поднятый край занавеса.
Он остановился и обвел взглядом цирк: множество голов, множество глаз в
ложах, партере и на галерке.
Медведь выпустил занавес.
Прошествовал на середину арены. Поклонился, как всегда, публике,
-- Фрам!
-- Браво, Фрам!
-- Ура! Браво, Фрам! Ура!
Фрам неподвижно стоял среди арены, громадный, белый как снег. Точно так
стоят его братья в стране вечных снегов на плавучих ледяных островах,
поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше видеть, как другие белые медведи
уплывают в безбрежный океан на других ледяных островах.
Он стоял и глядел в пространство.
Потом шагнул вперед и провел лапой по глазам, словно снимая лежавшую на
них пелену.
Аплодисменты стихли.
Все ждали что будет дальше.
Все думали, что Фрам готовит какой-то сюрприз. Вероятно, новый номер,
труднее всех прежних. Обычно он начинал свою программу без промедления. И
тишины требовал сам. Теперь же она, казалось, удивляла его.
-- Фокусы! Смотрите, как он ломается! -- пискливым голосом заметила
одна из остроносых дам.
Петруш едва сдерживался, переступая с ноги на ногу и покусывая губы.
Голубоглазая девочка пронзила надменных дам возмущенным взглядом, но
ничего не сказала: дедушкина рука лежала на ее плече...
Рядом с Фрамом возвышался обтянутый белым сукном помост, на который он
обычно поднимался, чтобы поиграть гирями и показать эквилибристику с шестом.
Публика кидала ему апельсины, а он ловил их пастью.
Вот он уселся на край помоста и стиснул голову передними лапами -- поза
человека, которому хочется собраться с мыслями или вспомнить что-то важное,
а может, и такого, который что-то потерял и пришел в отчаяние.
-- Видишь, милочка, как он над нами издевается! -- обиженно проговорила
одна из остроносых дам. -- И за что, спрашивается, мы платим деньги?! За то,
чтобы над нами издевался какой-то медведь!..
Дедушкина рука чуть сжала плечо кудрявой девочки в белой шапочке. Он
чувствовал, что внучка кипит и готова ринуться в бой за своего Фрама.
Но Фрам и в самом деле вел себя на этот раз непонятно. Медведь,
казалось, забыл, где он, забыл, чего ждет от него публика.
Забыл, что две тысячи человек глядят на него двумя тысячами пар глаз.
-- Фрам! -- раздался чей-то ободряющий голос. Белый медведь вскинул
глаза...
"Ах да, -- словно говорил его взгляд. -- Вы правы! Я -- Фрам, и моя
обязанность вас развлекать..."
Он беспомощно развел лапами, поднес правую ко лбу, потом к сердцу,
потом снова ко лбу и опять к сердцу. Что-то, видно, не ладилось, произошла
какая-то заминка...
Еще несколько мгновений назад, раздвигая вишневый занавес, он думал,
что все будет по-прежнему: публика, дети, аплодисменты подтверждали эту
иллюзию.
А теперь опять все забылось. Зачем он здесь? Что хотят от него эти
люди?
-- Он болен, дедушка! -- дрогнувшим от жалости голосом произнесла
голубоглазая девочка. -- Болен!.. Почему его не оставят в покое, если он
нездоров?
Девочка забыла, что она тоже топала ножками, хлопала в ладоши и кричала
вместе со всеми: "Фрама! Фрама!"
Как мучает ее теперь за это совесть! В голубых глазах стоят слезы
раскаяния.
Но дедушка, который был учителем, много повидал на своем веку и прочел
много книжек, дал другое объяснение:
-- Нет, Лилика, он не болен! Тут что-то более серьезное... Настал час,
когда он больше не пригоден для цирка. Так бывает со всем белыми медведями.
Четыре, пять или шесть лет они не знают себе равных как артисты. Потом на
них что-то находит. Никто не знает, почему. Может быть, это -- зов ледяной
пустыни, где они родились... Но они уже больше не в состоянии проделывать те
штуки, которые всех удивляли. Они снова становятся обыкновенными белыми
медведями и живут так много лет, может быть, слишком много... Иногда они
вспоминают то, что знали прежде, принимаются плясать, повторяют когда-то
выученные движения. Но бессознательно, бессвязно, невпопад. Как цирковой
артист, Фрам с сегодняшнего вечера больше не существует!..
-- Не может этого быть, дедушка! Не говори так, дедушка!
По голосу внучки, по тому, как дрожало под его рукой ее плечо, старый
учитель понял, что она сейчас расплачется. Но промолчал.
Курносый мальчик с блестящими глазами все слышал. Ему тоже не верилось.
И страшно хотелось как-нибудь утешить Фрама.
А Фрам закрыл глаза лапами и стал очень похож на плачущего человека.
Наконец он встал и сделал всем прощальный знак, протягивая лапы, как он
делал каждый вечер, когда кончался его номер и гром аплодисментов
сопровождал его до самого выхода.
Потом опустился на все четыре лапы и сразу превратился в обыкновенное
животное.
И все так же, на четырех лапах, понурив голову, направился к вишневому
занавесу.
Публика опешила. Никто ничего не понимал. Никто не кричал, никто не
свистел, никто не звал его обратно.
Петруш, курносый мальчик с блестящими глазами, подавил горестный вздох.
Вишневый бархатный занавес сдвинулся и скрыл Фрама.
Все сторонились его в узких кулисах, которые вели к конюшням и
зверинцу. Никто не осмеливался приблизиться к Фраму. Белый медведь сам вошел
в свою клетку и улегся, положив голову на вытянутые лапы, в самом темном
углу, мордой к стенке.
-- Что все это означает? Чистое издевательство!.. -- послышался
сердитый голос одной из остроносых дам. -- Мы заплатили деньги. В программе
напечатано: "Белый медведь Фрам. Сенсационное прощальное представление!"
Сенсационная глупость! Сенсационное издевательство над публикой!..
В глазах девочки стояли слезы. Петруш только глянул на надменных дам и
с досады принялся крутить на своем пальтишке пуговицу. Пуговица оторвалась.
-- Ах, черт!
Надменные дамы сердито посмотрели на мальчика, вероятно, подумали, что
это восклицание относится к ним, а не к пуговице.
Появившийся на арене глупый Августин кувыркался, расплющивая о песок
свой похожий на помидор нос, гонялся за собственной тенью.
Но он никого не развеселил. Никто не смеялся.
За вишневым занавесом директор цирка просматривал список артистов и
животных. Список был прибит гвоздями к черной доске. Вид у директора был
мрачный. В руке он держал синий карандаш.
Наконец он решился и жирной чертой вычеркнул из списка имя Фрама,
белого медведя.
И вдруг теперь Фрам почему-то заставляет себя ждать. Его нет. Программа
близится к концу. Его номер давно позади.
Публика начинает громко протестовать.
В первую очередь, конечно, галерка. Потом дети в партере и ложах:
-- Фрам!
-- Где Фрам?
-- Почему нет Фрама?
-- Фрама!
Голоса сливаются в хор и скандируют:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Раздавались в этом хоре и голоса совсем маленьких ребят, которые еще
даже не умели как следует произносить слова, но тоже требовали права
участвовать в общей радости:
-- Фла-ма!
-- Фла-ма!
Светлокудрая девочка в белой шапочке вовсе позабыла о том, как она в
страхе просила дедушку отвести ее домой. Теперь и она изо всех сил хлопает в
ладошки:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама! -- кричит Петруш, который видел ученого белого медведя только
на расклеенных в городе афишах, но знал про него все от других мальчиков.
-- Фрама!
-- Дамы и господа! Уважаемая публика!.. -- попробовал успокоить
зрителей директор, выйдя на середину арены.
Но никто его не слушал. Голоса перебивали его, публика продолжала
требовать:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Глупый Августин, Тото и Тэнасе появились в шкуре белого медведя. Так
обычно изображали они, дурачась, Фрама, вызывая хохот публики, когда его
номер кончался.
Но прежде их ждал на арене настоящий Фрам.
Он садился на барьер, как человек, подпирал морду лапой и
снисходительно смотрел на дурачества паяцев. Он понимал шутки и, возможно,
даже смеялся про себя.
Когда ему казалось, что клоуны играли свою роль плохо и подражали ему
неудачно, он вставал и вступал в игру: хватал обеими лапами медвежью шкуру,
под которой скрывались Тото и Тэнасе, и тряс ее, как мешок с орехами, потом
подбирал вывалившихся паяцев, сажал их на барьер -- Тото по одну сторону от
себя, Тэнасе по другую-- и прижимал им головы лапой, чтобы они сидели
смирно, глядели на него и учились клоунскому искусству.
Для наглядности Фрам принимался изображать самого себя. Его смешные
гримасы повторяли все, что он раньше проделывал внимательно и всерьез.
Глупый Августин топтался вокруг него и орал во всю глотку, открывая
накрашенный до ушей рот:
-- Учись, Тэнасе! Учись, Тото!.. Браво, Фрам!..
Он топал ногами, катался по песку, вставал и снова принимался
паясничать, пока Фрам не поворачивался к нему, глядя на него строгими
глазами и словно говоря: "Слушай, рожа, не довольно ли валять дурака?"
Тогда Августин пятился, путаясь в фалдах фрака, и не произносил больше
ни слова.
Теперь тройка клоунов никого не развеселила. Из их появления в
медвежьей шкуре и подражания Фраму ничего не вышло. Публика снова принялась
свистеть и топать ногами, вызывая белого медведя:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Вишневый занавес в глубине арены, из-за которого выходили животные,
гимнасты и акробаты, заколыхался, то раздвигаясь, то сходясь обратно.
Там что-то происходило, но что именно -- никто не знал.
Директор еще два раза появлялся на арене, но ему даже не давали начать:
"Дамы и господа, уважаемая публика!.." "Уважаемая публика" затыкала ему рот
неимоверным гамом:
-- Фра-ма!
-- Фра-ма!
Директор пожимал плечами и ретировался за вишневый занавес.
-- Не понимаю, что происходит, -- сказал старый господин белокурой
внучке. -- Уж не заболел ли Фрам? Возможно, он не в состоянии выступать...
Но девочка ничего не слышала, не желала слышать: хлопая в ладошки и
топая ногами, она кричала вместе со всеми:
-- Фрама! Фрама!
-- Этот медведь начал капризничать. Слишком его избаловали!.. Он,
наверно, воображает себя великим артистом. Точь-в-точь, как люди, милочка,
-- сказала своей соседке дама с острым носом и тонкими губами.
-- Я того же мнения, дорогая, -- согласилась с ней ее соседка, такая же
остроносая, но с еще более тонкими губами.
Обе страдали желудком. Им было прописано есть только вареный картофель,
и то без соли. Поэтому все на свете казалось им скверным и скучным, все, по
их мнению, капризничали. Весь вечер они морщили нос и ни разу не
аплодировали. Мисс Эллиан с бенгальскими тиграми им не понравилась. Не
угодили и гимнасты в черном трико с вышитым белым шелком черепом, которые
ежесекундно рисковали жизнью. Ни одной улыбки не мелькнуло на их постных
лицах, когда выступали со своими комичными проделками глупый Августин, Тото
и Тэнасе.
Это были очень надменные дамы. Лучше бы они вообще остались дома и
легли спать. Но тогда нельзя было бы рассказывать завтра обо всем, что они
видели и раскритиковали.
-- Все ясно. Медведь просто капризничает. Издевается над публикой.
Кудрявая девочка в белой шапочке перестала топать. Она слышала этот
разговор, потому что остроносые дамы сидели в ложе рядом. Она покраснела,
набралась храбрости и выступила в защиту своего любимца:
-- Он вовсе не капризничает. Фрам никогда не капризничает.
-- Это еще что такое? Ты, девочка, просто нахалка!
Дамы обиделись и надменно посмотрели на нее сквозь лорнет.
Девочка залилась румянцем.
Но оказавшийся тут же Петруш чуть не захлопал в ладоши, чуть было не
крикнул: "Молодчина! Так им и надо! Правильно, что ты поставила их на
место!"
-- Веди себя прилично, Лилика! -- пожурил ее дед, впрочем, больше для
вида, потому что в душе был с ней согласен.
-- Но ведь они сказали, дедушка, что Фрам капризничает и издевается над
нами... Фрам никогда не капризничает!
Дедушка хотел еще что-то прибавить, но не успел.
В цирке вдруг стало тихо.
Топание и крики прекратились, и на арену ковром легла тишина. Такая
тишина, какой не было ни когда с трапеции на трапецию перелетали гимнасты в
черном трико, ни когда мисс Эллиан клала голову в пасть тигру.
Из-за бархатного вишневого занавеса показался Фрам.
Одна лапа еще держала поднятый край занавеса.
Он остановился и обвел взглядом цирк: множество голов, множество глаз в
ложах, партере и на галерке.
Медведь выпустил занавес.
Прошествовал на середину арены. Поклонился, как всегда, публике,
-- Фрам!
-- Браво, Фрам!
-- Ура! Браво, Фрам! Ура!
Фрам неподвижно стоял среди арены, громадный, белый как снег. Точно так
стоят его братья в стране вечных снегов на плавучих ледяных островах,
поднимаясь на задние лапы, чтобы лучше видеть, как другие белые медведи
уплывают в безбрежный океан на других ледяных островах.
Он стоял и глядел в пространство.
Потом шагнул вперед и провел лапой по глазам, словно снимая лежавшую на
них пелену.
Аплодисменты стихли.
Все ждали что будет дальше.
Все думали, что Фрам готовит какой-то сюрприз. Вероятно, новый номер,
труднее всех прежних. Обычно он начинал свою программу без промедления. И
тишины требовал сам. Теперь же она, казалось, удивляла его.
-- Фокусы! Смотрите, как он ломается! -- пискливым голосом заметила
одна из остроносых дам.
Петруш едва сдерживался, переступая с ноги на ногу и покусывая губы.
Голубоглазая девочка пронзила надменных дам возмущенным взглядом, но
ничего не сказала: дедушкина рука лежала на ее плече...
Рядом с Фрамом возвышался обтянутый белым сукном помост, на который он
обычно поднимался, чтобы поиграть гирями и показать эквилибристику с шестом.
Публика кидала ему апельсины, а он ловил их пастью.
Вот он уселся на край помоста и стиснул голову передними лапами -- поза
человека, которому хочется собраться с мыслями или вспомнить что-то важное,
а может, и такого, который что-то потерял и пришел в отчаяние.
-- Видишь, милочка, как он над нами издевается! -- обиженно проговорила
одна из остроносых дам. -- И за что, спрашивается, мы платим деньги?! За то,
чтобы над нами издевался какой-то медведь!..
Дедушкина рука чуть сжала плечо кудрявой девочки в белой шапочке. Он
чувствовал, что внучка кипит и готова ринуться в бой за своего Фрама.
Но Фрам и в самом деле вел себя на этот раз непонятно. Медведь,
казалось, забыл, где он, забыл, чего ждет от него публика.
Забыл, что две тысячи человек глядят на него двумя тысячами пар глаз.
-- Фрам! -- раздался чей-то ободряющий голос. Белый медведь вскинул
глаза...
"Ах да, -- словно говорил его взгляд. -- Вы правы! Я -- Фрам, и моя
обязанность вас развлекать..."
Он беспомощно развел лапами, поднес правую ко лбу, потом к сердцу,
потом снова ко лбу и опять к сердцу. Что-то, видно, не ладилось, произошла
какая-то заминка...
Еще несколько мгновений назад, раздвигая вишневый занавес, он думал,
что все будет по-прежнему: публика, дети, аплодисменты подтверждали эту
иллюзию.
А теперь опять все забылось. Зачем он здесь? Что хотят от него эти
люди?
-- Он болен, дедушка! -- дрогнувшим от жалости голосом произнесла
голубоглазая девочка. -- Болен!.. Почему его не оставят в покое, если он
нездоров?
Девочка забыла, что она тоже топала ножками, хлопала в ладоши и кричала
вместе со всеми: "Фрама! Фрама!"
Как мучает ее теперь за это совесть! В голубых глазах стоят слезы
раскаяния.
Но дедушка, который был учителем, много повидал на своем веку и прочел
много книжек, дал другое объяснение:
-- Нет, Лилика, он не болен! Тут что-то более серьезное... Настал час,
когда он больше не пригоден для цирка. Так бывает со всем белыми медведями.
Четыре, пять или шесть лет они не знают себе равных как артисты. Потом на
них что-то находит. Никто не знает, почему. Может быть, это -- зов ледяной
пустыни, где они родились... Но они уже больше не в состоянии проделывать те
штуки, которые всех удивляли. Они снова становятся обыкновенными белыми
медведями и живут так много лет, может быть, слишком много... Иногда они
вспоминают то, что знали прежде, принимаются плясать, повторяют когда-то
выученные движения. Но бессознательно, бессвязно, невпопад. Как цирковой
артист, Фрам с сегодняшнего вечера больше не существует!..
-- Не может этого быть, дедушка! Не говори так, дедушка!
По голосу внучки, по тому, как дрожало под его рукой ее плечо, старый
учитель понял, что она сейчас расплачется. Но промолчал.
Курносый мальчик с блестящими глазами все слышал. Ему тоже не верилось.
И страшно хотелось как-нибудь утешить Фрама.
А Фрам закрыл глаза лапами и стал очень похож на плачущего человека.
Наконец он встал и сделал всем прощальный знак, протягивая лапы, как он
делал каждый вечер, когда кончался его номер и гром аплодисментов
сопровождал его до самого выхода.
Потом опустился на все четыре лапы и сразу превратился в обыкновенное
животное.
И все так же, на четырех лапах, понурив голову, направился к вишневому
занавесу.
Публика опешила. Никто ничего не понимал. Никто не кричал, никто не
свистел, никто не звал его обратно.
Петруш, курносый мальчик с блестящими глазами, подавил горестный вздох.
Вишневый бархатный занавес сдвинулся и скрыл Фрама.
Все сторонились его в узких кулисах, которые вели к конюшням и
зверинцу. Никто не осмеливался приблизиться к Фраму. Белый медведь сам вошел
в свою клетку и улегся, положив голову на вытянутые лапы, в самом темном
углу, мордой к стенке.
-- Что все это означает? Чистое издевательство!.. -- послышался
сердитый голос одной из остроносых дам. -- Мы заплатили деньги. В программе
напечатано: "Белый медведь Фрам. Сенсационное прощальное представление!"
Сенсационная глупость! Сенсационное издевательство над публикой!..
В глазах девочки стояли слезы. Петруш только глянул на надменных дам и
с досады принялся крутить на своем пальтишке пуговицу. Пуговица оторвалась.
-- Ах, черт!
Надменные дамы сердито посмотрели на мальчика, вероятно, подумали, что
это восклицание относится к ним, а не к пуговице.
Появившийся на арене глупый Августин кувыркался, расплющивая о песок
свой похожий на помидор нос, гонялся за собственной тенью.
Но он никого не развеселил. Никто не смеялся.
За вишневым занавесом директор цирка просматривал список артистов и
животных. Список был прибит гвоздями к черной доске. Вид у директора был
мрачный. В руке он держал синий карандаш.
Наконец он решился и жирной чертой вычеркнул из списка имя Фрама,
белого медведя.
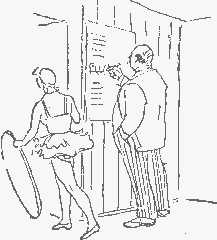 * * *
* * *
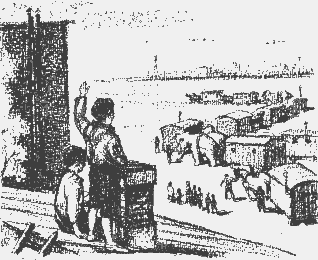 III. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦИРКА
Цирк Струцкого уехал.
Клетки со зверями, сложенное брезентовое шапито, станки конюшен,
которые разбираются и собираются, как игрушечные картонные домики, -- все
погрузили в белые вагоны и увезли.
Остался только безобразный, унылый пустырь.
Здесь еще пахнет конюшней и зверьем.
Ребята все еще приходят сюда смотреть на отпечатавшиеся на земле следы
цирка. Среди них -- Петруш. Он тоже с сожалением смотрит на эти следы.
Утоптанная, круглая площадка. Это -- арена. Здесь был вход. Там --
зверинец.
Хлопьями падает снег. До завтра он покроет все. Опечаленным отъездом
цирка детям снова станет весело. Они будут играть в снежки, строить
закоченевшими руками крепости из снега и лепить снежных баб.
Петруш уже решил созвать завтра своих приятелей и вылепить вместе с
ними из снега белого медведя -- Фрама. Изобразить его таким, каким он был и
каким все его любили: добрым, кротким великаном на задних лапах, с черными,
как уголь, глазками и мордой, которая на лету ловила апельсины.
В городе все вернулись к своим делам и заботам. Приближались праздники.
Одни стараются собрать денег на теплую одежду, другие смазывают лыжи,
готовясь ехать в горы. Дети, как завороженные, стоят у витрин, наполненных
не всем доступными игрушками и книжками.
Когда дома у Петруша спросили, на какую книжку в витрине он дольше
всего глядел, он не задумываясь сказал о своем заветном желании:
-- Я видел книжку про белых медведей, про их жизнь в полярных льдах.
Отец снисходительно улыбнулся в усы:
-- Может, ты решил стать укротителем?
-- Нет, папа, -- ответил Петруш. -- Мне хочется стать полярным
исследователем... Страшно интересно узнать, что написано в этой книжке.
-- Посмотрим, Петруш. Если так, посмотрим! -- сказал отец и тут же
решил непременно достать денег и купить мальчику книжку, которая его так
заинтересовала.
Но в городе началась эпидемия гриппа. Много ребят лежит в кровати,
вместе того чтобы кататься с горки на санках, носиться на коньках или
строить из снега крепости.
Больна и голубоглазая девочка со светлыми локонами.
Сначала она мечтала стать укротительницей, как мисс Эллиан. Она даже
переименовала своего серого кота: назвала его Раджой. Затем принялась его
муштровать, как мисс Эллиан муштровала своих бенгальских тигров, -- при
помощи хлыстика с шелковой кисточкой. Но коту такая игра вовсе не
понравилась. И девочка не внушала ему никакого страха. Он взъерошился,
поцарапал ее и спрятался под диван.
После обеда Лилика начала кашлять.
Вечером у нее горели щеки и щипало в глазах.
-- У ребенка жар! -- испугалась мать, погладив влажный от испарины лоб
девочки. -- Вызовем доктора!..
Доктор приехал. Он был старый, приятель дедушки. Доктор вынул из
футляра градусник и поставил его девочке под мышку, потом взял ее руку в том
месте, где в жилке отдается биение сердца. Вынул карманные часы на цепочке и
стал считать удары.
Дедушка ждал, сидя в кресле и опираясь подбородком на трость с
набалдашником из слоновой кости. Еще более озабочена была мать девочки,
которая тоже переболела гриппом, что было видно по ее осунувшемуся, бледному
лицу и усталым глазам.
-- Ничего страшного, -- произнес доктор, посмотрев на градусник,
который тут же встряхнул и вложил обратно в металлическую трубочку. -- Грипп
в легкой форме... Весь город болен гриппом. Температура еще немного
повысится. Не пугайтесь. Через неделю девочка будет на ногах. Через десять
дней можете выпустить ее на улицу поиграть.
Мама с дедушкой облегченно вздохнули.
Доктор оказался прав. Температура повысилась. На следующий день .
вечером Лилика уже не знала, спит она или нет.
Глаза у нее были открыты, но она видела сны и разговаривала сама с
собой -- бредила. Ей представлялось, будто она видит укротительницу тигров:
мисс Эллиан вошла к ней в комнату в шуршащем платье из золотистых чешуек и
разноцветных камней, с хлыстом в руке.
-- Где Пуфулец? -- спросила мисс Эллиан, шаря хлыстом под диваном, где,
как она знала, прячется кот.
Пуфулец вылез с поджатым хвостом.
-- Ага! -- обрадовалась больная девочка. -- Ага! Ну-с, господин
Пуфулец, посмотрим теперь, как вы будете себя вести. Это вам не я!
Мисс Эллиан щелкнула шелковой кисточкой, и кот превратился в Раджу,
бенгальского тигра.
-- Ну и потеха! -- засмеялась девочка в бреду. -- Такого я еще не
запомню! Значит, господин Пуфулец все время был бенгальским тигром, Раджой,
и ни разу в этом не признался? Притворялся котом...
Мисс Эллиан взяла Пуфулеца за загривок и перенесла на середину комнаты.
Началась муштра:
-- Понял теперь, с кем имеешь дело? Со мной шутки плохи. Ты останешься
котом Пуфулецом, пока я не отнесу тебя в цирк Струцкого, чтобы заменить
Раджу!.. А до тех пор будешь слушаться Лилику и перестанешь ее царапать. И
не смей больше мяукать, когда она дергает тебя за хвост. Уважающий себя
бенгальский тигр не мяукает. Это ниже его достоинства. Гоп!
Она щелкнула бичом и исчезла. Исчез и Пуфулец...
Теперь посреди комнаты перелетали с трапеции на трапецию гимнасты в
черном трико. Их трапеции были подвешены к потолку, рядом с люстрой.
Гимнасты прыгают и почему-то бьют в ладоши. Странно! Один из них похож на
дедушку. Это-таки дедушка. "Вот уж никогда не поверила бы, что дедушка
гимнаст, -- думает Лилика. -- Бросил свою трость с костяным набалдашником,
больше не жалуется на ревматизм и не кашляет, а летает с трапеции на
трапецию в черном трико с вышитым на груди белым черепом".
-- Молодец, дедушка! Браво! -- бьет в ладоши девочка.
На минуту к ней возвращается сознание. Голова словно налита свинцом,
лоб влажный от испарины. Одеяло давит ее.
Ей нестерпимо жарко. Она сбрасывает с себя одеяло, но мать снова
укрывает ее.
Опять все путается, и девочка начинает плакать.
-- Где Фрам? -- спрашивает она.
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Она слышит, как кричат другие. Вокруг нее теперь вся публика,
заполнявшая цирк на прощальном представлении. Все хлопают в ладоши, стучат
ногами:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Одна из надменных остроносых дам с пискливым голосом встала и обвела
публику сердитым взглядом. Особенно грозно взглянула она на Лилику. Девочка
съежилась и не посмела даже поднять глаз.
-- Глупые вы! -- сказала дама. -- Вас надули. Вы заплатили деньги, а
вас надули. Перестаньте вызывать Фрама. Все это -- сплошное надувательство!
Вам обещали показать дрессированного белого медведя. Самого большого, самого
умного, самого ученого. Вам наврали! Фрам -- просто глупый медведь. Самое
обыкновенное глупое животное, даже глупее других! Перестаньте его вызывать.
Разве вы не видели, что он ходит на четырех лапах, как собака?
Девочка мечется, зарывшись головой в подушку, плачет. Дама с острым
носом и злым голосом говорит неправду. То, что она сказала, не может быть
правдой. Но почему же Фрам не появляется?
-- Фрама! -- присоединяет она свой голос к другим.
-- Фрама!
Она открывает глаза. Мягкая рука легла ей на лоб. Ей чудится, что это
-- легкая лапа Фрама, та лапа, которая ласкала детей с галерки и сажала их в
ложи. Она чувствует ее легкое, нежное прикосновение.
-- Спасибо, Фрам! -- говорит девочка, открывая глаза. -- Какой ты
добрый, Фрам!
Но это не Фрам, а мама. Она склонилась над кроваткой, чтобы заглянуть
Лилике в глаза, и это мамина рука, а не медвежья лапа легла ей на лоб. Мать
хочет успокоить девочку, которая мечется в бреду.
Она обнимает ее, нежно целует и баюкает.
-- Какая ты добрая, мамочка!
-- Добрее Фрама? -- лукаво улыбается мать.
-- Фрам -- совсем другое! -- отвечает голубоглазая дочка. -- Бедный
Фрам! Где-то он теперь?
Мама довольна: речь Лилики стала более связной. Она отдает себе отчет в
том, что говорит. Значит, кризис миновал.
-- И где-то он теперь?!. -- повторяет девочка. Мама показывает рукой
вдаль:
-- Далеко, Лилика. В другой стране, в другом городе...
Через неделю Лилика выздоровела. А еще через несколько дней ей
позволили выйти на улицу.
Как красиво кружатся снежинки, какое наслаждение вдыхать холодный
воздух, который щиплет ноздри, как газированная вода!
Однажды на улице девочка остановилась перед наклеенной на стене старой
афишей. Это была афиша цирка Струцкого. В самом центре ее был изображен
Фрам, весело раскланивающийся, как в дни своей славы.
-- Бедный Фрам!.. -- услышала она ребячий голос.
Лилика быстро повернулась и очень обрадовалась, узнав курносого
мальчугана, которого видела на прощальном представлении цирка. Петруш тоже
узнал белокурую кудрявую девочку в белой шапочке.
-- Ты меня помнишь? -- спросил он.
-- А как же! Ты был в цирке, когда это случилось с Фрамом. Бедный Фрам!
-- Как это я тебя с тех пор не встречал?
-- Я была больна. Такая скука лежать в кровати!
-- Да, скучно, -- посочувствовал Петруш, хотя сам он никогда в кровати
не лежал и не мог знать, насколько это скучно.
-- Хорошо еще, что дедушка приносил книжки с картинками. Одна была про
белых медведей. Понимаешь?
Петруш сразу воодушевился:
-- У него есть книжка про белых медведей? -- выпалил он нетерпеливо.
-- И не одна, а много... Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что давно уже хочу прочитать книжку про белых медведей... На
Новый год мой папа подарил мне книжку о полярных экспедициях. А про белых
медведей в книжных магазинах больше книжек нет. Все раскупили. А если бы и
были, у нас все равно не хватило бы на них денег.
Девочка задумалась. Ей нравился этот курносый мальчишка с блестящими
глазами, который так независимо держал себя в цирке с надменными остроносыми
дамами, а теперь не обращает внимания на мороз, хотя мороз сегодня здорово
кусается. Глаза у него веселые, такие же, как в цирке, когда они хором
кричали: "Фрама! Фрама!" и так же, как тогда, он притоптывает ногами.
-- Знаешь что? Я поговорю с дедушкой. Приходи к нам за книжками. Он
даст тебе почитать сколько хочешь, -- дружелюбно предложила она.
-- Думаешь, можно?
-- Конечно, можно! Я попрошу его... Дедушка любит детей, которые
читают. Он был учителем, знаешь?
-- И у него, говоришь, много книжек про зверей?
-- Всякие! Честное слово... Есть и про наших зверей, и про тех, что
живут в других странах... Про всех, которых мы видели в цирке.
Петруш даже зажмурился, приплясывая на снегу от нетерпения:
-- Когда прийти?..
-- Когда хочешь...
-- Завтра можно?
-- Завтра, так завтра... Знаешь, где мы живем?
-- Нет.
-- Давай я тебе покажу... У нас и собака есть! -- сообщила девочка. --
Не боишься?..
-- Я собак не боюсь, не беспокойся: мы с ней подружимся... Лилика
посмотрела на Петруша с восхищением. Он показался ей больше и сильнее, чем
был на самом деле. Он -- не трус, как соседский Турел, который вопил и звал
на помощь каждый раз, когда на него лаял Гривей. Случалось, что от страха
этот трусишка даже ронял бублик, который пес тут же подхватывал. Ребята со
всей улицы помирали со смеху, глядя, как Гривей улепетывает с бубликом.
Петруш почувствовал себя обязанным сообщить девочке о своем решении
стать полярным исследователем.
-- И ты поедешь туда, где белые медведи? -- воодушевилась Лилика.
-- Непременно поеду. Из-за Фрама... Думаю об этом с того самого вечера.
Бедный Фрам! Где-то он теперь?
-- Далеко! В другой стране, в другом городе... -- слово в слово
повторила девочка то, что ей сказала мать.
Фрам действительно находился далеко, в другой стране, в другом городе,
в большом, чужом городе, куда приехал цирк Струцкого и где говорили на
другом языке.
На другом языке написаны расклеенные по стенам громадные афиши. желтые,
красные, зеленые. Они возвещают о первом представлении, о гимнастах и о мисс
Эллиан, укротительнице двенадцати бенгальских тигров.
Но о Фраме, белом медведе, в афишах ни слова.
Дети и там толпятся вокруг только что расположившегося на пустыре
цирка. Из зверинца доносится рев львов и тигров.
Ребята эти говорят на другом языке. Но радостное возбуждение их такое
же, как у ребят во всем мире. Они не находят себе места от нетерпения, ждут
не дождутся вечера, когда начнется представление.
По улице, ведущей с вокзала, прошествовали индийские слоны с толстыми,
как бревна, ногами и словно резиновыми хоботами, которые они то и дело
поворачивали к тротуару, пугая прохожих. Во главе шествия выступал жираф с
длинной, как телеграфный столб, шеей. Далее следовали клетки со львами и
тиграми, лошади с блестящей, как лаковые туфли, шерстью, пони в новой желтой
упряжи с бубенцами. Обезьяны в красных и зеленых, как у паяцев, панталонах
строили рожи и клянчили с протянутой лапой -- выпрашивали земляные орехи и
фисташки.
Цирк вырос словно из-под земли.
Там, где только что было унылое, пустое поле, возникла громадная серая
палатка с развевающимся на макушке флагом. Вокруг разместились конюшни и
зверинец. Везде снуют, хлопочут рабочие. Один навешивает дверь, другой
вбивает столб, третий ввинчивает наверху лампочку. Слышится рев хищников.
Ветер доносит странные звериные запахи. Внутри музыканты пробуют
инструменты.
-- А в одной клетке я видел белого медведя! -- хвастается один
мальчуган на своем иностранном языке. -- Громадина!.. Папа говорит, что в
цирке Струцкого самый ученый в мире белый медведь... Зовут его не то Фрам,
не то Прам, не то Риам...
-- Я читал афишу! -- перечит ему другой. -- Прочел всю, от первого
слова до последнего. Никакого медведя на афише нет. Ни белого, ни бурого, ни
черного. Никакого.
-- Не может быть!
-- Пари?
-- Идет.
-- На что? На два пирожных или на твой перочинный ножик?
-- Так пари не держат. Надо, чтоб справедливо: если проиграю я -- нож
твой. Проиграешь ты -- отдашь мне книжку про Робинзона в коленкоровом
переплете.
-- Ладно! По рукам... А теперь идем читать афишу.
Они пошли и прочли афишу. Потом попросили у одного дяди в красном
мундире программу.
Нигде о белом медведе не упоминалось.
Нигде не говорилось о звере с кличкой Фрам, Фирам, Прам, Приам или
Пирам.
-- Давай спросим еще раз! -- огорченно предложил хозяин перочинного
ножика.
Ножик этот он получил на свой день рождения. Он был совсем новый. Все
ребята в школе ему завидовали. Раз он одолжил его учителю в классе, чтобы
отточить карандаш. Учитель рассмотрел его со всех сторон и сказал:
"Замечательный ножик! Смотри только, не начни его пробовать на парте, не
вздумай вырезывать свое имя".
В общем, нетрудно представить себе, как тяжело было мальчику
расставаться с таким сокровищем.
-- Идем, что ли, спросим.
-- Ладно, идем, если хочешь, -- согласился его товарищ, уже видевший
себя владельцем ножика, составлявшего предмет зависти всего класса.
Мальчики подошли к дяди в красном мундире с такими закрученными вверх
усищами, что на них, казалось, можно было повесить шляпу, как на вешалку.
Они начали разговор издалека, потом спросили прямо.
-- Никакой белый медведь у нас не выступает, -- ответил цирковой
служитель, подкручивая усы и косясь на них, наверно, чтобы убедиться в том,
что они одинаковой длины. -- Ни сегодня, ни завтра. И выступать не будет. С
Фрамом кончено... Он ни на что больше не годен. Только корм даром переводит.
Весь день спит в клетке. На арене вы его не увидите, идите в зверинец.
Униформист повернулся к ним спиной и ушел, подкручивая усы.
Между приятелями разгорелся горячий спор.
Владелец перочинного ножа утверждал, что выиграл он:
-- Значит, в цирке есть белый медведь! Его зовут Фрам. Ты проиграл
пари. Давай Робинзона!
-- Вовсе нет, -- уперся другой мальчик. -- Ты говорил, что в цирке
выступит самый ученый в мире белый медведь. Сам слышал, что нам сказали. Он
не выступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Есть какой-то
глупый медведь. Ему грош цена. Даром ест корм. Давай ножик!
-- Даже не подумаю.
-- Скажи прямо, что не хочешь сдержать слова!
-- Ты думаешь, я дурак?
-- Нашелся умник!
-- Давай Робинзона.
-- Дожидайся! Как же!
-- Можешь схлопотать по носу.
-- Отдай лучше ножик!
-- Получай задаток!
Кулак владельца перочинного ножа встретился с носом владельца Робинзона
Крузо.
Тот не остался в долгу.
Последовала драка по всем правилам. В результате оба заработали по
шишке, не уступавшей в размере той, которая выскакивала на лбу глупого
Августина -- когда из его волос вырывался дым вперемешку с пламенем -- и
была увенчана красной лампочкой.
Потом они помирились.
Дома оба сказали, что оступились и упали: оттого и шишка.
Отец мальчика с перочинным ножиком страшно рассердился:
-- Хорош! Теперь, пока у тебя на лбу шишка, будешь сидеть дома и в цирк
вечером не пойдешь.
-- Очень красиво! -- сказала мама мальчика с Робинзоном. -- Вечером ты
в цирк не пойдешь, посидишь дома. В другой раз не будь раззявой, смотри себе
под ноги.
-- Но послушай, папа...
-- Ничего я слушать не желаю.
-- Понимаешь, мамочка...
-- Ничего я не понимаю. Удивляюсь, что ты еще оправдываешься. Самому
должно быть стыдно показаться в таком виде на людях. Подумают, что ты драчун
и забияка...
И тот, и другой поспешили поставить себе холодный компресс. Оба терли
лоб снегом до тех пор, пока шишки не исчезли. Вечером, когда сели ужинать, у
каждого на лбу оставалось лишь по небольшому синяку.
В конце концов родители их простили.
Для цирка оба нарядились по-воскресному, навели блеск на ботинки,
пригладили волосы щеткой. Но на макушке у каждого все же торчало по вихру,
как у глупого Августина.
На представление они пришли присмиревшие, в покаянном настроении,
вместе с родителями, от которых не отходили ни на шаг, чтобы не потеряться в
толпе.
Завидев друг друга, мальчики обменялись радостными приветствиями,
словно вовсе не они дрались кулаками, стали посмешищем товарищей и
заработали дома выговор.
-- Представьте себе, -- сказал отец мальчика с перочинным ножиком
матери владельца Робинзона, -- мой явился домой с такой шишкой на лбу, что я
уже решил было не брать его на представление...
-- И мой тоже! -- воскликнула мама мальчика с Робинзоном Крузо...
Пришел домой с шишкой с грецкий орех. Упал будто бы... Не знаю, что выйдет
из этого ребенка! Никогда не смотрит себе под ноги!..
Пристыженные мальчики глядели в землю. В душе оба поклялись никогда
больше не врать таким добрым и отходчивым родителям.
Публика нетерпеливо зааплодировала, затопала ногами.
Духовой оркестр на дощатом помосте грянул марш, и представление
началось.
По-прежнему на галерке, в партере и ложах уместилось не менее двух
тысяч человек. Они говорили на другом языке, потому что это был другой народ
и другая страна. Но волновались они совершенно так же, как в том, первом
городе, когда мисс Эллиан вложила голову в пасть Раджи, бенгальского тигра.
И у всех трепетало сердце, когда гимнасты перелетали с трапеции на трапецию,
и все так же смеялись до слез проделкам глупого Августина, который всегда
оставался в дураках.
На этот раз, однако, никто не вызывал Фрама, ученого белого медведя.
Они ничего не знали о Фраме, никогда о нем не слышали.
Здесь некому было умиляться его кротостью, поражаться его уму,
восхищаться его великанским ростом.
Фрам лежал в своей клетке, в глубине зверинца, где его соседями были
самые глупые животные, неспособные чему-либо научиться.
-- Не хотите ли взглянуть на зверинец? -- обратился отец мальчика с
перочинным ножиком к матери мальчика с Робинзоном.
-- Я как раз собиралась доставить это удовольствие детям. Редкий для
них случай: увидеть Ноев ковчег в полном составе.
Мальчики обрадовались и побежали вперед, держась за руку и украдкой
оглядывая друг друга: им было интересно, в каком состоянии шишки.
III. ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЦИРКА
Цирк Струцкого уехал.
Клетки со зверями, сложенное брезентовое шапито, станки конюшен,
которые разбираются и собираются, как игрушечные картонные домики, -- все
погрузили в белые вагоны и увезли.
Остался только безобразный, унылый пустырь.
Здесь еще пахнет конюшней и зверьем.
Ребята все еще приходят сюда смотреть на отпечатавшиеся на земле следы
цирка. Среди них -- Петруш. Он тоже с сожалением смотрит на эти следы.
Утоптанная, круглая площадка. Это -- арена. Здесь был вход. Там --
зверинец.
Хлопьями падает снег. До завтра он покроет все. Опечаленным отъездом
цирка детям снова станет весело. Они будут играть в снежки, строить
закоченевшими руками крепости из снега и лепить снежных баб.
Петруш уже решил созвать завтра своих приятелей и вылепить вместе с
ними из снега белого медведя -- Фрама. Изобразить его таким, каким он был и
каким все его любили: добрым, кротким великаном на задних лапах, с черными,
как уголь, глазками и мордой, которая на лету ловила апельсины.
В городе все вернулись к своим делам и заботам. Приближались праздники.
Одни стараются собрать денег на теплую одежду, другие смазывают лыжи,
готовясь ехать в горы. Дети, как завороженные, стоят у витрин, наполненных
не всем доступными игрушками и книжками.
Когда дома у Петруша спросили, на какую книжку в витрине он дольше
всего глядел, он не задумываясь сказал о своем заветном желании:
-- Я видел книжку про белых медведей, про их жизнь в полярных льдах.
Отец снисходительно улыбнулся в усы:
-- Может, ты решил стать укротителем?
-- Нет, папа, -- ответил Петруш. -- Мне хочется стать полярным
исследователем... Страшно интересно узнать, что написано в этой книжке.
-- Посмотрим, Петруш. Если так, посмотрим! -- сказал отец и тут же
решил непременно достать денег и купить мальчику книжку, которая его так
заинтересовала.
Но в городе началась эпидемия гриппа. Много ребят лежит в кровати,
вместе того чтобы кататься с горки на санках, носиться на коньках или
строить из снега крепости.
Больна и голубоглазая девочка со светлыми локонами.
Сначала она мечтала стать укротительницей, как мисс Эллиан. Она даже
переименовала своего серого кота: назвала его Раджой. Затем принялась его
муштровать, как мисс Эллиан муштровала своих бенгальских тигров, -- при
помощи хлыстика с шелковой кисточкой. Но коту такая игра вовсе не
понравилась. И девочка не внушала ему никакого страха. Он взъерошился,
поцарапал ее и спрятался под диван.
После обеда Лилика начала кашлять.
Вечером у нее горели щеки и щипало в глазах.
-- У ребенка жар! -- испугалась мать, погладив влажный от испарины лоб
девочки. -- Вызовем доктора!..
Доктор приехал. Он был старый, приятель дедушки. Доктор вынул из
футляра градусник и поставил его девочке под мышку, потом взял ее руку в том
месте, где в жилке отдается биение сердца. Вынул карманные часы на цепочке и
стал считать удары.
Дедушка ждал, сидя в кресле и опираясь подбородком на трость с
набалдашником из слоновой кости. Еще более озабочена была мать девочки,
которая тоже переболела гриппом, что было видно по ее осунувшемуся, бледному
лицу и усталым глазам.
-- Ничего страшного, -- произнес доктор, посмотрев на градусник,
который тут же встряхнул и вложил обратно в металлическую трубочку. -- Грипп
в легкой форме... Весь город болен гриппом. Температура еще немного
повысится. Не пугайтесь. Через неделю девочка будет на ногах. Через десять
дней можете выпустить ее на улицу поиграть.
Мама с дедушкой облегченно вздохнули.
Доктор оказался прав. Температура повысилась. На следующий день .
вечером Лилика уже не знала, спит она или нет.
Глаза у нее были открыты, но она видела сны и разговаривала сама с
собой -- бредила. Ей представлялось, будто она видит укротительницу тигров:
мисс Эллиан вошла к ней в комнату в шуршащем платье из золотистых чешуек и
разноцветных камней, с хлыстом в руке.
-- Где Пуфулец? -- спросила мисс Эллиан, шаря хлыстом под диваном, где,
как она знала, прячется кот.
Пуфулец вылез с поджатым хвостом.
-- Ага! -- обрадовалась больная девочка. -- Ага! Ну-с, господин
Пуфулец, посмотрим теперь, как вы будете себя вести. Это вам не я!
Мисс Эллиан щелкнула шелковой кисточкой, и кот превратился в Раджу,
бенгальского тигра.
-- Ну и потеха! -- засмеялась девочка в бреду. -- Такого я еще не
запомню! Значит, господин Пуфулец все время был бенгальским тигром, Раджой,
и ни разу в этом не признался? Притворялся котом...
Мисс Эллиан взяла Пуфулеца за загривок и перенесла на середину комнаты.
Началась муштра:
-- Понял теперь, с кем имеешь дело? Со мной шутки плохи. Ты останешься
котом Пуфулецом, пока я не отнесу тебя в цирк Струцкого, чтобы заменить
Раджу!.. А до тех пор будешь слушаться Лилику и перестанешь ее царапать. И
не смей больше мяукать, когда она дергает тебя за хвост. Уважающий себя
бенгальский тигр не мяукает. Это ниже его достоинства. Гоп!
Она щелкнула бичом и исчезла. Исчез и Пуфулец...
Теперь посреди комнаты перелетали с трапеции на трапецию гимнасты в
черном трико. Их трапеции были подвешены к потолку, рядом с люстрой.
Гимнасты прыгают и почему-то бьют в ладоши. Странно! Один из них похож на
дедушку. Это-таки дедушка. "Вот уж никогда не поверила бы, что дедушка
гимнаст, -- думает Лилика. -- Бросил свою трость с костяным набалдашником,
больше не жалуется на ревматизм и не кашляет, а летает с трапеции на
трапецию в черном трико с вышитым на груди белым черепом".
-- Молодец, дедушка! Браво! -- бьет в ладоши девочка.
На минуту к ней возвращается сознание. Голова словно налита свинцом,
лоб влажный от испарины. Одеяло давит ее.
Ей нестерпимо жарко. Она сбрасывает с себя одеяло, но мать снова
укрывает ее.
Опять все путается, и девочка начинает плакать.
-- Где Фрам? -- спрашивает она.
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Она слышит, как кричат другие. Вокруг нее теперь вся публика,
заполнявшая цирк на прощальном представлении. Все хлопают в ладоши, стучат
ногами:
-- Фрама!
-- Фрама!
-- Фрама!
Одна из надменных остроносых дам с пискливым голосом встала и обвела
публику сердитым взглядом. Особенно грозно взглянула она на Лилику. Девочка
съежилась и не посмела даже поднять глаз.
-- Глупые вы! -- сказала дама. -- Вас надули. Вы заплатили деньги, а
вас надули. Перестаньте вызывать Фрама. Все это -- сплошное надувательство!
Вам обещали показать дрессированного белого медведя. Самого большого, самого
умного, самого ученого. Вам наврали! Фрам -- просто глупый медведь. Самое
обыкновенное глупое животное, даже глупее других! Перестаньте его вызывать.
Разве вы не видели, что он ходит на четырех лапах, как собака?
Девочка мечется, зарывшись головой в подушку, плачет. Дама с острым
носом и злым голосом говорит неправду. То, что она сказала, не может быть
правдой. Но почему же Фрам не появляется?
-- Фрама! -- присоединяет она свой голос к другим.
-- Фрама!
Она открывает глаза. Мягкая рука легла ей на лоб. Ей чудится, что это
-- легкая лапа Фрама, та лапа, которая ласкала детей с галерки и сажала их в
ложи. Она чувствует ее легкое, нежное прикосновение.
-- Спасибо, Фрам! -- говорит девочка, открывая глаза. -- Какой ты
добрый, Фрам!
Но это не Фрам, а мама. Она склонилась над кроваткой, чтобы заглянуть
Лилике в глаза, и это мамина рука, а не медвежья лапа легла ей на лоб. Мать
хочет успокоить девочку, которая мечется в бреду.
Она обнимает ее, нежно целует и баюкает.
-- Какая ты добрая, мамочка!
-- Добрее Фрама? -- лукаво улыбается мать.
-- Фрам -- совсем другое! -- отвечает голубоглазая дочка. -- Бедный
Фрам! Где-то он теперь?
Мама довольна: речь Лилики стала более связной. Она отдает себе отчет в
том, что говорит. Значит, кризис миновал.
-- И где-то он теперь?!. -- повторяет девочка. Мама показывает рукой
вдаль:
-- Далеко, Лилика. В другой стране, в другом городе...
Через неделю Лилика выздоровела. А еще через несколько дней ей
позволили выйти на улицу.
Как красиво кружатся снежинки, какое наслаждение вдыхать холодный
воздух, который щиплет ноздри, как газированная вода!
Однажды на улице девочка остановилась перед наклеенной на стене старой
афишей. Это была афиша цирка Струцкого. В самом центре ее был изображен
Фрам, весело раскланивающийся, как в дни своей славы.
-- Бедный Фрам!.. -- услышала она ребячий голос.
Лилика быстро повернулась и очень обрадовалась, узнав курносого
мальчугана, которого видела на прощальном представлении цирка. Петруш тоже
узнал белокурую кудрявую девочку в белой шапочке.
-- Ты меня помнишь? -- спросил он.
-- А как же! Ты был в цирке, когда это случилось с Фрамом. Бедный Фрам!
-- Как это я тебя с тех пор не встречал?
-- Я была больна. Такая скука лежать в кровати!
-- Да, скучно, -- посочувствовал Петруш, хотя сам он никогда в кровати
не лежал и не мог знать, насколько это скучно.
-- Хорошо еще, что дедушка приносил книжки с картинками. Одна была про
белых медведей. Понимаешь?
Петруш сразу воодушевился:
-- У него есть книжка про белых медведей? -- выпалил он нетерпеливо.
-- И не одна, а много... Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что давно уже хочу прочитать книжку про белых медведей... На
Новый год мой папа подарил мне книжку о полярных экспедициях. А про белых
медведей в книжных магазинах больше книжек нет. Все раскупили. А если бы и
были, у нас все равно не хватило бы на них денег.
Девочка задумалась. Ей нравился этот курносый мальчишка с блестящими
глазами, который так независимо держал себя в цирке с надменными остроносыми
дамами, а теперь не обращает внимания на мороз, хотя мороз сегодня здорово
кусается. Глаза у него веселые, такие же, как в цирке, когда они хором
кричали: "Фрама! Фрама!" и так же, как тогда, он притоптывает ногами.
-- Знаешь что? Я поговорю с дедушкой. Приходи к нам за книжками. Он
даст тебе почитать сколько хочешь, -- дружелюбно предложила она.
-- Думаешь, можно?
-- Конечно, можно! Я попрошу его... Дедушка любит детей, которые
читают. Он был учителем, знаешь?
-- И у него, говоришь, много книжек про зверей?
-- Всякие! Честное слово... Есть и про наших зверей, и про тех, что
живут в других странах... Про всех, которых мы видели в цирке.
Петруш даже зажмурился, приплясывая на снегу от нетерпения:
-- Когда прийти?..
-- Когда хочешь...
-- Завтра можно?
-- Завтра, так завтра... Знаешь, где мы живем?
-- Нет.
-- Давай я тебе покажу... У нас и собака есть! -- сообщила девочка. --
Не боишься?..
-- Я собак не боюсь, не беспокойся: мы с ней подружимся... Лилика
посмотрела на Петруша с восхищением. Он показался ей больше и сильнее, чем
был на самом деле. Он -- не трус, как соседский Турел, который вопил и звал
на помощь каждый раз, когда на него лаял Гривей. Случалось, что от страха
этот трусишка даже ронял бублик, который пес тут же подхватывал. Ребята со
всей улицы помирали со смеху, глядя, как Гривей улепетывает с бубликом.
Петруш почувствовал себя обязанным сообщить девочке о своем решении
стать полярным исследователем.
-- И ты поедешь туда, где белые медведи? -- воодушевилась Лилика.
-- Непременно поеду. Из-за Фрама... Думаю об этом с того самого вечера.
Бедный Фрам! Где-то он теперь?
-- Далеко! В другой стране, в другом городе... -- слово в слово
повторила девочка то, что ей сказала мать.
Фрам действительно находился далеко, в другой стране, в другом городе,
в большом, чужом городе, куда приехал цирк Струцкого и где говорили на
другом языке.
На другом языке написаны расклеенные по стенам громадные афиши. желтые,
красные, зеленые. Они возвещают о первом представлении, о гимнастах и о мисс
Эллиан, укротительнице двенадцати бенгальских тигров.
Но о Фраме, белом медведе, в афишах ни слова.
Дети и там толпятся вокруг только что расположившегося на пустыре
цирка. Из зверинца доносится рев львов и тигров.
Ребята эти говорят на другом языке. Но радостное возбуждение их такое
же, как у ребят во всем мире. Они не находят себе места от нетерпения, ждут
не дождутся вечера, когда начнется представление.
По улице, ведущей с вокзала, прошествовали индийские слоны с толстыми,
как бревна, ногами и словно резиновыми хоботами, которые они то и дело
поворачивали к тротуару, пугая прохожих. Во главе шествия выступал жираф с
длинной, как телеграфный столб, шеей. Далее следовали клетки со львами и
тиграми, лошади с блестящей, как лаковые туфли, шерстью, пони в новой желтой
упряжи с бубенцами. Обезьяны в красных и зеленых, как у паяцев, панталонах
строили рожи и клянчили с протянутой лапой -- выпрашивали земляные орехи и
фисташки.
Цирк вырос словно из-под земли.
Там, где только что было унылое, пустое поле, возникла громадная серая
палатка с развевающимся на макушке флагом. Вокруг разместились конюшни и
зверинец. Везде снуют, хлопочут рабочие. Один навешивает дверь, другой
вбивает столб, третий ввинчивает наверху лампочку. Слышится рев хищников.
Ветер доносит странные звериные запахи. Внутри музыканты пробуют
инструменты.
-- А в одной клетке я видел белого медведя! -- хвастается один
мальчуган на своем иностранном языке. -- Громадина!.. Папа говорит, что в
цирке Струцкого самый ученый в мире белый медведь... Зовут его не то Фрам,
не то Прам, не то Риам...
-- Я читал афишу! -- перечит ему другой. -- Прочел всю, от первого
слова до последнего. Никакого медведя на афише нет. Ни белого, ни бурого, ни
черного. Никакого.
-- Не может быть!
-- Пари?
-- Идет.
-- На что? На два пирожных или на твой перочинный ножик?
-- Так пари не держат. Надо, чтоб справедливо: если проиграю я -- нож
твой. Проиграешь ты -- отдашь мне книжку про Робинзона в коленкоровом
переплете.
-- Ладно! По рукам... А теперь идем читать афишу.
Они пошли и прочли афишу. Потом попросили у одного дяди в красном
мундире программу.
Нигде о белом медведе не упоминалось.
Нигде не говорилось о звере с кличкой Фрам, Фирам, Прам, Приам или
Пирам.
-- Давай спросим еще раз! -- огорченно предложил хозяин перочинного
ножика.
Ножик этот он получил на свой день рождения. Он был совсем новый. Все
ребята в школе ему завидовали. Раз он одолжил его учителю в классе, чтобы
отточить карандаш. Учитель рассмотрел его со всех сторон и сказал:
"Замечательный ножик! Смотри только, не начни его пробовать на парте, не
вздумай вырезывать свое имя".
В общем, нетрудно представить себе, как тяжело было мальчику
расставаться с таким сокровищем.
-- Идем, что ли, спросим.
-- Ладно, идем, если хочешь, -- согласился его товарищ, уже видевший
себя владельцем ножика, составлявшего предмет зависти всего класса.
Мальчики подошли к дяди в красном мундире с такими закрученными вверх
усищами, что на них, казалось, можно было повесить шляпу, как на вешалку.
Они начали разговор издалека, потом спросили прямо.
-- Никакой белый медведь у нас не выступает, -- ответил цирковой
служитель, подкручивая усы и косясь на них, наверно, чтобы убедиться в том,
что они одинаковой длины. -- Ни сегодня, ни завтра. И выступать не будет. С
Фрамом кончено... Он ни на что больше не годен. Только корм даром переводит.
Весь день спит в клетке. На арене вы его не увидите, идите в зверинец.
Униформист повернулся к ним спиной и ушел, подкручивая усы.
Между приятелями разгорелся горячий спор.
Владелец перочинного ножа утверждал, что выиграл он:
-- Значит, в цирке есть белый медведь! Его зовут Фрам. Ты проиграл
пари. Давай Робинзона!
-- Вовсе нет, -- уперся другой мальчик. -- Ты говорил, что в цирке
выступит самый ученый в мире белый медведь. Сам слышал, что нам сказали. Он
не выступит ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Есть какой-то
глупый медведь. Ему грош цена. Даром ест корм. Давай ножик!
-- Даже не подумаю.
-- Скажи прямо, что не хочешь сдержать слова!
-- Ты думаешь, я дурак?
-- Нашелся умник!
-- Давай Робинзона.
-- Дожидайся! Как же!
-- Можешь схлопотать по носу.
-- Отдай лучше ножик!
-- Получай задаток!
Кулак владельца перочинного ножа встретился с носом владельца Робинзона
Крузо.
Тот не остался в долгу.
Последовала драка по всем правилам. В результате оба заработали по
шишке, не уступавшей в размере той, которая выскакивала на лбу глупого
Августина -- когда из его волос вырывался дым вперемешку с пламенем -- и
была увенчана красной лампочкой.
Потом они помирились.
Дома оба сказали, что оступились и упали: оттого и шишка.
Отец мальчика с перочинным ножиком страшно рассердился:
-- Хорош! Теперь, пока у тебя на лбу шишка, будешь сидеть дома и в цирк
вечером не пойдешь.
-- Очень красиво! -- сказала мама мальчика с Робинзоном. -- Вечером ты
в цирк не пойдешь, посидишь дома. В другой раз не будь раззявой, смотри себе
под ноги.
-- Но послушай, папа...
-- Ничего я слушать не желаю.
-- Понимаешь, мамочка...
-- Ничего я не понимаю. Удивляюсь, что ты еще оправдываешься. Самому
должно быть стыдно показаться в таком виде на людях. Подумают, что ты драчун
и забияка...
И тот, и другой поспешили поставить себе холодный компресс. Оба терли
лоб снегом до тех пор, пока шишки не исчезли. Вечером, когда сели ужинать, у
каждого на лбу оставалось лишь по небольшому синяку.
В конце концов родители их простили.
Для цирка оба нарядились по-воскресному, навели блеск на ботинки,
пригладили волосы щеткой. Но на макушке у каждого все же торчало по вихру,
как у глупого Августина.
На представление они пришли присмиревшие, в покаянном настроении,
вместе с родителями, от которых не отходили ни на шаг, чтобы не потеряться в
толпе.
Завидев друг друга, мальчики обменялись радостными приветствиями,
словно вовсе не они дрались кулаками, стали посмешищем товарищей и
заработали дома выговор.
-- Представьте себе, -- сказал отец мальчика с перочинным ножиком
матери владельца Робинзона, -- мой явился домой с такой шишкой на лбу, что я
уже решил было не брать его на представление...
-- И мой тоже! -- воскликнула мама мальчика с Робинзоном Крузо...
Пришел домой с шишкой с грецкий орех. Упал будто бы... Не знаю, что выйдет
из этого ребенка! Никогда не смотрит себе под ноги!..
Пристыженные мальчики глядели в землю. В душе оба поклялись никогда
больше не врать таким добрым и отходчивым родителям.
Публика нетерпеливо зааплодировала, затопала ногами.
Духовой оркестр на дощатом помосте грянул марш, и представление
началось.
По-прежнему на галерке, в партере и ложах уместилось не менее двух
тысяч человек. Они говорили на другом языке, потому что это был другой народ
и другая страна. Но волновались они совершенно так же, как в том, первом
городе, когда мисс Эллиан вложила голову в пасть Раджи, бенгальского тигра.
И у всех трепетало сердце, когда гимнасты перелетали с трапеции на трапецию,
и все так же смеялись до слез проделкам глупого Августина, который всегда
оставался в дураках.
На этот раз, однако, никто не вызывал Фрама, ученого белого медведя.
Они ничего не знали о Фраме, никогда о нем не слышали.
Здесь некому было умиляться его кротостью, поражаться его уму,
восхищаться его великанским ростом.
Фрам лежал в своей клетке, в глубине зверинца, где его соседями были
самые глупые животные, неспособные чему-либо научиться.
-- Не хотите ли взглянуть на зверинец? -- обратился отец мальчика с
перочинным ножиком к матери мальчика с Робинзоном.
-- Я как раз собиралась доставить это удовольствие детям. Редкий для
них случай: увидеть Ноев ковчег в полном составе.
Мальчики обрадовались и побежали вперед, держась за руку и украдкой
оглядывая друг друга: им было интересно, в каком состоянии шишки.
 * * *
* * *
 IV. В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ
Мама мальчика, у которого была книжка про Робинзона Крузо в
коленкоровом переплете и с большими цветными иллюстрациями, не ошиблась.
Она ничуть не ошиблась, уподобив цирк Струцкого Ноеву ковчегу,
легендарному кораблю, в котором спаслись от потопа все виды населявших землю
животных и который носился по волнам до тех пор, пока голубь с оливковой
ветвью в клюве не возвестил, что небо сменило гнев на милость. Тогда радуга
перекинула арочный мост из дивных красок с одного края земли на другой, воды
отступили. Ной причалил к освободившейся от воды суше и выпустил на волю
всех тварей -- красивых и безобразных, кротких и злых, -- чтобы каждая
заняла на земле подобающее ей место.
Так гласит легенда, которой никто больше не верит, но на которую все
ссылаются, как и на многие другие сказки древних времен.
Хозяин цирка Струцкого, жадный до наживы делец, тоже собрал в свой
ковчег всяких зверей, упрятал их в клетки и возит из города в город, из
страны в страну, чтобы показывать людям, какие есть на свете чудеса. Чудеса
эти можно было видеть, купив билет. Билеты стоили дорого.
Охотники бродят по лесам в далеких тропиках, по песчаным пустыням, по
полярным просторам, где никогда не тает снег; лазят по горам и спускаются в
дикие ущелья, куда не ступала еще нога человека. Они расставляют
изобретенные ими хитрые капканы, находят тайные логова зверей и достают из
них только что родившихся, еще беззубых животных.
Оттуда, из-за тридевять земель, из-за морей и океанов, из знойных
пустынь и вечных льдов, они шлют на пароходах и по железной дороге клетки и
ящики с пойманными зверями: кто львенка, кто маленького крокодила, кто
слоненка, кто жирафика с длинной тонкой шеей.
И все эти звери нашли себе место в пронумерованных, помеченных
табличками клетках знаменитого цирка Струцкого. Заплатишь за билет --
увидишь зверей, не заплатишь -- не увидишь.
Толпа переходит от одной клетки к другой. Дивится и читает таблички, на
которых значатся названия зверя и страны, откуда он привезен, его возраст, а
иногда, вкратце, и его обычаи.
Есть в цирковом зверинце животные упрямые и тупые, которые не могут
ничему научиться. Таков, например, уродина носорог с угрожающим рогом на
носу и глазами, как пуговички. Или громадный гиппопотам с головой, как
большой чемодан, и блестящей кожей, который почти все время проводит в воде.
Он ничего не понимает. По одной его голове и бессмысленному взору сразу
видно, что это за тупица. Крокодилы лежат так неподвижно, что кажутся
мертвыми. Вы приняли бы их за чучела, если бы не маленькие, живые, серые
глаза, которые внимательно следят за каждым вашим движением. Черепахи похожи
на большие, подобранные у реки булыжники. Но булыжник вдруг оживает,
высовывает тонкую змеиную голову и четыре лапы, на которых он передвигается
по клетке, потом начинает хрустать листик салата. Спят истомленные жарой
змеи. Изредка то одна, то другая из них зевает, и тогда из ее рта
выбрасывается двумя стрелками черный раздвоенный язык. Жираф помещается в
высокой клетке без потолка. Ворочая маленькой, словно насаженной на
березовый шест головой, он глядит на шляпы посетителей. Опустив нижнюю губу,
сонно мигают верблюды. Они охотно подходят к решетке, хотя их часто
обманывают, предлагая вместо бублика кусок картона. Страус, тот по крайней
мере глотает оптом пуговицы и гвозди. Уж не устроил ли он у себя в желудке
склад где можно приобрести все, что угодно: ключи, пряжки, винты или шпильки
для волос. Черная пантера целый день без отдыха ходит по клетке. Она ни на
кого не глядит, только иногда толкает мордой решетку -- воображает,
вероятно, что решетка каким-то чудом вывалится сама собой, чтобы выпустить
ее на свободу. Но чудес в зверинце не бывает, и пантера продолжает
бесконечно кружить за решеткой. Когда глядишь на нее, кружится голова. Есть
тут и другие звери, один смешнее другого. Например, что-то вроде свиньи с
иглами, как у ежа, и длиннющей мордой: муравьед. Или утконос, названный так
за сходство с уткой.
Не будем говорить о попугаях. Эти говорят сами за себя!.. Говорят на
разных неизвестных языках -- на языках стран, где их поймали, откуда их
прислали сюда.
Вокруг клеток с обезьянами вечное веселье. У них старушечьи лица и
безволосые ладони. С ними никогда не соскучишься. Дурачествам нет конца.
Обезьяны цепляются за решетку и протягивают руку за подачкой. Одна умеет
колоть орехи и очищать их от скорлупы; другая, если вы попробуете ее
обмануть, подсунув пуговицу от пальто, запустит ею вам в голову, сделает вас
всеобщим посмешищем; третья строит толпе рожи; четвертая научилась
смотреться в зеркало. Находятся даже такие, которые ковыряют в зубах
зубочисткой или требуют гребешок, чтобы сделать себе прическу, как у
укротителя львов.
Некоторые из них величиной не больше кулака. Зато горилла больше
первобытного волосатого человека, пещерного жителя.
Горилла всегда грустная. Она медленно ест бананы или апельсины,
задумчиво чистит их и бросает корки -- может быть, вспоминает тропический
лес, где родилась и куда никогда больше не вернется.
В другом крыле помещаются клетки с дрессированными, выступающими в
цирке животными: львами и тиграми, слонами, собаками, зеброй и даже змеями,
которые поднимают голову и раскачиваются в такт музыке, когда индус в чалме
играет им на рожке.
Клетки тут выше и вместительнее. Уход за животными лучше и кормят их
сытнее. Публику сюда иногда не пускают, чтобы не утомлять и не раздражать
зверей перед представлением.
Здесь в самой высокой и просторной клетке когда-то помещался Фрам,
белый медведь.
Не нужно было закрывать за ним дверцу клетки, запирать ее, как у
других, на засов или вешать на нее замок. Он запирал ее сам. А если,
случалось, его забудут напоить, Фрам открывал дверцу и самостоятельно
отправлялся туда, где можно было утолить жажду. Люди пугались и с криком
шарахались от него в сторону, а он невозмутимо шел на задних лапах требовать
свою порцию воды, потом так же спокойно возвращался в клетку.
Теперь Фрама здесь уже нет. Его переселили в глубь зверинца, где живут
самые упрямые и тупые звери, не поддающиеся никакой выучке.
Он лежит спиной к публике.
Некоторые зовут его по имени, стараются соблазнить апельсинами,
булками, бубликами или бананами, но все напрасно.
Фрам даже не поворачивает голову. Положив морду на вытянутые лапы, он
лежит в самом темном углу с закрытыми глазами, будто спит.
Но он не спит.
Он хочет понять, что с ним произошло, и не может. Не может потому, что
мозг самого умного животного не в состоянии постигнуть и тысячной доли того,
что сознает и объясняет себе человек. Но все же что-то туманно ему
вспоминается.
Когда-то он был искусным гимнастом и эквилибристом. Умел шутить и
понимал людские шутки. Любил детей и был любим детьми. Любил аплодисменты, и
публика всегда ему аплодировала.
Но голова его внезапно опустела. Он забыл все, что знал. А теперь его
посадили сюда, в самую темную часть зверинца, среди ревущих, мычащих,
ворчащих зверей, которые после стольких лет все еще не привыкли и людям и не
желают на них глядеть, когда те подходят к клеткам.
Иногда прежний дрессировщик Фрама, который его очень любит, приходит
его проведать.
Он входит в клетку и ласково гладит его косматую белую шкуру.
-- Что поделалось с тобой, приятель? -- участливо спрашивает
дрессировщик.
Фрам поднимает грустные глаза, словно просит у него прощения, словно
хочет сказать: "Сам не понимаю! Поглупел... Такая уж, видно, судьба у нас, у
белых медведей".
Дрессировщик качает головой и протягивает ему конфету. У него в кармане
припасены конфеты для любимцев. Фрам берет конфету с ладони и делает вид,
что рад.
Но как только дрессировщик уходит, он бросает конфету. Фрам взял ее по
старой привычке, теперь она ему ни к чему... Она напоминает ему о тех
временах, когда какой-нибудь мальчуган в цирке давал ему целую горсть
конфет, и он подзывал других ребят, чтобы поделиться с ними гостинцем. Все
это кончилось. Теперь никто уже не кричит: "Фрама!" Никто не хлопает в
ладоши: "Браво, Фрам!" Служители цирка бросают ему корм и суют в клетку
ведро с водой, как дармоеду, как никчемной скотине.
Его бывший дрессировщик гладит его, как больного.
Целыми днями лежит Фрам, уткнувшись мордой в вытянутые лапы, в самом
темном углу клетки. Представление кончается, большие огни гаснут, все спят.
Бодрствует один Фрам. Ему не спится.
Он прислушивается к тишине, в которую погружен неизвестный ему город.
Издали доносится шум запоздалых экипажей, последних трамваев,
автомобильные гудки. Слышится дыхание спящих в клетках зверей. Некоторые из
них стонут или рычат во сне. Им снятся родные края. Они видят себя на
свободе, среди песков пустыни или в девственных джунглях. Им представляется,
что они подстерегают или преследуют добычу, резвятся и играют на воле.
Иногда застонет во сне Раджа, строптивый бенгальский тигр. Ему снится, что
его лапа зажата в капкане. Он просыпается, вскакивает и больно ударяется о
решетку: явь ужаснее сна, страшнее капкана. Тогда, когда его лапа попала в
капкан, он бился семь дней и семь ночей, потом лег и затих в ожидании
смерти. Теперь его угнетает нечто более страшное, чем сама смерть: он навеки
заключен в клетку и должен слушаться шелкового хлыстика. Обезьяны кидают в
него сквозь решетку апельсинными корками, и он обречен терпеть их
издевательства. Вспомнив все это, Раджа принимается реветь и будит всех
зверей. Сонные видения исчезают. Очнувшись от сна, звери отдают себе отчет в
том, что они в тюрьме и никогда уже больше не увидят родных лесов, рек,
озер, гор, пустынь и вечных льдов. Никогда. И только во сне они принимаются
жаловаться на все голоса...
Зверинец оглашается звериным ревом.
От страха у собак в городе шерсть становится дыбом. Они тоже начинают
лаять и выть.
Такое соревнование будит спящий город.
Потом рев и стоны утихают. Звери снова засыпают. И снова сны переносят
их в далекие края, которых они никогда больше не увидят наяву.
Тиграм снится, что они снова в джунглях родной Бенгалии, где с деревьев
свисают до земли лианы, где бабочки больше птиц, а иные птицы меньше
насекомых. Их ноздри обманчиво щекотят испарения озер, насыщенные
благоуханием лотоса. Они поднимают морду и принюхиваются, стараясь отличить
запах антилопы, добычи, от запахов своего брата, тигра. Но в нос им ударяет
застоявшийся смрад конюшни и мусорной ямы. Все исчезает. Остается лишь
тяжелый сон.
В полуночной тишине и темноте Фрам поднимается на задние лапы и
пытается повторить все, что он знал и умел, когда выходил один на арену и
публика встречала его аплодисментами.
Он становится на передние лапы, делает так несколько шагов, пробует
перекувыркнуться через голову, сначала вперед, потом назад. Кланяется
направо и налево невидимой публике -- благодарит за аплодисменты. Знал он,
как будто, и другие штуки. Но что именно -- позабылось. Да и клетка у него
слишком тесная.
Фрам опускается на все четыре лапы и снова чувствует себя обыкновенным
зверем.
Свернувшись клубком в своем углу, он пытается заснуть.
Хоть бы во сне увидеть белые просторы с вечным льдом и вечными снегами,
с пургой и морозом, который щиплет нос.
Но сны у него короткие, а далекие воспоминания чересчур туманны.
IV. В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ
Мама мальчика, у которого была книжка про Робинзона Крузо в
коленкоровом переплете и с большими цветными иллюстрациями, не ошиблась.
Она ничуть не ошиблась, уподобив цирк Струцкого Ноеву ковчегу,
легендарному кораблю, в котором спаслись от потопа все виды населявших землю
животных и который носился по волнам до тех пор, пока голубь с оливковой
ветвью в клюве не возвестил, что небо сменило гнев на милость. Тогда радуга
перекинула арочный мост из дивных красок с одного края земли на другой, воды
отступили. Ной причалил к освободившейся от воды суше и выпустил на волю
всех тварей -- красивых и безобразных, кротких и злых, -- чтобы каждая
заняла на земле подобающее ей место.
Так гласит легенда, которой никто больше не верит, но на которую все
ссылаются, как и на многие другие сказки древних времен.
Хозяин цирка Струцкого, жадный до наживы делец, тоже собрал в свой
ковчег всяких зверей, упрятал их в клетки и возит из города в город, из
страны в страну, чтобы показывать людям, какие есть на свете чудеса. Чудеса
эти можно было видеть, купив билет. Билеты стоили дорого.
Охотники бродят по лесам в далеких тропиках, по песчаным пустыням, по
полярным просторам, где никогда не тает снег; лазят по горам и спускаются в
дикие ущелья, куда не ступала еще нога человека. Они расставляют
изобретенные ими хитрые капканы, находят тайные логова зверей и достают из
них только что родившихся, еще беззубых животных.
Оттуда, из-за тридевять земель, из-за морей и океанов, из знойных
пустынь и вечных льдов, они шлют на пароходах и по железной дороге клетки и
ящики с пойманными зверями: кто львенка, кто маленького крокодила, кто
слоненка, кто жирафика с длинной тонкой шеей.
И все эти звери нашли себе место в пронумерованных, помеченных
табличками клетках знаменитого цирка Струцкого. Заплатишь за билет --
увидишь зверей, не заплатишь -- не увидишь.
Толпа переходит от одной клетки к другой. Дивится и читает таблички, на
которых значатся названия зверя и страны, откуда он привезен, его возраст, а
иногда, вкратце, и его обычаи.
Есть в цирковом зверинце животные упрямые и тупые, которые не могут
ничему научиться. Таков, например, уродина носорог с угрожающим рогом на
носу и глазами, как пуговички. Или громадный гиппопотам с головой, как
большой чемодан, и блестящей кожей, который почти все время проводит в воде.
Он ничего не понимает. По одной его голове и бессмысленному взору сразу
видно, что это за тупица. Крокодилы лежат так неподвижно, что кажутся
мертвыми. Вы приняли бы их за чучела, если бы не маленькие, живые, серые
глаза, которые внимательно следят за каждым вашим движением. Черепахи похожи
на большие, подобранные у реки булыжники. Но булыжник вдруг оживает,
высовывает тонкую змеиную голову и четыре лапы, на которых он передвигается
по клетке, потом начинает хрустать листик салата. Спят истомленные жарой
змеи. Изредка то одна, то другая из них зевает, и тогда из ее рта
выбрасывается двумя стрелками черный раздвоенный язык. Жираф помещается в
высокой клетке без потолка. Ворочая маленькой, словно насаженной на
березовый шест головой, он глядит на шляпы посетителей. Опустив нижнюю губу,
сонно мигают верблюды. Они охотно подходят к решетке, хотя их часто
обманывают, предлагая вместо бублика кусок картона. Страус, тот по крайней
мере глотает оптом пуговицы и гвозди. Уж не устроил ли он у себя в желудке
склад где можно приобрести все, что угодно: ключи, пряжки, винты или шпильки
для волос. Черная пантера целый день без отдыха ходит по клетке. Она ни на
кого не глядит, только иногда толкает мордой решетку -- воображает,
вероятно, что решетка каким-то чудом вывалится сама собой, чтобы выпустить
ее на свободу. Но чудес в зверинце не бывает, и пантера продолжает
бесконечно кружить за решеткой. Когда глядишь на нее, кружится голова. Есть
тут и другие звери, один смешнее другого. Например, что-то вроде свиньи с
иглами, как у ежа, и длиннющей мордой: муравьед. Или утконос, названный так
за сходство с уткой.
Не будем говорить о попугаях. Эти говорят сами за себя!.. Говорят на
разных неизвестных языках -- на языках стран, где их поймали, откуда их
прислали сюда.
Вокруг клеток с обезьянами вечное веселье. У них старушечьи лица и
безволосые ладони. С ними никогда не соскучишься. Дурачествам нет конца.
Обезьяны цепляются за решетку и протягивают руку за подачкой. Одна умеет
колоть орехи и очищать их от скорлупы; другая, если вы попробуете ее
обмануть, подсунув пуговицу от пальто, запустит ею вам в голову, сделает вас
всеобщим посмешищем; третья строит толпе рожи; четвертая научилась
смотреться в зеркало. Находятся даже такие, которые ковыряют в зубах
зубочисткой или требуют гребешок, чтобы сделать себе прическу, как у
укротителя львов.
Некоторые из них величиной не больше кулака. Зато горилла больше
первобытного волосатого человека, пещерного жителя.
Горилла всегда грустная. Она медленно ест бананы или апельсины,
задумчиво чистит их и бросает корки -- может быть, вспоминает тропический
лес, где родилась и куда никогда больше не вернется.
В другом крыле помещаются клетки с дрессированными, выступающими в
цирке животными: львами и тиграми, слонами, собаками, зеброй и даже змеями,
которые поднимают голову и раскачиваются в такт музыке, когда индус в чалме
играет им на рожке.
Клетки тут выше и вместительнее. Уход за животными лучше и кормят их
сытнее. Публику сюда иногда не пускают, чтобы не утомлять и не раздражать
зверей перед представлением.
Здесь в самой высокой и просторной клетке когда-то помещался Фрам,
белый медведь.
Не нужно было закрывать за ним дверцу клетки, запирать ее, как у
других, на засов или вешать на нее замок. Он запирал ее сам. А если,
случалось, его забудут напоить, Фрам открывал дверцу и самостоятельно
отправлялся туда, где можно было утолить жажду. Люди пугались и с криком
шарахались от него в сторону, а он невозмутимо шел на задних лапах требовать
свою порцию воды, потом так же спокойно возвращался в клетку.
Теперь Фрама здесь уже нет. Его переселили в глубь зверинца, где живут
самые упрямые и тупые звери, не поддающиеся никакой выучке.
Он лежит спиной к публике.
Некоторые зовут его по имени, стараются соблазнить апельсинами,
булками, бубликами или бананами, но все напрасно.
Фрам даже не поворачивает голову. Положив морду на вытянутые лапы, он
лежит в самом темном углу с закрытыми глазами, будто спит.
Но он не спит.
Он хочет понять, что с ним произошло, и не может. Не может потому, что
мозг самого умного животного не в состоянии постигнуть и тысячной доли того,
что сознает и объясняет себе человек. Но все же что-то туманно ему
вспоминается.
Когда-то он был искусным гимнастом и эквилибристом. Умел шутить и
понимал людские шутки. Любил детей и был любим детьми. Любил аплодисменты, и
публика всегда ему аплодировала.
Но голова его внезапно опустела. Он забыл все, что знал. А теперь его
посадили сюда, в самую темную часть зверинца, среди ревущих, мычащих,
ворчащих зверей, которые после стольких лет все еще не привыкли и людям и не
желают на них глядеть, когда те подходят к клеткам.
Иногда прежний дрессировщик Фрама, который его очень любит, приходит
его проведать.
Он входит в клетку и ласково гладит его косматую белую шкуру.
-- Что поделалось с тобой, приятель? -- участливо спрашивает
дрессировщик.
Фрам поднимает грустные глаза, словно просит у него прощения, словно
хочет сказать: "Сам не понимаю! Поглупел... Такая уж, видно, судьба у нас, у
белых медведей".
Дрессировщик качает головой и протягивает ему конфету. У него в кармане
припасены конфеты для любимцев. Фрам берет конфету с ладони и делает вид,
что рад.
Но как только дрессировщик уходит, он бросает конфету. Фрам взял ее по
старой привычке, теперь она ему ни к чему... Она напоминает ему о тех
временах, когда какой-нибудь мальчуган в цирке давал ему целую горсть
конфет, и он подзывал других ребят, чтобы поделиться с ними гостинцем. Все
это кончилось. Теперь никто уже не кричит: "Фрама!" Никто не хлопает в
ладоши: "Браво, Фрам!" Служители цирка бросают ему корм и суют в клетку
ведро с водой, как дармоеду, как никчемной скотине.
Его бывший дрессировщик гладит его, как больного.
Целыми днями лежит Фрам, уткнувшись мордой в вытянутые лапы, в самом
темном углу клетки. Представление кончается, большие огни гаснут, все спят.
Бодрствует один Фрам. Ему не спится.
Он прислушивается к тишине, в которую погружен неизвестный ему город.
Издали доносится шум запоздалых экипажей, последних трамваев,
автомобильные гудки. Слышится дыхание спящих в клетках зверей. Некоторые из
них стонут или рычат во сне. Им снятся родные края. Они видят себя на
свободе, среди песков пустыни или в девственных джунглях. Им представляется,
что они подстерегают или преследуют добычу, резвятся и играют на воле.
Иногда застонет во сне Раджа, строптивый бенгальский тигр. Ему снится, что
его лапа зажата в капкане. Он просыпается, вскакивает и больно ударяется о
решетку: явь ужаснее сна, страшнее капкана. Тогда, когда его лапа попала в
капкан, он бился семь дней и семь ночей, потом лег и затих в ожидании
смерти. Теперь его угнетает нечто более страшное, чем сама смерть: он навеки
заключен в клетку и должен слушаться шелкового хлыстика. Обезьяны кидают в
него сквозь решетку апельсинными корками, и он обречен терпеть их
издевательства. Вспомнив все это, Раджа принимается реветь и будит всех
зверей. Сонные видения исчезают. Очнувшись от сна, звери отдают себе отчет в
том, что они в тюрьме и никогда уже больше не увидят родных лесов, рек,
озер, гор, пустынь и вечных льдов. Никогда. И только во сне они принимаются
жаловаться на все голоса...
Зверинец оглашается звериным ревом.
От страха у собак в городе шерсть становится дыбом. Они тоже начинают
лаять и выть.
Такое соревнование будит спящий город.
Потом рев и стоны утихают. Звери снова засыпают. И снова сны переносят
их в далекие края, которых они никогда больше не увидят наяву.
Тиграм снится, что они снова в джунглях родной Бенгалии, где с деревьев
свисают до земли лианы, где бабочки больше птиц, а иные птицы меньше
насекомых. Их ноздри обманчиво щекотят испарения озер, насыщенные
благоуханием лотоса. Они поднимают морду и принюхиваются, стараясь отличить
запах антилопы, добычи, от запахов своего брата, тигра. Но в нос им ударяет
застоявшийся смрад конюшни и мусорной ямы. Все исчезает. Остается лишь
тяжелый сон.
В полуночной тишине и темноте Фрам поднимается на задние лапы и
пытается повторить все, что он знал и умел, когда выходил один на арену и
публика встречала его аплодисментами.
Он становится на передние лапы, делает так несколько шагов, пробует
перекувыркнуться через голову, сначала вперед, потом назад. Кланяется
направо и налево невидимой публике -- благодарит за аплодисменты. Знал он,
как будто, и другие штуки. Но что именно -- позабылось. Да и клетка у него
слишком тесная.
Фрам опускается на все четыре лапы и снова чувствует себя обыкновенным
зверем.
Свернувшись клубком в своем углу, он пытается заснуть.
Хоть бы во сне увидеть белые просторы с вечным льдом и вечными снегами,
с пургой и морозом, который щиплет нос.
Но сны у него короткие, а далекие воспоминания чересчур туманны.
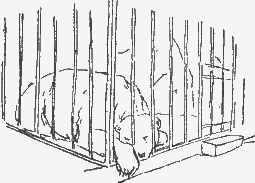 * * *
* * *
 V. ФРАМ РОДИЛСЯ ДАЛЕКО, В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ
Когда веки его наконец смыкались, Фрам видел всегда один и тот же сон
-- о немногих и смутных событиях своего далекого, давно забытого детства.
Это была история белого медвежонка, пойманного совсем маленьким
эскимосами в Заполярье, привезенного оттуда одним матросом в теплый порт и
проданного цирку.
Медвежонок этот стал сразу отличаться от своих маленьких белых
собратьев. Он был менее пуглив, чем они, сильнее и ловчее их. Быстро
усваивал то, чему его учили. Подружился с людьми. Рано понял, что им
нравится и что не нравится, что дозволено и что запрещено.
Представление следовало за представлением, и мало-помалу он превратился
в знаменитого Фрама, громадного белого медведя, который самостоятельно
выходил на арену, выполнял свою программу без дрессировщика, придумывая
каждый раз что-нибудь новое. Он понимал шутку, знал жалость.
Все прежнее забылось. Забылась белая пустыня и вечные льды, где ночь
длится шесть месяцев и столько же месяцев день, где сутки равны году. Мысль
его никогда больше не возвращалась туда.
Он жил среди людей. Был их другом и любимцем, умел читать по глазам их
желания. Угадывал их радости и, казалось, понимал даже их горести.
И вдруг теперь в нем пробудился весь тот далекий, давнишний мир. Все
забытое снова возникло из дали лет во сне.
И сон этот был всегда один и тот же.
Начиналось с кромешной тьмы. Сырая, студеная ночь в ледяной берлоге.
В этой берлоге на окруженном льдами острове родился Фрам. Родился
ночью, которая длится там полгода. Полгода не всходит солнце. Светят лишь
звезды в морозном небе и иногда луна. Но чаще всего царит глубокий мрак,
потому что луну и звезды скрывают облака. Пурга мчит снежные смерчи,
хохочет, свистит, стонет; льдины трещат от холода: такая страсть, что шерсть
становится дыбом. Как и все медвежата, Фрам родился слепым. Глаза у него
открылись только на шестую неделю.
Пурга не проникала в берлогу. Ее завывания доносились туда снаружи. Но
сверху и снизу был лед, а вокруг -- гладкие ледяные стены.
Спать медвежонку было тепло: шкура медведицы закрывала его и защищала
от холода.
Он находил носом сосок матери -- источник теплого молока. Чувствовал,
как она мыла его языком и ласкала лапой.
Иногда он просыпался один: медведицы не было. Это означало, что она
ушла на добычу.
Но всего медвежонок не понимал. Проснувшись один в темноте, он
принимался тихонько скулить, жалобно звать мать и пугался собственного
голоса. Испуганный, несчастный, лежал он в берлоге, уткнувшись мордой в
ледяную стенку. Было холодно. Вокруг с грохотом лопались льды, пурга
ворочала ледяными глыбами, медвежонку чудились шаги.
Полузамерзший, он засыпал снова. И еще сквозь сон ощутив радость,
просыпался согретый и счастливый. Теплая шкура опять была тут; рядом был
источник молока; мягкая, шелковистая лапа ласкала его и прижимала к брюху.
Медвежонок понимал, что вернулось большое, доброе существо, которое
защищало, согревало и кормило его: мать. Преисполненный благодарности, он
пытался лизнуть ее в нос.
Но какой он еще был неловкий, какой глупый!
Конечно, он не сознавал, какой заботой окружала его мать и как трудно
ей было с ним расставаться: она уходила на охоту только тогда, когда ее
донимал голод.
Наконец у детеныша открылись глаза. Но ничего, кроме мрака, он не
увидел. Темно было и внутри, в берлоге, и снаружи, когда он осмеливался
выглянуть из ледяной пещеры.
Раз, только раз он увидел чудо: в небе полыхало огромное пламя. Потом
возникла радуга. Свет играл далеко в океане, на сверкающих торосах. Северное
сияние. Но откуда было знать медвежонку, что это такое? Он взревел со
страху. Пляшущее в небе пламя мгновенно угасло. И снова медвежонка окутала
непроглядная тьма. Теперь ему было уже жалко света...
По глупости он решил, что свет убежал, испугавшись его рева. Ему
захотелось рассказать матери об этой проделке, и он очень гордо заурчал:
знай, мол, наших. Но у матери были другие заботы. Теперь она уже брала его с
собой на охоту недалеко от берлоги -- учила законам белых медведей.
Мать прижимала его лапой, чтоб он смирно сидел на торосе, пока сама она
спускалась к воде. Он не решался посмотреть вниз. Слышал, как шумит,
ударяясь о лед, вода, как сталкиваются льдины, но все равно ничего не
понимал. Он еще не видел воды, не знал, как плавают гонимые ветром льдины,
как они иногда спаиваются морозом и образуют громадное, сколько хватает
глаз, поле.
Медведица возвращалась с окровавленной мордой. Это означало, что она
ловила рыбу или ей удалось убить моржа, тюленя или другого водного зверя.
Возвращалась она с охоты сытая. Оба отправлялись домой, в берлогу. И всегда
медведица подталкивала детеныша мордой, чтоб он шел впереди. Она же
следовала за ним, охраняя его от неведомых хищников.
Привыкнув к темноте, медвежонок думал, что ночь продолжается
бесконечно. Он еще не видел дневного света, не видел солнца и потому не
представлял себе, что это такое. Жизнь казалась ему прекрасной и так, в
темноте. У него был надежный защитник. Теплого молока было вдоволь. Правда,
его пятки немного мерзли, когда приходилось долго идти по льду, но кожа у
белых медведей толстая, потому что они живут в стране вечных снегов, в самых
холодных местах земного шара.
С некоторых пор медведица стала проявлять признаки беспокойства. Она
все чаще вставала, подходила к устью берлоги и смотрела всегда в одну и ту
же сторону. Потом возвращалась. А немного погодя уходила снова.
Медвежонок следовал за ней, как щенок. Он лишь позднее понял, чего
ждала мать. Там, куда она смотрела, край неба начал постепенно синеть.
Сперва ночь просто стала светлее, затем над горизонтом появился синеватый
просвет. Потом -- медвежонок дважды успел за это время выспаться и четыре
раза поесть -- синева стала краснеть. А еще через столько же времени на том
месте показалась багровая полоска. Полоска длиннела, ширилась, росла
ввысь... И после еще одного сна медвежонок с изумлением и даже некоторым
страхом увидел в небе огненный шар.
Он повернул морду в ту сторону и завыл.
Но этот шар, не в пример северному сиянию, не испугался его и не угас,
а наоборот, поднялся еще выше, и все ледяные поля, все торосы так
заискрились, что на них стало больно смотреть. Прошло достаточно времени,
пока глаза медвежонка привыкли к яркому свету и он осмелился взглянуть в ту
сторону, не рыча.
Так состоялось его первое знакомство с солнцем и дневным светом. С
солнцем, которое в Заполярье больше, чем где бы то ни было на свете, и
которое не заходит несколько месяцев кряду.
Так начался самый длинный день.
Мороз, однако, сдал не сразу. Прошло немало времени, пока наконец снега
и льды растаяли местами от теплого ветра, подувшего издалека, невесть из
каких стран.
Все кругом искрилось и сверкало белизной. Гребни гор на их острове
блестели, как зеркала... Далеко на горизонте плавали громадные ледяные
острова. Они то удалялись друг от друга, то сближались и спаивались, образуя
бесконечный мост. Иногда перед медвежонком открывались обширные зеленые
разводья. Однажды он увидел, как на льдине проплыли другие белые медведицы с
детенышами.
У всех было по два медвежонка. Только он был у матери один.
Медведица стала собираться в дорогу. Медвежонок не понимал, зачем это
нужно, и не хотел уходить из берлоги. Тут у него было хорошее, надежно
защищенное от пурги логово. Он боялся, как бы опять не началась ужасная
темная ночь.
Ему неоткуда было знать, как долго продлится полярный день и через
сколько месяцев снова закатится солнце. Не знал он и того, что белые медведи
путешествуют на ледяных плавучих островах туда, где много моржей и тюленей,
рыбы и зайцев-беляков.
Они пустились в путь. Медвежонок, как всегда, шел впереди, медведица за
ним.
Когда им встречались трещины или торчавшие изо льда скалы, медвежонок
оборачивался -- спрашивал у матери, как быть. Медведица выходила вперед на
несколько шагов и осматривала местность, потом брала медвежонка передними
лапами и, поднявшись на задние, переправляла его через скалу или бережно
переносила через трещину, на дне которой тонкими струйками сочилась вода.
Они остановились только тогда, когда увидели перед собой большое
ледяное поле, приткнувшееся к суше.
С большими предосторожностями мать с сыном спустились на него. Поле
отделилось от берега и поплыло вместе с ними, уносимое океанским течением.
На их плавучем острове попадались широкие полыньи, где иногда показывались
страшные и блестящие черные головы. Они быстро уходили под воду, потом снова
появлялись на поверхности, цепляясь за кромку льда длинными, изогнутыми
наподобие багра клыками. Это были моржи -- самая лакомая добыча для белых
медведей.
Возле одной из таких полыней медведица прижала детеныша лапой, чтобы он
сидел смирно, и медвежонок послушно вдавился в снег. Она тоже легла, скрытая
торосом.
Ждать пришлось долго.
Наконец у края полыньи показалась блестящая круглая голова и зацепилась
за лед клыками. Голова осмотрелась -- не грозит ли опасность? Потом из воды
поднялось туловище, опираясь на короткие обрубки, не то ноги, не то крылья,
-- ласты. Зверь выбрался на лед и разлегся на солнышке. За ним последовал
второй, потом третий, четвертый...
Вскарабкавшись на лед, они выискивали себе место, ложились и засыпали.
Медведица крадучись обошла их, отрезав им путь к отступлению, к воде,
и, дождавшись подходящего момента, бросилась на крайнего моржа. Ух, как
заколотилось у медвежонка сердце!..
Медведица вцепилась моржу в голову. Медвежонок услышал, как у него
хрустнули кости, увидел, как морское чудовище задергалось в предсмертных
судорогах. Остальные с испуганным ревом сползли в воду и ушли вглубь.
Когда добыча перестала подавать признаки жизни, медведица негромким
урчанием подозвала к себе медвежонка. Тот опасливо подошел, делая два шага
вперед и шаг назад. Он еще никогда не видел смерти и не знал, что мертвый
зверь не опасен. Распоров моржу брюхо когтями, медведица принялась есть
теплое мясо и запивать его горячей кровью, урчанием приглашая медвежонка
попробовать.
Он попробовал, но вначале не нашел в моржовом мясе особого вкуса. Оно
показалось ему чересчур жирным. И запах у него был противный. Есть мясо он
научился позднее, когда этот запах стал возбуждать у него голод.
Но к охоте пристрастился сразу...
Они поплыли дальше, переходя с одной льдины на другую. Завидев
греющегося на солнце моржа или целое моржовое стадо, медвежонок вцеплялся
зубами в шкуру матери -- сигнализировал. Медведица отталкивала его лапой:
сиди, мол, смирно, не дело глупого детеныша учить мать охотиться! Она
никогда не делала оплошностей, никогда не упускала добычу.
Но охотилась она только тогда, когда ее одолевал голод. Когда она
убивала моржа, они надолго прерывали свое путешествие, отсыпались,
обследовали окрестности, всегда возвращаясь к остаткам добычи, пока не
обгладывали последней косточки. Все это время десятки моржей могли спокойно
вылезать на лед: сытая медведица даже не поворачивала головы, чтобы на них
посмотреть.
Однажды их плавучий остров уперся в высокий, скалистый берег острова.
Берег тянулся, сколько хватал глаз, -- ледяные глыбы вперемешку со скалами.
Медведица обрадовалась: видно, не подозревала, что ее ждет здесь
погибель. Она весело вскарабкалась по обледенелой скалистой круче.
Наверху расстилалось плоскогорье, прорезанное неширокими распадками.
Медвежонок очень удивился, впервые увидев в них бархатный мох, зеленые
лужайки и нечто уже вовсе непонятное: лужицы крови.
Он было сунулся их лизать, но тут же испуганно отпрянул. Это была не
кровь. Это были цветы. Цветы полярного мака.
Медведица принялась рыться во мху мордой -- искать какие-то коренья.
Она урчала от удовольствия и звала к себе детеныша -- пусть он тоже
полакомится. Очевидно, моржовое мясо и жир ей приелись. Ее организм требовал
чего-то более свежего и ароматного.
Дальше они шли уже гораздо медленнее и осторожнее.
На снегу виднелись странные следы. Следы неведомых зверей, следы птиц.
Следы эти терялись в распадках, где снег уже стаял, зеленела чахлая
травка и цвели цветы. Медведица не отпускала от себя медвежонка и часто
нюхала воздух. Влажный ветер приносил чуждые ей запахи. Почуяв их, она
быстро убегала, то и дело оборачиваясь, и пряталась за скалы или вздыбленные
льдины.
Именно тут медвежонок впервые услышал собачий лай.
Когда до его слуха донесся этот новый для него звук, он замер на месте,
с поднятой лапой.
Медведица тотчас подошла к нему, готовая защитить его от невидимой
опасности, медленно поднялась на задние лапы и навострила уши, вращая
глазами и широко раздувая ноздри.
Но лай отдалился. Он слышался теперь все слабее и слабее, пока вовсе не
смолк.
Несколько минут они ждали не двигаясь. Потом медведица стала
поворачиваться на задних лапах, как на винтовом стуле, принюхиваясь к ветру.
Лай не возобновился, но ветер продолжал приносить странный, незнакомый
кислый запах. Это был запах людей и собак, неизвестный не только медвежонку,
но и медведице.
Коротким урчанием она подала ему знак: надо сейчас же уходить.
Оставаться тут было небезопасно. В неприятном запахе и лае неведомого
животного таилась угроза.
Они поспешили к берегу, но ледяные острова успели тем временем
отделиться от скал. Их унесло океанским течением. Впереди простиралась
безбрежная зеленая пучина, в рябой поверхности которой солнце отражалось,
как в миллионах чешуек. Лишь далеко-далеко, там, где небо встречается с
океаном, маячили плавучие ледяные горы.
Медведица поняла, что она и ее детеныш -- пленники острова. Острова,
где слышен лай неизвестных животных, где ветер приносит чужой, кислый и
противный запах, который отравляет чистый, как родниковая вода, воздух.
Она принялась лизать мордочку медвежонка с удвоенной нежностью, словно
знала, что скоро потеряет его, словно предчувствовала свою гибель.
Но несмысленыш-медвежонок стал беззаботно играть и резвиться.
Солнце стояло высоко среди неба. Лучи его преломлялись во льдах. В
соседнем распадке стиснутая со всех сторон льдом и снегом зеленела полоска
мха, росла травка и алели цветы.
Катаясь по мягкому мху, медвежонок срывал зубами чахлые полярные маки.
V. ФРАМ РОДИЛСЯ ДАЛЕКО, В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ
Когда веки его наконец смыкались, Фрам видел всегда один и тот же сон
-- о немногих и смутных событиях своего далекого, давно забытого детства.
Это была история белого медвежонка, пойманного совсем маленьким
эскимосами в Заполярье, привезенного оттуда одним матросом в теплый порт и
проданного цирку.
Медвежонок этот стал сразу отличаться от своих маленьких белых
собратьев. Он был менее пуглив, чем они, сильнее и ловчее их. Быстро
усваивал то, чему его учили. Подружился с людьми. Рано понял, что им
нравится и что не нравится, что дозволено и что запрещено.
Представление следовало за представлением, и мало-помалу он превратился
в знаменитого Фрама, громадного белого медведя, который самостоятельно
выходил на арену, выполнял свою программу без дрессировщика, придумывая
каждый раз что-нибудь новое. Он понимал шутку, знал жалость.
Все прежнее забылось. Забылась белая пустыня и вечные льды, где ночь
длится шесть месяцев и столько же месяцев день, где сутки равны году. Мысль
его никогда больше не возвращалась туда.
Он жил среди людей. Был их другом и любимцем, умел читать по глазам их
желания. Угадывал их радости и, казалось, понимал даже их горести.
И вдруг теперь в нем пробудился весь тот далекий, давнишний мир. Все
забытое снова возникло из дали лет во сне.
И сон этот был всегда один и тот же.
Начиналось с кромешной тьмы. Сырая, студеная ночь в ледяной берлоге.
В этой берлоге на окруженном льдами острове родился Фрам. Родился
ночью, которая длится там полгода. Полгода не всходит солнце. Светят лишь
звезды в морозном небе и иногда луна. Но чаще всего царит глубокий мрак,
потому что луну и звезды скрывают облака. Пурга мчит снежные смерчи,
хохочет, свистит, стонет; льдины трещат от холода: такая страсть, что шерсть
становится дыбом. Как и все медвежата, Фрам родился слепым. Глаза у него
открылись только на шестую неделю.
Пурга не проникала в берлогу. Ее завывания доносились туда снаружи. Но
сверху и снизу был лед, а вокруг -- гладкие ледяные стены.
Спать медвежонку было тепло: шкура медведицы закрывала его и защищала
от холода.
Он находил носом сосок матери -- источник теплого молока. Чувствовал,
как она мыла его языком и ласкала лапой.
Иногда он просыпался один: медведицы не было. Это означало, что она
ушла на добычу.
Но всего медвежонок не понимал. Проснувшись один в темноте, он
принимался тихонько скулить, жалобно звать мать и пугался собственного
голоса. Испуганный, несчастный, лежал он в берлоге, уткнувшись мордой в
ледяную стенку. Было холодно. Вокруг с грохотом лопались льды, пурга
ворочала ледяными глыбами, медвежонку чудились шаги.
Полузамерзший, он засыпал снова. И еще сквозь сон ощутив радость,
просыпался согретый и счастливый. Теплая шкура опять была тут; рядом был
источник молока; мягкая, шелковистая лапа ласкала его и прижимала к брюху.
Медвежонок понимал, что вернулось большое, доброе существо, которое
защищало, согревало и кормило его: мать. Преисполненный благодарности, он
пытался лизнуть ее в нос.
Но какой он еще был неловкий, какой глупый!
Конечно, он не сознавал, какой заботой окружала его мать и как трудно
ей было с ним расставаться: она уходила на охоту только тогда, когда ее
донимал голод.
Наконец у детеныша открылись глаза. Но ничего, кроме мрака, он не
увидел. Темно было и внутри, в берлоге, и снаружи, когда он осмеливался
выглянуть из ледяной пещеры.
Раз, только раз он увидел чудо: в небе полыхало огромное пламя. Потом
возникла радуга. Свет играл далеко в океане, на сверкающих торосах. Северное
сияние. Но откуда было знать медвежонку, что это такое? Он взревел со
страху. Пляшущее в небе пламя мгновенно угасло. И снова медвежонка окутала
непроглядная тьма. Теперь ему было уже жалко света...
По глупости он решил, что свет убежал, испугавшись его рева. Ему
захотелось рассказать матери об этой проделке, и он очень гордо заурчал:
знай, мол, наших. Но у матери были другие заботы. Теперь она уже брала его с
собой на охоту недалеко от берлоги -- учила законам белых медведей.
Мать прижимала его лапой, чтоб он смирно сидел на торосе, пока сама она
спускалась к воде. Он не решался посмотреть вниз. Слышал, как шумит,
ударяясь о лед, вода, как сталкиваются льдины, но все равно ничего не
понимал. Он еще не видел воды, не знал, как плавают гонимые ветром льдины,
как они иногда спаиваются морозом и образуют громадное, сколько хватает
глаз, поле.
Медведица возвращалась с окровавленной мордой. Это означало, что она
ловила рыбу или ей удалось убить моржа, тюленя или другого водного зверя.
Возвращалась она с охоты сытая. Оба отправлялись домой, в берлогу. И всегда
медведица подталкивала детеныша мордой, чтоб он шел впереди. Она же
следовала за ним, охраняя его от неведомых хищников.
Привыкнув к темноте, медвежонок думал, что ночь продолжается
бесконечно. Он еще не видел дневного света, не видел солнца и потому не
представлял себе, что это такое. Жизнь казалась ему прекрасной и так, в
темноте. У него был надежный защитник. Теплого молока было вдоволь. Правда,
его пятки немного мерзли, когда приходилось долго идти по льду, но кожа у
белых медведей толстая, потому что они живут в стране вечных снегов, в самых
холодных местах земного шара.
С некоторых пор медведица стала проявлять признаки беспокойства. Она
все чаще вставала, подходила к устью берлоги и смотрела всегда в одну и ту
же сторону. Потом возвращалась. А немного погодя уходила снова.
Медвежонок следовал за ней, как щенок. Он лишь позднее понял, чего
ждала мать. Там, куда она смотрела, край неба начал постепенно синеть.
Сперва ночь просто стала светлее, затем над горизонтом появился синеватый
просвет. Потом -- медвежонок дважды успел за это время выспаться и четыре
раза поесть -- синева стала краснеть. А еще через столько же времени на том
месте показалась багровая полоска. Полоска длиннела, ширилась, росла
ввысь... И после еще одного сна медвежонок с изумлением и даже некоторым
страхом увидел в небе огненный шар.
Он повернул морду в ту сторону и завыл.
Но этот шар, не в пример северному сиянию, не испугался его и не угас,
а наоборот, поднялся еще выше, и все ледяные поля, все торосы так
заискрились, что на них стало больно смотреть. Прошло достаточно времени,
пока глаза медвежонка привыкли к яркому свету и он осмелился взглянуть в ту
сторону, не рыча.
Так состоялось его первое знакомство с солнцем и дневным светом. С
солнцем, которое в Заполярье больше, чем где бы то ни было на свете, и
которое не заходит несколько месяцев кряду.
Так начался самый длинный день.
Мороз, однако, сдал не сразу. Прошло немало времени, пока наконец снега
и льды растаяли местами от теплого ветра, подувшего издалека, невесть из
каких стран.
Все кругом искрилось и сверкало белизной. Гребни гор на их острове
блестели, как зеркала... Далеко на горизонте плавали громадные ледяные
острова. Они то удалялись друг от друга, то сближались и спаивались, образуя
бесконечный мост. Иногда перед медвежонком открывались обширные зеленые
разводья. Однажды он увидел, как на льдине проплыли другие белые медведицы с
детенышами.
У всех было по два медвежонка. Только он был у матери один.
Медведица стала собираться в дорогу. Медвежонок не понимал, зачем это
нужно, и не хотел уходить из берлоги. Тут у него было хорошее, надежно
защищенное от пурги логово. Он боялся, как бы опять не началась ужасная
темная ночь.
Ему неоткуда было знать, как долго продлится полярный день и через
сколько месяцев снова закатится солнце. Не знал он и того, что белые медведи
путешествуют на ледяных плавучих островах туда, где много моржей и тюленей,
рыбы и зайцев-беляков.
Они пустились в путь. Медвежонок, как всегда, шел впереди, медведица за
ним.
Когда им встречались трещины или торчавшие изо льда скалы, медвежонок
оборачивался -- спрашивал у матери, как быть. Медведица выходила вперед на
несколько шагов и осматривала местность, потом брала медвежонка передними
лапами и, поднявшись на задние, переправляла его через скалу или бережно
переносила через трещину, на дне которой тонкими струйками сочилась вода.
Они остановились только тогда, когда увидели перед собой большое
ледяное поле, приткнувшееся к суше.
С большими предосторожностями мать с сыном спустились на него. Поле
отделилось от берега и поплыло вместе с ними, уносимое океанским течением.
На их плавучем острове попадались широкие полыньи, где иногда показывались
страшные и блестящие черные головы. Они быстро уходили под воду, потом снова
появлялись на поверхности, цепляясь за кромку льда длинными, изогнутыми
наподобие багра клыками. Это были моржи -- самая лакомая добыча для белых
медведей.
Возле одной из таких полыней медведица прижала детеныша лапой, чтобы он
сидел смирно, и медвежонок послушно вдавился в снег. Она тоже легла, скрытая
торосом.
Ждать пришлось долго.
Наконец у края полыньи показалась блестящая круглая голова и зацепилась
за лед клыками. Голова осмотрелась -- не грозит ли опасность? Потом из воды
поднялось туловище, опираясь на короткие обрубки, не то ноги, не то крылья,
-- ласты. Зверь выбрался на лед и разлегся на солнышке. За ним последовал
второй, потом третий, четвертый...
Вскарабкавшись на лед, они выискивали себе место, ложились и засыпали.
Медведица крадучись обошла их, отрезав им путь к отступлению, к воде,
и, дождавшись подходящего момента, бросилась на крайнего моржа. Ух, как
заколотилось у медвежонка сердце!..
Медведица вцепилась моржу в голову. Медвежонок услышал, как у него
хрустнули кости, увидел, как морское чудовище задергалось в предсмертных
судорогах. Остальные с испуганным ревом сползли в воду и ушли вглубь.
Когда добыча перестала подавать признаки жизни, медведица негромким
урчанием подозвала к себе медвежонка. Тот опасливо подошел, делая два шага
вперед и шаг назад. Он еще никогда не видел смерти и не знал, что мертвый
зверь не опасен. Распоров моржу брюхо когтями, медведица принялась есть
теплое мясо и запивать его горячей кровью, урчанием приглашая медвежонка
попробовать.
Он попробовал, но вначале не нашел в моржовом мясе особого вкуса. Оно
показалось ему чересчур жирным. И запах у него был противный. Есть мясо он
научился позднее, когда этот запах стал возбуждать у него голод.
Но к охоте пристрастился сразу...
Они поплыли дальше, переходя с одной льдины на другую. Завидев
греющегося на солнце моржа или целое моржовое стадо, медвежонок вцеплялся
зубами в шкуру матери -- сигнализировал. Медведица отталкивала его лапой:
сиди, мол, смирно, не дело глупого детеныша учить мать охотиться! Она
никогда не делала оплошностей, никогда не упускала добычу.
Но охотилась она только тогда, когда ее одолевал голод. Когда она
убивала моржа, они надолго прерывали свое путешествие, отсыпались,
обследовали окрестности, всегда возвращаясь к остаткам добычи, пока не
обгладывали последней косточки. Все это время десятки моржей могли спокойно
вылезать на лед: сытая медведица даже не поворачивала головы, чтобы на них
посмотреть.
Однажды их плавучий остров уперся в высокий, скалистый берег острова.
Берег тянулся, сколько хватал глаз, -- ледяные глыбы вперемешку со скалами.
Медведица обрадовалась: видно, не подозревала, что ее ждет здесь
погибель. Она весело вскарабкалась по обледенелой скалистой круче.
Наверху расстилалось плоскогорье, прорезанное неширокими распадками.
Медвежонок очень удивился, впервые увидев в них бархатный мох, зеленые
лужайки и нечто уже вовсе непонятное: лужицы крови.
Он было сунулся их лизать, но тут же испуганно отпрянул. Это была не
кровь. Это были цветы. Цветы полярного мака.
Медведица принялась рыться во мху мордой -- искать какие-то коренья.
Она урчала от удовольствия и звала к себе детеныша -- пусть он тоже
полакомится. Очевидно, моржовое мясо и жир ей приелись. Ее организм требовал
чего-то более свежего и ароматного.
Дальше они шли уже гораздо медленнее и осторожнее.
На снегу виднелись странные следы. Следы неведомых зверей, следы птиц.
Следы эти терялись в распадках, где снег уже стаял, зеленела чахлая
травка и цвели цветы. Медведица не отпускала от себя медвежонка и часто
нюхала воздух. Влажный ветер приносил чуждые ей запахи. Почуяв их, она
быстро убегала, то и дело оборачиваясь, и пряталась за скалы или вздыбленные
льдины.
Именно тут медвежонок впервые услышал собачий лай.
Когда до его слуха донесся этот новый для него звук, он замер на месте,
с поднятой лапой.
Медведица тотчас подошла к нему, готовая защитить его от невидимой
опасности, медленно поднялась на задние лапы и навострила уши, вращая
глазами и широко раздувая ноздри.
Но лай отдалился. Он слышался теперь все слабее и слабее, пока вовсе не
смолк.
Несколько минут они ждали не двигаясь. Потом медведица стала
поворачиваться на задних лапах, как на винтовом стуле, принюхиваясь к ветру.
Лай не возобновился, но ветер продолжал приносить странный, незнакомый
кислый запах. Это был запах людей и собак, неизвестный не только медвежонку,
но и медведице.
Коротким урчанием она подала ему знак: надо сейчас же уходить.
Оставаться тут было небезопасно. В неприятном запахе и лае неведомого
животного таилась угроза.
Они поспешили к берегу, но ледяные острова успели тем временем
отделиться от скал. Их унесло океанским течением. Впереди простиралась
безбрежная зеленая пучина, в рябой поверхности которой солнце отражалось,
как в миллионах чешуек. Лишь далеко-далеко, там, где небо встречается с
океаном, маячили плавучие ледяные горы.
Медведица поняла, что она и ее детеныш -- пленники острова. Острова,
где слышен лай неизвестных животных, где ветер приносит чужой, кислый и
противный запах, который отравляет чистый, как родниковая вода, воздух.
Она принялась лизать мордочку медвежонка с удвоенной нежностью, словно
знала, что скоро потеряет его, словно предчувствовала свою гибель.
Но несмысленыш-медвежонок стал беззаботно играть и резвиться.
Солнце стояло высоко среди неба. Лучи его преломлялись во льдах. В
соседнем распадке стиснутая со всех сторон льдом и снегом зеленела полоска
мха, росла травка и алели цветы.
Катаясь по мягкому мху, медвежонок срывал зубами чахлые полярные маки.
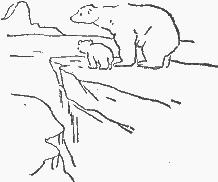 * * *
* * *
 VI. ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И РУЖЬЕ
В ледяных пустынях, где она родилась и прожила всю жизнь, белая
медведица ни разу еще не видела человека.
Она даже не подозревала, что на свете есть такое странное существо.
Она никогда еще не слышала ни собачьего лая, ни ружейного выстрела.
Запахи человека, собаки и пороха были ей неизвестны. Она не знала, что
этих трех заклятых врагов диких зверей связывала неразрывная дружба:
человек, собака и ружье никогда не отказывались от добычи, когда ее могла
достать пуля.
Медведица даже не боялась тоненькой стальной трубки, где в свинцовой
пуле притаилась смерть.
Слишком уж далеко от охотников и ружей протекала до сих пор ее жизнь в
этой самой нехоженой части земного шара.
Пустынность этого края вечных льдов и снегов защищена лютыми морозами и
метелями. Защищена полугодовой ночью и глубоким зеленым океаном.
В те месяцы, когда солнце стояло среди неба, по безбрежным водным
просторам на юг проплывали, как таинственные галеры без парусов, без руля и
без гребцов, ледяные горы -- айсберги.
Потом наступали долгие месяцы полярной ночи, и бескрайние просторы
океана превращались в ледяную равнину: миллионы квадратных километров лежали
под снежным покровом.
Все застывало в белом безмолвии.
Во всех странах, расположенных к югу от этой неприютной пустыни, светит
солнце, реют ласточки, на сочных пастбищах звенят овечьи колокольчики и
резвятся ягнята с кисточками в ушах.
Лютые морозы и ужасы полярной ночи обороняют царство белых медведей,
отгораживают его от остального мира стеной более надежной, чем самая
неприступная крепость.
Туда, за этот рубеж, не проникает ничего из жизни, бьющей ключом южнее,
где изумрудным ковром расстилаются весенние пастбища, где благоухает сирень
и в небе заливаются жаворонки.
Разве что иногда залетят вместе с теплыми ветрами из далеких стран стаи
белых, крикливых птиц.
Птицы машут крыльями с атласным шуршанием.
Они, возможно, видели пароходы, города и порты, церкви с колокольнями и
вокзалы, поезда и телефонные провода, арочные мосты и мчащиеся по
автострадам автомобили, парки с духовыми оркестрами, сады, полные роз,
площади с высокими памятниками и много других чудес, созданных руками
человека. Может быть, они знали, что эти же руки изобрели и другие чудеса,
беспощадные для диких обитателей лесов, степей и вод. Может быть, они даже
слышали выстрелы, знали, что в тонкой стальной трубке их подстерегает
непостижимая, удивительная смерть, которая мгновенно настигнет их, лишь
только приблизится человек и приложит к глазу ружье.
Но птицы не могли рассказать всего этого медведице и ее детенышу.
Их пронзительные крики нарушали застывшую тишину белой пустыни, вещая
что-то на им одним понятном языке.
Потом, когда начинали дуть злые, студеные ветры, предвестники
полугодовой ночи, белые птицы собирались станицами и улетали обратно, туда,
где весной цветет сирень.
Оставались лишь звери, хранившие верность вечным снегам: песцы, которых
не отличишь от сугробов, да зайцы-беляки, которые пускаются наутек от
малейшего шороха льдин. А на скалистые берега островов и на кромку
хрустальных плавучих льдов карабкалась излюбленная добыча белых медведей:
морской теленок -- тюлень и морской конь -- морж.
Они одни ложились черными пятнами на белое покрывало снега.
Кроме них, все было бело...
Белые сугробы, белый лед, белые медведи, белые песцы, белые зайцы,
белые полярные птицы, которые питаются рыбой и не могут далеко летать на
своих коротких крыльях.
Для белой медведицы животный мир этим ограничивался. Других тварей,
спасшихся от потопа в Ноевом ковчеге, она не знала.
Среди них у медведицы не было достойных противников. Одних спасало
бегство. Другие, зайцы, удирали, едва касаясь лапами ледяной глади,
проделывая акробатические прыжки; песцы прижимались к снегу и сливались с
его белизной.
Но песцы и зайцы были чересчур скудной добычей: мясо их не жирное, к
тому же его слишком мало для вместительного медвежьего желудка.
Охотиться стоило только на моржей и тюленей, дававших горы сытного
мяса.
На вид эти звери были очень страшные. Огромные, безобразные, с
блестящей шкурой, они лежали один возле другого на льдинах. Хриплый рев,
усатые, вислоухие морды моржей с загнутыми вниз клыками должны были бы
внушать ужас. Но они не умели по-настоящему драться, а тюлени были
безобиднее сосунка-волчонка. Бегать морские звери тоже не могли -- могли
только протащиться по льду несколько шагов. Защищаться они были неспособны.
Все их таланты сосредоточивались на глубинной рыбной ловле.
Медведица подстерегала их, укрывшись за торосами. Она выбирала добычу,
наваливалась всей своей тяжестью на блестящую громаду жира и мяса и вонзала
клыки в круглую голову. Трещал череп. Остальные звери скатывались в воду и
погружались в пучину.
Борьба этим заканчивалась. Несколько мгновений медведица была
всемогущей в этом снежном крае, где никакой другой наземный или водный зверь
не смел помериться с ней силами.
Там, дальше, командовала другая медведица. Они не ссорились, не
враждовали, не нарушали границ чужих владений. Когда морского зверя
становилось меньше или когда он по неизвестной причине уходил на другое
лежбище, медведицы со своим потомством перебирались на льдину и уплывали к
другому, видневшемуся на горизонте острову.
Льдина бороздила океанские просторы, как корабль без руля и без ветрил,
пока не приставала к другому замерзшему берегу.
Там снова открывалась взору сверкающая пустыня, куда еще не ступала
нога человека. Зато моржей и тюленей было вдоволь.
Путь передвижения белых медведей был отмечен кучами костей.
Их вскоре покрывал снег.
И все это происходило без посторонних свидетелей, между льдом и небом,
между океаном и небом.
Но на том острове, где очутилась наша медведица со своим детенышем, на
снегу виднелись незнакомые ей следы и ветер приносил неведомый, вселявший
тревогу запах. Скрытая угроза висела в воздухе.
Медвежонок свернулся в комок под боком у матери, где, он знал, всегда
тепло и безопасно. Зарылся мордой в ее густую белую шерсть, чуть постукивая
зубами и скуля так тихо, что его нельзя было бы услышать и в трех шагах.
Лай смолк. Ветер рассеял едкий, противный запах... Вновь наступила
обманчивая тишина. Слышался лишь лепет зеленых волн у прибрежных скал и
внизу, у ледяной кромки. Где-то между льдинами сочился ручеек.
Обманутый этой тишиной, медвежонок принялся играть и резвиться, кубарем
скатываясь с сугробов. Но медведица лапой вернула его обратно и уложила
рядом с собой, защищая мордой.
Потом поднялась на задние лапы -- проверить, не видно ли врагов на
горизонте.
Глаза у медведей маленькие и расположены по бокам головы: далей такими
глазами не охватишь. Вернее зрения и слуха служит им обоняние, но на этот
раз оно медведицу обмануло. Ветер повернул с юга на север и больше не
приносил встревожившего ее противного запаха незнакомых зверей.
Может, ей померещилось?
Медведица удовлетворенно заурчала: тем лучше! Когда с ней беспомощный
детеныш, она предпочитает места без непонятных угроз.
Можно было вернуться в нормальное положение: стать на все четыре лапы.
Но в ту самую минуту, когда она перестала беспокоиться, перед ней как
из-под земли выросли человек с ружьем и собака.
Они были очень близко.
Нарочно зашли против ветра, чтоб их не выдал запах.
Рассчитав, что у добычи нет никакой надежды на спасение, что ружье
наверняка достанет ее, охотник неожиданно появился из-за тороса.
Медведица величаво поднялась на задние лапы.
Теперь, когда она видела, как тщедушны противники, которые стояли перед
ней, ей не было страшно. Да и накопленный опыт подсказывал, что бояться
нечего. Если бы природа наградила ее способностью смеяться, она, вероятно,
захохотала бы на все Заполярье. Только и всего?! Стоило тревожиться из-за
этакой мелюзги!
Медведица смотрела на незнакомцев с большим любопытством и без всякой
враждебности. Ей хотелось подойти поближе, получше разглядеть, на что похожи
эти чудные животные.
Человек? Маленький, укутанный в кожу и меха, он казался ей
ничтожеством. Такого можно повалить одним прикосновением лапы!.. Пес?
Какой-то взъерошенный ублюдок, который зря разоряется: лает, рычит,
бросается вперед, скользит когтями по льду, отскакивает назад. Такому тоже
ничего не стоит легким ударом лапы перебить хребет, вышибить из него дух. В
руках у человека штуцер. Ничего более потешного и жалкого медведица не
видела в полярной пустыне. Палка, хворостинка. Она переломит ее пополам
одним ударом лапы, легко согнет зубами!
Медведица двинулась вперед. Рядом с ней -- медвежонок.
Человек шел ей навстречу. Она шла навстречу ему.
Шла урча, тяжело раскачиваясь на задних лапах. В ее урчании не было
ничего угрожающего. Ее толкало вперед любопытство. Интересно было, подойдя
поближе к этим диковинным, порожденным льдинами существам, узнать, что они
собой представляют. Обнюхать их, потом оглушить, повалить носом в снег:
пусть с ними повозится тогда ее игривый детеныш!
В этот-то миг и произошло чудо. Злое, страшное чудо.
Из тонкой черной трубки, из никчемной на вид хворостинки вырвалось
короткое пламя. Раздался короткий хлопок.
В глаза медведице ударил ослепительный свет. Ее захлестнула жестокая
боль, какой она еще никогда не испытывала.
Потом все померкло...
Снова хлопок, и где-то в глубине уха, за костью, новая страшная боль.
Потом великая тишина, бесчувствие, пустота. Вместе с булькающей кровью
вытекала жизнь....
Медведица рухнула на ледяное ложе и вытянулась без судорог, с обмякшими
лапами.
Она перешла рубеж смерти, не успев понять, что с ней произошло.
Быть может, она унесла с собой удивленный вопрос, который еще несколько
мгновений назад выражали ее любопытные черные глазки. И, может, ужас матери,
осознавшей в последний миг, что ее детеныша может ожидать та же участь.
Человек подошел, держа ружье под мышкой, отдавая собаке короткие
приказания.
Медвежонок зарылся мордой в теплую шерсть, покрывавшую брюхо матери.
Все, что произошло, было недоступно его пониманию.
Когда человек взял его за уши и попытался оторвать от матери,
медвежонок инстинктивно оскалился. Но рука человека бесцеремонно повернула
его. Тонкий ремешок стиснул морду, другой опутал ноги. Рядом с пронзительным
лаем вертелась ощетинившаяся собака. Человек два раза ударил ее: раз ногой и
раз прикладом ружья, чтоб она не искусала, не покалечила детеныша убитой
медведицы. Насчет этого детеныша у него были свои планы.
И действительно, начиная с этой минуты жизнь белого медвежонка
заполнилась множеством неслыханных приключений.
Появились другие закутанные в кожу и меха двуногие звери. От них несло
табаком. Едкий, отвратительный запах. Лица у них были широкие, кожа
желто-зеленая, глаза косые, борода жесткая, как щетина. Говорили и смеялись
они громко.
Их голоса пугали медвежонка.
Люди обступили лежавший в снегу труп медведицы. Достали ножи и ловко
вспороли ей брюхо. Потом содрали шкуру и поделили мясо. А дымящиеся, еще
хранившие тепло жизни потроха бросили собакам.
Связанный ремнями белый медвежонок беспомощно скулил.
Иногда двуногие звери давали ему пинка, катали по снегу, пытались
поднять его, чтобы узнать, много ли он весит.
Один из них, самый торопливый, с трубкой в зубах, из которой шел
вонючий и едкий дым, вынул из-за пояса нож и вытер лезвие о кожаные брюки.
Медвежонок не знал, что в этом лезвии таится смерть. Но на всякий
случай зарычал, показав клыки. Человек засмеялся и плашмя ударил его по
морде ножом.
К нему подошел другой человек, тот самый охотник, который убил
медведицу, и что-то крикнул, размахивая руками. Они шумно и сердито
заспорили. Потом стали торговаться.
Медвежонок, лежавший на спине, со связанными лапами и мордой, следил за
их спором своими маленькими, черными как ежевика глазами, не понимая, чего
они хотят.
Иногда он опускал веки, словно еще надеясь, что все это -- дурной сон,
вроде тех, которые пугали его в темной ледяной берлоге в первый месяц жизни.
Тогда он жалобно скулил просыпаясь и спешил зарыться мордой в теплый мех,
устроиться поближе к источнику теплого молока. Его гладила легкая лапа.
Материнский язык мыл ему глаза и нос. Он чувствовал себя в безопасности:
никакой заботы, никаких угроз.
Теперь дурной, непонятный сон не проходил.
В ушах звучали грубые, злые голоса. Невыносимый смрад не рассеивался.
Шаги скрипели по снегу совсем близко -- это приходили и уходили люди.
Потом его подняли и понесли, продев шест между связанными лапами. Несли
два человека. Другие тащили свернутую в трубку шкуру медведицы. Сани везли
груды мяса. Шли, перебираясь через сугробы и обледенелые горы.
Медвежонок скулил. У него ныли кости. То, что с ним происходило, было
непонятно и потому вдвойне мучительно. Но его жалобы никого не трогали.
Эскимосам такая чувствительность была неизвестна. Белые медведи для них --
самая желанная дичь, подобно тому, как моржи и тюлени -- самая желанная дичь
для белых медведей. Охотник на охоте не руководствуется жалостью, которая
ему совершенно ни к чему: дичь есть дичь! Особенно тут, в ледяных пустынях,
где охота -- не развлечение: туша белого медведя на некоторое время
обеспечивает пищей все племя.
Наконец дошли до стойбища, где было несколько круглых, сложенных из
льда и снега хижин с узким темным входом, который, казалось, вел в
подземелье.
Женщины и дети высыпали навстречу мужчинам. Опираясь на молодых,
притащились сгорбленные, немощные старики. Все бурно выказывали радость:
наконец-то удачная охота! Всю неделю у племени не было свежего мяса.
Питались соленой рыбой. Это было плохо: без свежего мяса немудрено заболеть
цынгой -- бичом страны вечных льдов.
Поэтому в стойбище началось шумное, безудержное веселье.
Медвежонка бросили в угол одной из хижин.
Там он впервые увидел огонь.
Это было лишь слабое, дымное пламя плошки с тюленьим жиром. Но
медвежонку оно показалось чудом, частицей солнца и в то же время напомнило
тот яркий, смертоносный свет, который вырвался из ружья. Потому он завыл и
забился.
Кругом него собрались детеныши человека -- маленькие эскимосы. Так же,
как взрослые, они были одеты в кожу и меха. И лица их были тоже закутаны
песцовыми и заячьими шкурками.
Один из них протянул медвежонку кость. Тот повернул голову. Маленький
человек засмеялся.
Наконец кто-то из ребят сжалился над пленником и развязал ремни.
Медвежонок со стоном подтащился к расстеленной в углу шкуре матери и,
улегшись на нее, стал искать источник теплого молока, искать лизавший его
язык, влажный нос. Но нос оказался сухим. И шкура была холодная. Источник
молока иссяк.
Медвежонок никак не мог понять этого страшного чуда.
Все переменилось.
Неизменным остался лишь запах: знакомый запах громадного, могучего,
доброго существа, возле которого он, медвежонок, всегда находил защиту,
приют и ласку.
Теперь это существо было просто медвежьей шкурой -- одной из самых
красивых шкур, когда-либо украшавших хижину эскимоса.
Медвежонок заскулил и свернулся клубком. Он ждал, что шкура вдруг
оживет и он вновь почувствует ласку легкой лапы, влажный язык промоет его
испуганные, печальные глаза, сосок опять набухнет теплым, вкусным молоком.
Наконец пришел сон. Вокруг плошки с тюленьим жиром заснули все
обитатели ледяной хижины: охотники и женщины, старики и дети.
Из плошки поднимался едкий, удушливый дым...
Усталые люди спали мертвым сном.
Снаружи донесся собачий лай. Но ответить на этот сигнал было уже
некому.
VI. ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И РУЖЬЕ
В ледяных пустынях, где она родилась и прожила всю жизнь, белая
медведица ни разу еще не видела человека.
Она даже не подозревала, что на свете есть такое странное существо.
Она никогда еще не слышала ни собачьего лая, ни ружейного выстрела.
Запахи человека, собаки и пороха были ей неизвестны. Она не знала, что
этих трех заклятых врагов диких зверей связывала неразрывная дружба:
человек, собака и ружье никогда не отказывались от добычи, когда ее могла
достать пуля.
Медведица даже не боялась тоненькой стальной трубки, где в свинцовой
пуле притаилась смерть.
Слишком уж далеко от охотников и ружей протекала до сих пор ее жизнь в
этой самой нехоженой части земного шара.
Пустынность этого края вечных льдов и снегов защищена лютыми морозами и
метелями. Защищена полугодовой ночью и глубоким зеленым океаном.
В те месяцы, когда солнце стояло среди неба, по безбрежным водным
просторам на юг проплывали, как таинственные галеры без парусов, без руля и
без гребцов, ледяные горы -- айсберги.
Потом наступали долгие месяцы полярной ночи, и бескрайние просторы
океана превращались в ледяную равнину: миллионы квадратных километров лежали
под снежным покровом.
Все застывало в белом безмолвии.
Во всех странах, расположенных к югу от этой неприютной пустыни, светит
солнце, реют ласточки, на сочных пастбищах звенят овечьи колокольчики и
резвятся ягнята с кисточками в ушах.
Лютые морозы и ужасы полярной ночи обороняют царство белых медведей,
отгораживают его от остального мира стеной более надежной, чем самая
неприступная крепость.
Туда, за этот рубеж, не проникает ничего из жизни, бьющей ключом южнее,
где изумрудным ковром расстилаются весенние пастбища, где благоухает сирень
и в небе заливаются жаворонки.
Разве что иногда залетят вместе с теплыми ветрами из далеких стран стаи
белых, крикливых птиц.
Птицы машут крыльями с атласным шуршанием.
Они, возможно, видели пароходы, города и порты, церкви с колокольнями и
вокзалы, поезда и телефонные провода, арочные мосты и мчащиеся по
автострадам автомобили, парки с духовыми оркестрами, сады, полные роз,
площади с высокими памятниками и много других чудес, созданных руками
человека. Может быть, они знали, что эти же руки изобрели и другие чудеса,
беспощадные для диких обитателей лесов, степей и вод. Может быть, они даже
слышали выстрелы, знали, что в тонкой стальной трубке их подстерегает
непостижимая, удивительная смерть, которая мгновенно настигнет их, лишь
только приблизится человек и приложит к глазу ружье.
Но птицы не могли рассказать всего этого медведице и ее детенышу.
Их пронзительные крики нарушали застывшую тишину белой пустыни, вещая
что-то на им одним понятном языке.
Потом, когда начинали дуть злые, студеные ветры, предвестники
полугодовой ночи, белые птицы собирались станицами и улетали обратно, туда,
где весной цветет сирень.
Оставались лишь звери, хранившие верность вечным снегам: песцы, которых
не отличишь от сугробов, да зайцы-беляки, которые пускаются наутек от
малейшего шороха льдин. А на скалистые берега островов и на кромку
хрустальных плавучих льдов карабкалась излюбленная добыча белых медведей:
морской теленок -- тюлень и морской конь -- морж.
Они одни ложились черными пятнами на белое покрывало снега.
Кроме них, все было бело...
Белые сугробы, белый лед, белые медведи, белые песцы, белые зайцы,
белые полярные птицы, которые питаются рыбой и не могут далеко летать на
своих коротких крыльях.
Для белой медведицы животный мир этим ограничивался. Других тварей,
спасшихся от потопа в Ноевом ковчеге, она не знала.
Среди них у медведицы не было достойных противников. Одних спасало
бегство. Другие, зайцы, удирали, едва касаясь лапами ледяной глади,
проделывая акробатические прыжки; песцы прижимались к снегу и сливались с
его белизной.
Но песцы и зайцы были чересчур скудной добычей: мясо их не жирное, к
тому же его слишком мало для вместительного медвежьего желудка.
Охотиться стоило только на моржей и тюленей, дававших горы сытного
мяса.
На вид эти звери были очень страшные. Огромные, безобразные, с
блестящей шкурой, они лежали один возле другого на льдинах. Хриплый рев,
усатые, вислоухие морды моржей с загнутыми вниз клыками должны были бы
внушать ужас. Но они не умели по-настоящему драться, а тюлени были
безобиднее сосунка-волчонка. Бегать морские звери тоже не могли -- могли
только протащиться по льду несколько шагов. Защищаться они были неспособны.
Все их таланты сосредоточивались на глубинной рыбной ловле.
Медведица подстерегала их, укрывшись за торосами. Она выбирала добычу,
наваливалась всей своей тяжестью на блестящую громаду жира и мяса и вонзала
клыки в круглую голову. Трещал череп. Остальные звери скатывались в воду и
погружались в пучину.
Борьба этим заканчивалась. Несколько мгновений медведица была
всемогущей в этом снежном крае, где никакой другой наземный или водный зверь
не смел помериться с ней силами.
Там, дальше, командовала другая медведица. Они не ссорились, не
враждовали, не нарушали границ чужих владений. Когда морского зверя
становилось меньше или когда он по неизвестной причине уходил на другое
лежбище, медведицы со своим потомством перебирались на льдину и уплывали к
другому, видневшемуся на горизонте острову.
Льдина бороздила океанские просторы, как корабль без руля и без ветрил,
пока не приставала к другому замерзшему берегу.
Там снова открывалась взору сверкающая пустыня, куда еще не ступала
нога человека. Зато моржей и тюленей было вдоволь.
Путь передвижения белых медведей был отмечен кучами костей.
Их вскоре покрывал снег.
И все это происходило без посторонних свидетелей, между льдом и небом,
между океаном и небом.
Но на том острове, где очутилась наша медведица со своим детенышем, на
снегу виднелись незнакомые ей следы и ветер приносил неведомый, вселявший
тревогу запах. Скрытая угроза висела в воздухе.
Медвежонок свернулся в комок под боком у матери, где, он знал, всегда
тепло и безопасно. Зарылся мордой в ее густую белую шерсть, чуть постукивая
зубами и скуля так тихо, что его нельзя было бы услышать и в трех шагах.
Лай смолк. Ветер рассеял едкий, противный запах... Вновь наступила
обманчивая тишина. Слышался лишь лепет зеленых волн у прибрежных скал и
внизу, у ледяной кромки. Где-то между льдинами сочился ручеек.
Обманутый этой тишиной, медвежонок принялся играть и резвиться, кубарем
скатываясь с сугробов. Но медведица лапой вернула его обратно и уложила
рядом с собой, защищая мордой.
Потом поднялась на задние лапы -- проверить, не видно ли врагов на
горизонте.
Глаза у медведей маленькие и расположены по бокам головы: далей такими
глазами не охватишь. Вернее зрения и слуха служит им обоняние, но на этот
раз оно медведицу обмануло. Ветер повернул с юга на север и больше не
приносил встревожившего ее противного запаха незнакомых зверей.
Может, ей померещилось?
Медведица удовлетворенно заурчала: тем лучше! Когда с ней беспомощный
детеныш, она предпочитает места без непонятных угроз.
Можно было вернуться в нормальное положение: стать на все четыре лапы.
Но в ту самую минуту, когда она перестала беспокоиться, перед ней как
из-под земли выросли человек с ружьем и собака.
Они были очень близко.
Нарочно зашли против ветра, чтоб их не выдал запах.
Рассчитав, что у добычи нет никакой надежды на спасение, что ружье
наверняка достанет ее, охотник неожиданно появился из-за тороса.
Медведица величаво поднялась на задние лапы.
Теперь, когда она видела, как тщедушны противники, которые стояли перед
ней, ей не было страшно. Да и накопленный опыт подсказывал, что бояться
нечего. Если бы природа наградила ее способностью смеяться, она, вероятно,
захохотала бы на все Заполярье. Только и всего?! Стоило тревожиться из-за
этакой мелюзги!
Медведица смотрела на незнакомцев с большим любопытством и без всякой
враждебности. Ей хотелось подойти поближе, получше разглядеть, на что похожи
эти чудные животные.
Человек? Маленький, укутанный в кожу и меха, он казался ей
ничтожеством. Такого можно повалить одним прикосновением лапы!.. Пес?
Какой-то взъерошенный ублюдок, который зря разоряется: лает, рычит,
бросается вперед, скользит когтями по льду, отскакивает назад. Такому тоже
ничего не стоит легким ударом лапы перебить хребет, вышибить из него дух. В
руках у человека штуцер. Ничего более потешного и жалкого медведица не
видела в полярной пустыне. Палка, хворостинка. Она переломит ее пополам
одним ударом лапы, легко согнет зубами!
Медведица двинулась вперед. Рядом с ней -- медвежонок.
Человек шел ей навстречу. Она шла навстречу ему.
Шла урча, тяжело раскачиваясь на задних лапах. В ее урчании не было
ничего угрожающего. Ее толкало вперед любопытство. Интересно было, подойдя
поближе к этим диковинным, порожденным льдинами существам, узнать, что они
собой представляют. Обнюхать их, потом оглушить, повалить носом в снег:
пусть с ними повозится тогда ее игривый детеныш!
В этот-то миг и произошло чудо. Злое, страшное чудо.
Из тонкой черной трубки, из никчемной на вид хворостинки вырвалось
короткое пламя. Раздался короткий хлопок.
В глаза медведице ударил ослепительный свет. Ее захлестнула жестокая
боль, какой она еще никогда не испытывала.
Потом все померкло...
Снова хлопок, и где-то в глубине уха, за костью, новая страшная боль.
Потом великая тишина, бесчувствие, пустота. Вместе с булькающей кровью
вытекала жизнь....
Медведица рухнула на ледяное ложе и вытянулась без судорог, с обмякшими
лапами.
Она перешла рубеж смерти, не успев понять, что с ней произошло.
Быть может, она унесла с собой удивленный вопрос, который еще несколько
мгновений назад выражали ее любопытные черные глазки. И, может, ужас матери,
осознавшей в последний миг, что ее детеныша может ожидать та же участь.
Человек подошел, держа ружье под мышкой, отдавая собаке короткие
приказания.
Медвежонок зарылся мордой в теплую шерсть, покрывавшую брюхо матери.
Все, что произошло, было недоступно его пониманию.
Когда человек взял его за уши и попытался оторвать от матери,
медвежонок инстинктивно оскалился. Но рука человека бесцеремонно повернула
его. Тонкий ремешок стиснул морду, другой опутал ноги. Рядом с пронзительным
лаем вертелась ощетинившаяся собака. Человек два раза ударил ее: раз ногой и
раз прикладом ружья, чтоб она не искусала, не покалечила детеныша убитой
медведицы. Насчет этого детеныша у него были свои планы.
И действительно, начиная с этой минуты жизнь белого медвежонка
заполнилась множеством неслыханных приключений.
Появились другие закутанные в кожу и меха двуногие звери. От них несло
табаком. Едкий, отвратительный запах. Лица у них были широкие, кожа
желто-зеленая, глаза косые, борода жесткая, как щетина. Говорили и смеялись
они громко.
Их голоса пугали медвежонка.
Люди обступили лежавший в снегу труп медведицы. Достали ножи и ловко
вспороли ей брюхо. Потом содрали шкуру и поделили мясо. А дымящиеся, еще
хранившие тепло жизни потроха бросили собакам.
Связанный ремнями белый медвежонок беспомощно скулил.
Иногда двуногие звери давали ему пинка, катали по снегу, пытались
поднять его, чтобы узнать, много ли он весит.
Один из них, самый торопливый, с трубкой в зубах, из которой шел
вонючий и едкий дым, вынул из-за пояса нож и вытер лезвие о кожаные брюки.
Медвежонок не знал, что в этом лезвии таится смерть. Но на всякий
случай зарычал, показав клыки. Человек засмеялся и плашмя ударил его по
морде ножом.
К нему подошел другой человек, тот самый охотник, который убил
медведицу, и что-то крикнул, размахивая руками. Они шумно и сердито
заспорили. Потом стали торговаться.
Медвежонок, лежавший на спине, со связанными лапами и мордой, следил за
их спором своими маленькими, черными как ежевика глазами, не понимая, чего
они хотят.
Иногда он опускал веки, словно еще надеясь, что все это -- дурной сон,
вроде тех, которые пугали его в темной ледяной берлоге в первый месяц жизни.
Тогда он жалобно скулил просыпаясь и спешил зарыться мордой в теплый мех,
устроиться поближе к источнику теплого молока. Его гладила легкая лапа.
Материнский язык мыл ему глаза и нос. Он чувствовал себя в безопасности:
никакой заботы, никаких угроз.
Теперь дурной, непонятный сон не проходил.
В ушах звучали грубые, злые голоса. Невыносимый смрад не рассеивался.
Шаги скрипели по снегу совсем близко -- это приходили и уходили люди.
Потом его подняли и понесли, продев шест между связанными лапами. Несли
два человека. Другие тащили свернутую в трубку шкуру медведицы. Сани везли
груды мяса. Шли, перебираясь через сугробы и обледенелые горы.
Медвежонок скулил. У него ныли кости. То, что с ним происходило, было
непонятно и потому вдвойне мучительно. Но его жалобы никого не трогали.
Эскимосам такая чувствительность была неизвестна. Белые медведи для них --
самая желанная дичь, подобно тому, как моржи и тюлени -- самая желанная дичь
для белых медведей. Охотник на охоте не руководствуется жалостью, которая
ему совершенно ни к чему: дичь есть дичь! Особенно тут, в ледяных пустынях,
где охота -- не развлечение: туша белого медведя на некоторое время
обеспечивает пищей все племя.
Наконец дошли до стойбища, где было несколько круглых, сложенных из
льда и снега хижин с узким темным входом, который, казалось, вел в
подземелье.
Женщины и дети высыпали навстречу мужчинам. Опираясь на молодых,
притащились сгорбленные, немощные старики. Все бурно выказывали радость:
наконец-то удачная охота! Всю неделю у племени не было свежего мяса.
Питались соленой рыбой. Это было плохо: без свежего мяса немудрено заболеть
цынгой -- бичом страны вечных льдов.
Поэтому в стойбище началось шумное, безудержное веселье.
Медвежонка бросили в угол одной из хижин.
Там он впервые увидел огонь.
Это было лишь слабое, дымное пламя плошки с тюленьим жиром. Но
медвежонку оно показалось чудом, частицей солнца и в то же время напомнило
тот яркий, смертоносный свет, который вырвался из ружья. Потому он завыл и
забился.
Кругом него собрались детеныши человека -- маленькие эскимосы. Так же,
как взрослые, они были одеты в кожу и меха. И лица их были тоже закутаны
песцовыми и заячьими шкурками.
Один из них протянул медвежонку кость. Тот повернул голову. Маленький
человек засмеялся.
Наконец кто-то из ребят сжалился над пленником и развязал ремни.
Медвежонок со стоном подтащился к расстеленной в углу шкуре матери и,
улегшись на нее, стал искать источник теплого молока, искать лизавший его
язык, влажный нос. Но нос оказался сухим. И шкура была холодная. Источник
молока иссяк.
Медвежонок никак не мог понять этого страшного чуда.
Все переменилось.
Неизменным остался лишь запах: знакомый запах громадного, могучего,
доброго существа, возле которого он, медвежонок, всегда находил защиту,
приют и ласку.
Теперь это существо было просто медвежьей шкурой -- одной из самых
красивых шкур, когда-либо украшавших хижину эскимоса.
Медвежонок заскулил и свернулся клубком. Он ждал, что шкура вдруг
оживет и он вновь почувствует ласку легкой лапы, влажный язык промоет его
испуганные, печальные глаза, сосок опять набухнет теплым, вкусным молоком.
Наконец пришел сон. Вокруг плошки с тюленьим жиром заснули все
обитатели ледяной хижины: охотники и женщины, старики и дети.
Из плошки поднимался едкий, удушливый дым...
Усталые люди спали мертвым сном.
Снаружи донесся собачий лай. Но ответить на этот сигнал было уже
некому.
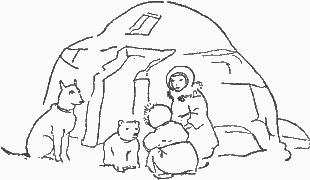 * * *
* * *
 VII. ТЫ БУДЕШЬ НАЗЫВАТЬСЯ "ФРАМ"!
Потом произошли новые события, не менее смутно осознанные медвежонком.
Проснулся он поздно, и уже не в хижине, а в лодке, обтянутой тюленьей
шкурой; на веслах сидели люди, не похожие на вчерашних: с более длинными и
белыми лицами.
Они промышляли китами и тюленями. Прибыв из дальних стран, все лето
кочевали с острова на остров, а теперь собирались домой, потому что скоро
настанет полярная ночь и задует пурга. Перед отплытием они купили у
эскимосов белого медвежонка за несколько связок табака.
Так началась для него новая жизнь.
Но понятия у медвежонка было еще мало.
Лодка плыла по зеленой воде к кораблю, стоявшему на якоре в открытом
море, подальше от льдов. Медвежонок попробовал пошевелиться и ощутил боль в
лапах. Он опять был связан ремнями. За эти ремни и подцепил его крюк, потом
поднял на высокий корабль. Трос раскачивался, и медвежонок больно ударялся
мордой и ребрами о мокрый борт. Напрасно он рычал и дергался. Ему отвечал
лишь хохот людей наверху, на палубе, и внизу, в лодке.
Сначала его так связанным и бросили среди канатов. Потом, когда все
медвежьи и тюленьи шкуры были уже погружены, чья-то рука освободила его от
ремней. Медвежонок хотел было убежать, но рука схватила его за загривок.
Медвежонок оскалился и хотел укусить руку, однако она не ударила его, а
стала гладить. Ласково, нежно. Это было ново, неожиданно и напоминало другую
ласку -- мягкой мохнатой лапы. Но та ласка составляла часть другой жизни,
оставшейся далеко позади, в родных льдах...
Рука сунула ему под нос миску с молоком, налитым из жестяной банки.
Медвежонок не притронулся к нему. Но запах молока щекотал его ноздри, будил
голод.
Когда медвежонок убедился, что на него не смотрят, стал робко лакать.
Сначала еда не понравилась ему, но потом он невольно заурчал от
удовольствия.
Молоко было теплое и слаще материнского, которым он питался до сих пор.
Так медвежонок узнал, что у людей есть и хорошие чудеса.
Молоко он вылакал до дна. Потом поднял благодарные глаза на человека,
который, посасывая трубку, ждал, когда он кончит.
Человек был высокий и худой, бородатый, с голубыми глазами. Он
дружелюбно засмеялся, потом нагнулся и опять погладил медвежонка по спине и
между ушами легкими, ловкими пальцами.
Медвежонок больше не оскалился. И уже не рычал, а издавал довольное
урчание, напоминавшее кошачье мурлыкание.
-- Что я вам говорил?! -- произнес человек, обращаясь к своим
товарищам. -- Через два дня он станет ручнее ягненка и будет ходить за мной
по пятам, как щенок!
-- И тогда ты променяешь его на пять бутылок рома!.. Верно, Ларс? --
засмеялся другой человек, попыхивая трубкой и сплевывая сквозь зубы через
борт.
Тот, которого назвали Ларсом, не ответил. По худому голубоглазому лицу
пробежала тень грусти.
Он знал, что товарищ прав, знал за собой неизлечимое пристрастие к
вину.
Когда-то, в молодости, много лет тому назад, он был другим человеком.
Лицо у него было чистым и гладким, глаза ясными, голос не был сиплым. Ларсу
тогда довелось участвовать в удивительном предприятии -- из тех, что
навсегда оставляют в жизни светлый след.
Один убежденный в своей правоте, отважный молодой человек готовился в
те годы в Норвегии к экспедиции через Ледовитый океан и вечные льды к
Северному полюсу. По собственным чертежам он построил для этой цели корабль
и набрал для него экипаж из молодых, бесстрашных моряков. Потому что
предстоявшее путешествие не было увеселительным рейсом. Немало смельчаков,
стремившихся проникнуть в тайны полярных пустынь, погибло в таких
путешествиях!
Многие, как зловещие вороны, каркали, что и эти тоже погибнут от холода
и голода.
Но молодой светловолосый Нансен только смеялся, слушая такие
предсказания.
В числе моряков, решившихся разделить с ним ужасы вечных льдов и
полярной ночи, находился и Ларс, парень из приютившегося среди фиордов
рыбачьего поселка. Он оставлял дома невесту и больную мать. Но искушение
стать участником рискованной экспедиции в еще неведомые человеку края
оказалось сильнее любви.
Он хорошо помнит то солнечное утро, когда окруженный лодками корабль
экспедиции покачивался в глубоком голубом фиорде.
Ждали тоненькую, высокую женщину, жену Нансена, которая должна была
окрестить корабль.
По обычаю, она разбила о борт бутылку шампанского, окропила корабль
пенистым напитком и произнесла:
-- Ты будешь называться "Фрам"! "Фрам", по-норвежски, означает
"Вперед".
Грянуло ура. Раздались песни. Все с восхищением и верой в успех
смотрели на смелых мореплавателей, которые отправлялись навстречу неведомым
опасностям, а может быть, и смерти.
Стоя в лодке, невеста Ларса махала платочком -- желала жениху
счастливого плавания и благополучного возвращения:
-- "Фрам"! Да здравствует "Фрам"! Удачи "Фраму"!
В течение трех лет на просторах зеленого океана и в ледяных тисках
"Фрам" полностью оправдал свое название.
Он рассекал зеленые пустынные воды, не боясь плавучих льдов. Вперед,
все время вперед!
Для Ларса это была жизнь ни с чем не сравнимая, сплетенная из терпения
и мужества, благородных порывов, борьбы со стихиями и незыблемой веры в
счастливую звезду добрых и великих дел. "Фрам" открыл неведомые до тех пор
земли, на его долю выпало немало опасностей, но он преодолевал преграды и
неизменно выходил победителем.
Через три года, когда корабль вернулся, на всех домах Норвегии реяли
флаги. Во всех глазах искрилась радость достигнутой удачи. Весть о
возвращении "Фрама" мгновенно разнеслась по всему свету.
Имя Нансена, имя "Фрама" были у всех на языке.
Среди тех, кого встречали и чествовали, находился и Ларс, никому не
известный парень из рыбачьего поселка. Его имени никто не упоминал. Велика
беда! Это нисколько не умаляло ни радости успеха, ни преданности Ларса
капитану, который привел их к победе.
Горечь и страдания ждали его по другой причине.
Когда он вернулся к себе домой, никто не вышел ему навстречу, никто не
обнял его.
Невеста и мать спали вечным сном на горе, на приютившемся среди скал
кладбище: Бедный рыбачий поселок был опустошен страшным моровым поветрием.
Никто не позаботился об его обитателях. Никто не послал им ни врачей, ни
лекарств. Люди мерли, как мухи, потому что богачам не было до них дела.
Ларса ждали две могилы, одна возле другой. На них цвели чахлые цветы.
Жизнь парня опустела. Надежды рухнули. У него не хватило сил бороться с
несправедливостями, которые встречались на каждом шагу.
Годы летели. Ларс пристрастился к вину, а когда представился случай,
поступил рядовым матросом на одно из судов, отправлявшихся в Ледовитый океан
на китобойный и тюлений промысел.
От жизни он больше ничего не ждал.
И никто больше не ждал его дома.
Иногда поздней ночью среди собутыльников он ударял кулаком по столу и,
потребовав молчания, принимался вспоминать былые годы.
Одни смеялись, другие молча слушали, качая головой, перебирая в памяти
события собственной жизни и надежды, окрылявшие их молодость, когда они тоже
были сильными и смелыми, чистыми душой и телом.
В жизни каждого человека всегда есть красивые, светлые страницы.
Какой-нибудь выдающийся, хороший поступок, говорящий о мужестве, беззаветной
любви или готовности принести себя в жертву.
Проходят годы. Только бесчувственные люди способны смеяться над такими
воспоминаниями.
В тот день в одной из кают глубоко в недрах корабля Ларс, старый матрос
и пьяница, невесть в который раз принялся рассказывать о былом.
Кто-то играл на гармонике. Другие басисто смеялись, чокались и пили.
В каюте стоял густой табачный дым -- хоть топор вешай. Духота
усугублялась рыбной вонью и вонью звериных шкур.
Захваченный рассказом Ларса, матрос, игравший на гармонике, перестал
играть. Остальные перестали смеяться.
Медвежонок спал, свернувшись калачиком у ног своего нового хозяина.
Иногда он скулил во сне, и Ларс нагибался, чтобы почесать ему голову между
ушей.
Поднялась снежная буря. Судно качалось на зеленых волнах и трещало по
всем швам.
Так когда-то трещал и "Фрам", но это было на других широтах гораздо
выше, гораздо дальше, в полярном океане. Ларс был тогда молод и с
нетерпением ждал возвращения в родной поселок, где он оставил невесту и
мать. Да, и тогда точно так же трещал по швам корабль и свистела пурга.
Ларс оборвал свой рассказ и подпер подбородок кулаками. В глазах его
стояли слезы.
Но вот он встряхнулся и встал:
-- Хватит воспоминаний! Молодости все равно не вернешь! Налейте-ка мне
лучше еще стаканчик!
Он поднял полный стакан и вылил его на медвежонка, произнеся в память
того, другого крещения:
-- Ты будешь называться Фрам! Разбуженный медвежонок испуганно вскочил.
-- Правильно, пусть он зовется Фрамом! -- подхватили матросы. -- Фрам!
Да здравствует Фрам!..
Кличка пристала к белому медвежонку.
С этой кличкой его продали за десять бутылок рома, когда корабль
вернулся, в первом же норвежском порту. Позднее под той же кличкой его
приобрел цирк Струцкого, и она же появилась на первой афише.
В обществе людей медвежонок научился вести себя, чувствовать,
веселиться и печалиться по-человечески. Он выучился акробатике и гимнастике,
научился перебирать лады гармоники, любить детей, играть мячом и радоваться
аплодисментам.
Семь лет подряд путешествовал он со своей кличкой из страны в страну,
из города в город, потешая ребят и вызывая удивление взрослых.
Белый медведь Фрам!.. Фрам, гордость цирка Струцкого!
Эскимосы на своем затертом льдами острове давно позабыли о медвежонке,
обмененном когда-то на несколько связок табака. Корабль, доставивший его из
Заполярья, может быть, затонул или был брошен за негодностью. Старый,
окончательно спившийся матрос Ларс, быть может, давно уже умер. Жизнь шла
вперед, и слава Фрама росла изо дня в день, с каждым новым городом, куда
приезжал цирк. Его опережала передаваемая из уст в уста молва об ученом
белом медведе.
И вдруг теперь, после стольких лет, ни с того, ни с сего Фрам валяется
без дела в своей клетке, в глубине циркового зверинца. Скучный, отупевший,
он сам не понимает, что с ним происходит. Точно так же, как белый медвежонок
когда-то не мог понять, по вине какого стечения обстоятельств он попал к
людям в руки.
Ночью, когда звери в клетках засыпали и видели во сне родину, где они
жили на свободе, все былое оживало и в памяти Фрама. Иногда это было во сне,
но иногда он вспоминал о родных краях и с открытыми глазами. Сон мучительно
переплетался с явью.
Сейчас прошлое вставало перед ним отчетливее, чем когда-либо. Фрам
переживал его заново.
Давно позабыт Ларс, голубоглазый матрос, который первым приласкал
медвежонка и дружески почесал ему за ушами. Такое же забвение поглотило
корабль, где Фрам впервые научился не бояться людей и стал их другом.
На все это давно опустилась тяжелая завеса времени.
Навсегда оторванный от родных льдов, Фрам вырос среди людей, научился
плясать, играть на гармонике, показывать акробатические номера и радоваться
аплодисментам.
И вдруг теперь эти далекие воспоминания, все до одного, ожили до
мельчайших подробностей; ожил даже образ большого кроткого существа, которое
согревало и кормило его в темной ледяной берлоге, когда он был маленьким и
беспомощным медвежонком.
Он закрывал глаза и видел бескрайний зеленый океан.
Видел полыхающее в небе северное сияние.
Видел плавучие льды.
Белый медведь, стоя на задних лапах, подавал ему знак: "Идем с нами,
Фрам!.."
Он даже чувствовал, как ноздри ему покалывает тысячами иголок полярный
мороз.
И тогда Фрам скулил во сне, как скулил когда-то медвежонок, оторванный
от кормившего его соска, над шкурой убитой матери.
Он просыпался весь дрожа, в страхе и безумном смятении.
Вместо чистого, морозного дыхания снегов в нос ему ударял смрад
запертых в клетках зверей, зловоние отбросов, противный запах обезьян.
Он пытался забыть. Поднимался на задние лапы и повторял свой
программный номер. Сбивался. Начинал снова. Потом тяжело падал на все четыре
лапы и растягивался на полу клетки, упершись мордой в самый темный угол. Но
стоило ему закрыть глаза, как опять перед ним расстилался, сверкая под
солнцем, зеленый океан с плавучими льдами, опять белели бескрайние снежные
просторы, прозрачность и светозарность которых нельзя сравнить ни с чем в
мире.
Фрам тосковал о ледяном мире своего детства.
* * *
VII. ТЫ БУДЕШЬ НАЗЫВАТЬСЯ "ФРАМ"!
Потом произошли новые события, не менее смутно осознанные медвежонком.
Проснулся он поздно, и уже не в хижине, а в лодке, обтянутой тюленьей
шкурой; на веслах сидели люди, не похожие на вчерашних: с более длинными и
белыми лицами.
Они промышляли китами и тюленями. Прибыв из дальних стран, все лето
кочевали с острова на остров, а теперь собирались домой, потому что скоро
настанет полярная ночь и задует пурга. Перед отплытием они купили у
эскимосов белого медвежонка за несколько связок табака.
Так началась для него новая жизнь.
Но понятия у медвежонка было еще мало.
Лодка плыла по зеленой воде к кораблю, стоявшему на якоре в открытом
море, подальше от льдов. Медвежонок попробовал пошевелиться и ощутил боль в
лапах. Он опять был связан ремнями. За эти ремни и подцепил его крюк, потом
поднял на высокий корабль. Трос раскачивался, и медвежонок больно ударялся
мордой и ребрами о мокрый борт. Напрасно он рычал и дергался. Ему отвечал
лишь хохот людей наверху, на палубе, и внизу, в лодке.
Сначала его так связанным и бросили среди канатов. Потом, когда все
медвежьи и тюленьи шкуры были уже погружены, чья-то рука освободила его от
ремней. Медвежонок хотел было убежать, но рука схватила его за загривок.
Медвежонок оскалился и хотел укусить руку, однако она не ударила его, а
стала гладить. Ласково, нежно. Это было ново, неожиданно и напоминало другую
ласку -- мягкой мохнатой лапы. Но та ласка составляла часть другой жизни,
оставшейся далеко позади, в родных льдах...
Рука сунула ему под нос миску с молоком, налитым из жестяной банки.
Медвежонок не притронулся к нему. Но запах молока щекотал его ноздри, будил
голод.
Когда медвежонок убедился, что на него не смотрят, стал робко лакать.
Сначала еда не понравилась ему, но потом он невольно заурчал от
удовольствия.
Молоко было теплое и слаще материнского, которым он питался до сих пор.
Так медвежонок узнал, что у людей есть и хорошие чудеса.
Молоко он вылакал до дна. Потом поднял благодарные глаза на человека,
который, посасывая трубку, ждал, когда он кончит.
Человек был высокий и худой, бородатый, с голубыми глазами. Он
дружелюбно засмеялся, потом нагнулся и опять погладил медвежонка по спине и
между ушами легкими, ловкими пальцами.
Медвежонок больше не оскалился. И уже не рычал, а издавал довольное
урчание, напоминавшее кошачье мурлыкание.
-- Что я вам говорил?! -- произнес человек, обращаясь к своим
товарищам. -- Через два дня он станет ручнее ягненка и будет ходить за мной
по пятам, как щенок!
-- И тогда ты променяешь его на пять бутылок рома!.. Верно, Ларс? --
засмеялся другой человек, попыхивая трубкой и сплевывая сквозь зубы через
борт.
Тот, которого назвали Ларсом, не ответил. По худому голубоглазому лицу
пробежала тень грусти.
Он знал, что товарищ прав, знал за собой неизлечимое пристрастие к
вину.
Когда-то, в молодости, много лет тому назад, он был другим человеком.
Лицо у него было чистым и гладким, глаза ясными, голос не был сиплым. Ларсу
тогда довелось участвовать в удивительном предприятии -- из тех, что
навсегда оставляют в жизни светлый след.
Один убежденный в своей правоте, отважный молодой человек готовился в
те годы в Норвегии к экспедиции через Ледовитый океан и вечные льды к
Северному полюсу. По собственным чертежам он построил для этой цели корабль
и набрал для него экипаж из молодых, бесстрашных моряков. Потому что
предстоявшее путешествие не было увеселительным рейсом. Немало смельчаков,
стремившихся проникнуть в тайны полярных пустынь, погибло в таких
путешествиях!
Многие, как зловещие вороны, каркали, что и эти тоже погибнут от холода
и голода.
Но молодой светловолосый Нансен только смеялся, слушая такие
предсказания.
В числе моряков, решившихся разделить с ним ужасы вечных льдов и
полярной ночи, находился и Ларс, парень из приютившегося среди фиордов
рыбачьего поселка. Он оставлял дома невесту и больную мать. Но искушение
стать участником рискованной экспедиции в еще неведомые человеку края
оказалось сильнее любви.
Он хорошо помнит то солнечное утро, когда окруженный лодками корабль
экспедиции покачивался в глубоком голубом фиорде.
Ждали тоненькую, высокую женщину, жену Нансена, которая должна была
окрестить корабль.
По обычаю, она разбила о борт бутылку шампанского, окропила корабль
пенистым напитком и произнесла:
-- Ты будешь называться "Фрам"! "Фрам", по-норвежски, означает
"Вперед".
Грянуло ура. Раздались песни. Все с восхищением и верой в успех
смотрели на смелых мореплавателей, которые отправлялись навстречу неведомым
опасностям, а может быть, и смерти.
Стоя в лодке, невеста Ларса махала платочком -- желала жениху
счастливого плавания и благополучного возвращения:
-- "Фрам"! Да здравствует "Фрам"! Удачи "Фраму"!
В течение трех лет на просторах зеленого океана и в ледяных тисках
"Фрам" полностью оправдал свое название.
Он рассекал зеленые пустынные воды, не боясь плавучих льдов. Вперед,
все время вперед!
Для Ларса это была жизнь ни с чем не сравнимая, сплетенная из терпения
и мужества, благородных порывов, борьбы со стихиями и незыблемой веры в
счастливую звезду добрых и великих дел. "Фрам" открыл неведомые до тех пор
земли, на его долю выпало немало опасностей, но он преодолевал преграды и
неизменно выходил победителем.
Через три года, когда корабль вернулся, на всех домах Норвегии реяли
флаги. Во всех глазах искрилась радость достигнутой удачи. Весть о
возвращении "Фрама" мгновенно разнеслась по всему свету.
Имя Нансена, имя "Фрама" были у всех на языке.
Среди тех, кого встречали и чествовали, находился и Ларс, никому не
известный парень из рыбачьего поселка. Его имени никто не упоминал. Велика
беда! Это нисколько не умаляло ни радости успеха, ни преданности Ларса
капитану, который привел их к победе.
Горечь и страдания ждали его по другой причине.
Когда он вернулся к себе домой, никто не вышел ему навстречу, никто не
обнял его.
Невеста и мать спали вечным сном на горе, на приютившемся среди скал
кладбище: Бедный рыбачий поселок был опустошен страшным моровым поветрием.
Никто не позаботился об его обитателях. Никто не послал им ни врачей, ни
лекарств. Люди мерли, как мухи, потому что богачам не было до них дела.
Ларса ждали две могилы, одна возле другой. На них цвели чахлые цветы.
Жизнь парня опустела. Надежды рухнули. У него не хватило сил бороться с
несправедливостями, которые встречались на каждом шагу.
Годы летели. Ларс пристрастился к вину, а когда представился случай,
поступил рядовым матросом на одно из судов, отправлявшихся в Ледовитый океан
на китобойный и тюлений промысел.
От жизни он больше ничего не ждал.
И никто больше не ждал его дома.
Иногда поздней ночью среди собутыльников он ударял кулаком по столу и,
потребовав молчания, принимался вспоминать былые годы.
Одни смеялись, другие молча слушали, качая головой, перебирая в памяти
события собственной жизни и надежды, окрылявшие их молодость, когда они тоже
были сильными и смелыми, чистыми душой и телом.
В жизни каждого человека всегда есть красивые, светлые страницы.
Какой-нибудь выдающийся, хороший поступок, говорящий о мужестве, беззаветной
любви или готовности принести себя в жертву.
Проходят годы. Только бесчувственные люди способны смеяться над такими
воспоминаниями.
В тот день в одной из кают глубоко в недрах корабля Ларс, старый матрос
и пьяница, невесть в который раз принялся рассказывать о былом.
Кто-то играл на гармонике. Другие басисто смеялись, чокались и пили.
В каюте стоял густой табачный дым -- хоть топор вешай. Духота
усугублялась рыбной вонью и вонью звериных шкур.
Захваченный рассказом Ларса, матрос, игравший на гармонике, перестал
играть. Остальные перестали смеяться.
Медвежонок спал, свернувшись калачиком у ног своего нового хозяина.
Иногда он скулил во сне, и Ларс нагибался, чтобы почесать ему голову между
ушей.
Поднялась снежная буря. Судно качалось на зеленых волнах и трещало по
всем швам.
Так когда-то трещал и "Фрам", но это было на других широтах гораздо
выше, гораздо дальше, в полярном океане. Ларс был тогда молод и с
нетерпением ждал возвращения в родной поселок, где он оставил невесту и
мать. Да, и тогда точно так же трещал по швам корабль и свистела пурга.
Ларс оборвал свой рассказ и подпер подбородок кулаками. В глазах его
стояли слезы.
Но вот он встряхнулся и встал:
-- Хватит воспоминаний! Молодости все равно не вернешь! Налейте-ка мне
лучше еще стаканчик!
Он поднял полный стакан и вылил его на медвежонка, произнеся в память
того, другого крещения:
-- Ты будешь называться Фрам! Разбуженный медвежонок испуганно вскочил.
-- Правильно, пусть он зовется Фрамом! -- подхватили матросы. -- Фрам!
Да здравствует Фрам!..
Кличка пристала к белому медвежонку.
С этой кличкой его продали за десять бутылок рома, когда корабль
вернулся, в первом же норвежском порту. Позднее под той же кличкой его
приобрел цирк Струцкого, и она же появилась на первой афише.
В обществе людей медвежонок научился вести себя, чувствовать,
веселиться и печалиться по-человечески. Он выучился акробатике и гимнастике,
научился перебирать лады гармоники, любить детей, играть мячом и радоваться
аплодисментам.
Семь лет подряд путешествовал он со своей кличкой из страны в страну,
из города в город, потешая ребят и вызывая удивление взрослых.
Белый медведь Фрам!.. Фрам, гордость цирка Струцкого!
Эскимосы на своем затертом льдами острове давно позабыли о медвежонке,
обмененном когда-то на несколько связок табака. Корабль, доставивший его из
Заполярья, может быть, затонул или был брошен за негодностью. Старый,
окончательно спившийся матрос Ларс, быть может, давно уже умер. Жизнь шла
вперед, и слава Фрама росла изо дня в день, с каждым новым городом, куда
приезжал цирк. Его опережала передаваемая из уст в уста молва об ученом
белом медведе.
И вдруг теперь, после стольких лет, ни с того, ни с сего Фрам валяется
без дела в своей клетке, в глубине циркового зверинца. Скучный, отупевший,
он сам не понимает, что с ним происходит. Точно так же, как белый медвежонок
когда-то не мог понять, по вине какого стечения обстоятельств он попал к
людям в руки.
Ночью, когда звери в клетках засыпали и видели во сне родину, где они
жили на свободе, все былое оживало и в памяти Фрама. Иногда это было во сне,
но иногда он вспоминал о родных краях и с открытыми глазами. Сон мучительно
переплетался с явью.
Сейчас прошлое вставало перед ним отчетливее, чем когда-либо. Фрам
переживал его заново.
Давно позабыт Ларс, голубоглазый матрос, который первым приласкал
медвежонка и дружески почесал ему за ушами. Такое же забвение поглотило
корабль, где Фрам впервые научился не бояться людей и стал их другом.
На все это давно опустилась тяжелая завеса времени.
Навсегда оторванный от родных льдов, Фрам вырос среди людей, научился
плясать, играть на гармонике, показывать акробатические номера и радоваться
аплодисментам.
И вдруг теперь эти далекие воспоминания, все до одного, ожили до
мельчайших подробностей; ожил даже образ большого кроткого существа, которое
согревало и кормило его в темной ледяной берлоге, когда он был маленьким и
беспомощным медвежонком.
Он закрывал глаза и видел бескрайний зеленый океан.
Видел полыхающее в небе северное сияние.
Видел плавучие льды.
Белый медведь, стоя на задних лапах, подавал ему знак: "Идем с нами,
Фрам!.."
Он даже чувствовал, как ноздри ему покалывает тысячами иголок полярный
мороз.
И тогда Фрам скулил во сне, как скулил когда-то медвежонок, оторванный
от кормившего его соска, над шкурой убитой матери.
Он просыпался весь дрожа, в страхе и безумном смятении.
Вместо чистого, морозного дыхания снегов в нос ему ударял смрад
запертых в клетках зверей, зловоние отбросов, противный запах обезьян.
Он пытался забыть. Поднимался на задние лапы и повторял свой
программный номер. Сбивался. Начинал снова. Потом тяжело падал на все четыре
лапы и растягивался на полу клетки, упершись мордой в самый темный угол. Но
стоило ему закрыть глаза, как опять перед ним расстилался, сверкая под
солнцем, зеленый океан с плавучими льдами, опять белели бескрайние снежные
просторы, прозрачность и светозарность которых нельзя сравнить ни с чем в
мире.
Фрам тосковал о ледяном мире своего детства.
* * *
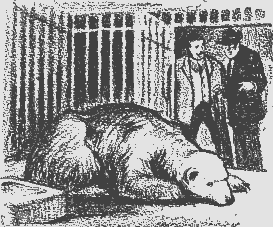 VIII. НАЗАД К ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ
В городе, где давал представления цирк, жил старый человек, написавший
когда-то несколько книг о медведях. Теперь он ходил с трудом, опираясь на
палку, вечно кашлял и носил толстые, выпуклые очки, без которых из-за
близорукости ничего не видел. Руки у него сильно тряслись.
Старик жил один, со своими собаками и кошками. У него не было
голубоглазой внучки, как у пенсионера-учителя в том, другом городе, где Фрам
вызвал такое волнение на прощальном представлении. У него не было семьи. Да
и вообще у него никого не было.
В молодости он был одним из самых знаменитых в мире охотников и
объездил много стран в поисках редкостных и опасных зверей. Он гордился тем,
что ни разу не упустил добычи, не потратил зря ни одной пули. Его
справедливо считали одним из самых опытных медвежатников.
В доме у него до сих пор было много шкур убитых им животных. Одни
лежали на полу, у кровати, другие были развешены по стенам, третьи покрывали
диваны.
Были тут шкуры рыжих медведей, так называемых гризли, которые живут в
скалистых горах Северной Америки и отличаются необыкновенной свирепостью:
горе тому, кто попадется им в лапы! Были шкуры карликовых медведей, с кота
величиной, которые живут в Индонезии, на островах Суматра и Ява; шкуры бурых
карпатских медведей, которые любят прятаться в пещерах и лакомиться медом:
случается, что они даже уносят с пчельника целые ульи; шкуры белых медведей
Аляски, Сибири, Гренландии или тех островов, где был пойман Фрам; шкуры
черных медведей, которые живут в Пиринеях и карабкаются по елям, как
обезьяны.
В течение многих лет медведь представлял для него лишь редкостную,
страшную в гневе добычу, на которой стоило проверить зоркость глаза,
меткость прицела.
Так было до тех пор, пока однажды охотнику не довелось застрелить в
далеких лесах Канады рыжую медведицу.
Он преследовал медведицу целое утро, побившись об заклад с товарищем по
охоте, что уложит ее одним выстрелом. Пари он выиграл. Зверь рухнул от
первой пули.
Но перед тем, как испустить дух, медведица привлекла к себе лапой
медвежонка, пытаясь даже в смертный час защитить его грудью.
Медвежонок был совсем маленький, всего нескольких недель. У него только
что открылись глаза. Он нетвердо стоял на лапах, жалобно скулил и не давал
оторвать себя от убитой матери.
Охотник взял его к себе и начал кормить. Сначала медвежонок не
притрагивался ни к молоку, ни к меду, ни к фруктовому сиропу. Он искал
тепла, точно так же, как Фрам, который все ждал в хижине эскимосов чуда: не
оживет ли шкура матери, не приласкает ли его ее мертвая лапа.
Медвежонок жил у охотника до тех пор, пока тот не выпустил его обратно
в лесную чащу и не уехал из Канады. Продолжая свои скитания, этот человек
принялся изучать жизнь, привычки медведей и написал о них несколько книг, в
которых были подробно описаны повадки медведей всех видов и их различия.
Занятиям этим положила предел старость, превратившая бывшего охотника в
того немощного, полуслепого, опирающегося на палку господина, который
однажды утром вошел в зверинец цирка Струцкого и остановился перед клеткой
Фрама.
Сопровождавший его директор рассказал о том, что произошло с ее
обитателем:
-- Вот уже третий раз меня таким образом подводят белые медведи!
Несколько лет они ведут себя, как самые умные ручные звери. Заучив номер,
они не нуждаются в дрессировщике: выходят на арену одни. А потом без всякой
видимой причины вдруг глупеют. Начисто все забывают. Ничего больше не
понимают. Лежат в клетке и чахнут. Преодолеть их упрямство невозможно. На
моей практике это третий случай. О первых двух медведях я не очень
сокрушался. Потеря была небольшая. Это были обыкновенные, ничем особенным не
отличавшиеся белые медведи. Не умнее и не глупее остальных... Совсем другое
дело Фрам. Фрам был замечательным, не знавшим себе равного артистом! Могу
побиться об заклад, что он изучил вкусы публики в разных странах, даже в
разных городах одной и той же страны, и умел к ним приспособиться:
чувствовал, что кому нравится. Когда наступал его черед в программе, я
бросал все дела и следил за ним из-за кулис с неменьшим любопытством и
восхищением, чем зрители. Никогда нельзя было предвидеть, что он экспромтом
выдумает. Я даже ставил его в пример клоунам: "Смотрите на него и учитесь!
-- говорил я им. -- По-моему, он знает публику лучше вас". А теперь сами
видите: уткнулся мордой в угол и превратился в самого обыкновенного медведя.
Никогда больше, сколько бы я ни прожил, не найти мне второго такого
артиста...
Опираясь на палку, бывший охотник долго глядел на белого медведя
близорукими глазами, потом просунул сквозь решетку слабую, дрожащую руку и
тихонько позвал:
-- Фрам, а Фрам! Скажи, что с тобой приключилось? Почему ты такой
скучный? Эх ты, чудила!
Фрам даже не повернул голову -- только еще глубже втиснулся в свой
угол, упершись носом в деревянную перегородку. Старик, убивший на своем веку
десятки медведей, а потом писавший о них с такой любовью, протер очки и
откашлялся.
-- Вы его очень любили? -- задал он директору неожиданный вопрос.
-- Я делец, -- ответил тот. -- Нежные чувства для директора цирка --
ненужная роскошь, от них одни убытки. Хорошим артистам, которые привлекают
публику и увеличивают сбор, я плачу щедро. Зато и заставляю их работать до
седьмого пота. Животным в зверинце я обеспечиваю хороший уход и сытный корм,
потому что публике нравятся красивые, гладкие звери, а не обтянутые кожей
скелеты...
-- Значит, для вас все сводится к чистогану?
-- Именно... До остального мне нет дела.
-- Понятно. Тогда я поставлю вопрос иначе. Много ли денег принес вам
Фрам?
-- Грех сказать, что мало! -- признался директор. -- Семь лет сряду он
был нашим главным аттракционом. Без него не обходилось ни одной программы.
Стоило ему появиться на афише, как все билеты немедленно распродавались.
Народ валом валил в цирк.
-- Значит, вы у него в долгу?
-- Несомненно. Я бы дорого дал, чтоб снова увидеть его таким, каким он
был.
Старик рассмеялся, ковыряя палкой землю.
-- Вы меня не так поняли! Речь не о том, сколько бы вы дали, чтобы
вернуть прежнего Фрама. Это не значит сделать что-нибудь для него. Вы
сделали бы это для себя, для цирка. То есть опять-таки ради наживы. Вы
готовы заплатить за то, чтобы Фрам снова стал любимцем публики и снова начал
приносить вам доход. Насколько мне известно из жизни медведей, этого
случиться не может. Я спрашиваю вас, согласились бы вы истратить известную
сумму без всякой пользы для цирка, ради самого Фрама? В память его прежних
заслуг? Согласны ли вы понести такой расход?
-- Согласен! -- тихо ответил директор. -- Фрам этого действительно
заслужил. Конечно, если деньги могут ему помочь... Чему я лично не верю...
-- Вы сейчас поверите! -- улыбнулся бывший медвежатник. -- У Фрама
просто тоска по родине. Больше ничего! Его потянуло к родным льдам и снегам.
В нем проснулось прежнее, забытое. Вы изъявили готовность пожертвовать на
него некоторую сумму. По-моему, вы должны отправить его обратно на Север.
Директор цирка Струцкого посмотрел на старого господина с недоверием.
Ему показалось, что тот разыгрывает его, высказывая такую сумасбродную
мысль:
-- Не вижу, как это можно сделать. Купить ему железнодорожный билет?
Бывший охотник досадливо пожал плечами:
-- Вы прекрасно знаете, что я имел в виду не это! Я вовсе не шучу.
Существует очень простой способ послать Фрама обратно. Правда, дорогой...
Зато очень простой. Теперь в Ледовитый океан уходят ежегодно сотни
пароходов. Отправьте его на одном из них. Доверьте вашего Фрама под честное
слово. Его доставят на какой-нибудь остров, а там выпустят на свободу. И
делу конец!.. Или, вернее, не конец, а начало -- настоящая история Фрама
только начинается. Если бы не годы и болезни, я бы сам вызвался его отвезти.
Хотя бы только для того, чтобы взглянуть, что он там будет делать, как будет
чувствовать себя среди родных льдов... Это было бы новой главой в моих
книгах, которой суждено остаться недописанной, одним из интереснейших
экспериментов!
Директор задумался, подсчитывая в уме, во сколько это может обойтись.
Он знал, что стоит такое путешествие, но в то же время понимал, что такой
поступок был бы своего рода рекламой для цирка. Как ловкому дельцу, ему
пришло в голову дать несколько представлений с надбавкой на билеты и открыть
подписной лист в пользу Фрама. Сам он в убытке не будет!
-- Я это сделаю! -- твердо сказал директор. -- Сколько бы мне ни
стоило.
-- В таком случае дайте мне пожать вашу руку! -- обрадовался старый
охотник на медведей, ставший их защитником, не подозревая, какие тайные
расчеты руководят директором. -- Вы доставили мне большое удовольствие.
Он повернулся к Фраму и помахал ему дрожащей рукой:
-- Господин Фрам, вам, мне кажется, пора собираться в дорогу. Знаю, что
у вас нет ни чемодана, ни зубной щетки. Но это не беда! Желаю вам снова
стать диким и свободным зверем, как все белые медведи... Наслаждаться
льдами, ветрами, пургой, полярным солнцем, северным сиянием... Найти себе
подходящую медведицу и стать отцом семейства честных белых медведей, которое
будет украшением вашего племени!
Фрам медленно поднял лежавшую не лапах морду и повел маленькими
грустными глазами на незнакомого доброго и веселого, хотя и чересчур,
пожалуй, разговорчивого старика.
Он, казалось, понимал, о чем речь.
-- Ну-с, милостивый государь, вы не собираетесь меня поблагодарить? --
спросил бывший медвежатник. -- Не ожидал я этого от вас!
Фрам поднялся на задние лапы и смешно отдал честь, приложив к голове
лапу: так он обычно отвечал публике на аплодисменты.
-- Вот это другое дело! Только смотрите, не забудьте оставить все эти
церемонии нам, людям. В ледяных пустынях с ними далеко не уедешь, там
отдавать честь по нашей моде не полагается! А теперь до свидания!
Счастливого пути!
Фрам козырнул еще раз.
Потом опустился на четыре лапы, снова забился в свой угол и, уткнувшись
мордой в перегородку, с закрытыми глазами принялся мечтать о ледяных горах,
которые плывут по зеленому океану, как таинственные галеры без парусов, без
руля и без гребцов.
Он остался в одиночестве.
Но директор цирка сдержал слово. Напечатал афиши. Дал несколько
представлений в пользу Фрама. Открыл подписной лист. Собрал больше денег,
чем было нужно... Потом сел писать письма и отправил несколько телеграмм.
Через две недели пришел желанный ответ.
В одном иностранном порту работала крупная фирма, платившая большие
деньги охотникам разных стран за поимку диких зверей, птиц и пресмыкающихся
для цирков, зверинцев и зоопарков. Директор этой фирмы предложил свои
услуги, чтобы отправить Фрама на родину.
Вскоре в Заполярье должен был отплыть пароход с экскурсантами. На его
борту будут находиться и два опытных охотника, которым поручено фирмой
доставить белых медвежат для европейских цирков, зверинцев и зоопарков. Так
что путешествие Фрама почти ничего не будет стоить.
Новость мгновенно распространилась по цирку и произвела сенсацию.
В день отъезда Фрама клоуны и гимнасты, акробаты и наездники -- все
пришли прощаться с белым медведем.
Одни ласкали его, другие угощали любимыми фруктами, конфетами и
сиропом.
Дольше всех у его клетки задержался глупый Августин.
На этот раз у него не было ни носа в виде спелого помидора, ни
кирпичного цвета парика, который он ерошил, вызывая хохот галерки.
Дело было утром. До представления оставалось еще много времени, и
поэтому глупый Августин еще не был одет и загримирован паяцем. В общем, в
этот час он выглядел самым обыкновенным человеком. Бедно одетым, с усталым
лицом и грустными глазами. Таким был он в настоящей жизни: без фрака с
фалдами до пят, без длинных, как лыжи, ботинок, кирпичного парика и смешного
носа.
Это был старый, больной, одинокий клоун, знавший, что ему придется
кончать жизнь в больнице или в богадельне.
Так же, как Фрам, он чувствовал себя очень усталым.
Ему надоело паясничать, проделывать сальто-мортале и гримасничать для
развлечения галерки. Но другого выхода не было: нужно было смеяться, строить
рожи, получать удары доской по голове, затрещины и пинки, потому что только
такой ценой можно было заработать кусок хлеба. Иначе директор, с которым
звери не могли сравниться в жестокости, беспощадно выкинул бы его на улицу.
Теперь старый, больной клоун пришел проститься с Фрамом.
Семь лет они не расставались, скитаясь с цирком из города в город, из
страны в страну. Наградой им были аплодисменты и симпатии публики.
И вот теперь судьба разлучала их.
Она оказалась милостивее к медведю, которого ждала свобода, и
беспощаднее к человеку, который из-за куска хлеба был связан до самой смерти
с цирком.
Глупый Августин вошел в клетку.
Фрам посмотрел на него своими добрыми, кроткими глазами. Эти двое были
старыми друзьями. Медведь, казалось, понимал, какой ценой доставался паяцу
насущный хлеб и чего ему стоило развлекать изо дня в день публику.
-- Значит, едешь? -- спросил клоун, ероша Фраму шерсть. Ответить
медведь не мог.
Впрочем, он и не знал, что уезжает. Не знал, какой сюрприз приготовил
ему старый охотник.
Ему казалось удивительным, что сегодня все заходят к нему, гладят его,
балуют сластями. Эти проявления любви были для него непонятны. Он чувствовал
только, что готовится нечто необычное. Волнение людей заразило его, но
медвежий разум не мог объяснить причины происходящего.
-- Значит, едешь? -- повторил свой вопрос глупый Августин. -- Завидую
тебе, дружище Фрам! Мне будет скучно. Цирк без тебя опустеет. Ты был
славным, порядочным медведем, куда порядочнее нашего директора, жадного
зверя в человеческом обличье!..
Паяц зарыл старое, морщинистое лицо в косматую шкуру белого медведя.
Фрам дружески чуть тронул его лапой, словно догадался, как горько
приходится клоуну.
Тот отпрянул от него, почувствовав, что вот-вот расплачется. Ему не
хотелось, чтоб его видели другие: чего доброго еще поднимут на смех: глупый
Августин плачет! Он открыл решетчатую дверцу клетки и убежал, махнув через
плечо рукой:
-- Счастливого пути, Фрам! Счастливого пути!
В тот же день Фрама погрузили в вагон, прицепленный в хвосте поезда.
Его сопровождал приставленный к нему человек.
День, ночь и еще день мчался поезд по разным странам и к вечеру на
вторые сутки прибыл в порт, откуда должен был отправиться в Ледовитый океан
пароход с охотниками.
Фрама вовсе не утомила смена видов, городов и людей: он был опытным
путешественником.
Он привык переезжать из страны в страну, слышать вокруг себя разные
языки, видеть по-разному одетых людей. На его пути попадались города, где
еще виднелись на стенах старые, забытые, поблекшие от дождей и солнца афиши
с его изображением и подписью большими буквами: "ФРАМ, БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ".
Фрам почувствовал, что с ним происходит нечто необычное, чего раньше не
бывало, лишь тогда, когда пароход отвалил от причала.
Фрам царапал когтями дверь каюты, не притронулся к предложенной еде, не
стал даже пить и вообще проявлял признаки крайнего беспокойства.
Хлюпанье воды у бортов напомнило ему что-то очень давнее, очень
далекое.
Да, все это было похоже на то первое путешествие по океану, с Ларсом,
моряком с голубыми глазами и пристрастием к алкоголю, который привез его в
теплые края и продал за десять бутылок рома.
Среди пассажиров, участников экскурсии в Заполярье, быстро
распространился слух о том, что на пароходе находится дрессированный белый
медведь, знаменитый Фрам из цирка Струцкого, которого отправляют обратно в
страну вечных льдов, потому что он затосковал и не желает больше выступать
на арене.
К Фраму стали приходить, ему приносили булки и конфеты, фрукты и
напитки. Нашлись люди, которые когда-то видели его в цирке, аплодировали ему
и прекрасно помнили, как он опорожнял бутылки с пивом, играл на гармонике и
раздавал детям конфеты.
Они удивлялись, что теперь его не соблазняют ни конфеты, ни фрукты, ни
бутылки.
-- Может, ему здесь просто скучно! -- сказала одна молодая женщина. --
Смотрите, какой он грустный! Когда я видела его в цирке, это был самый
веселый медведь на свете. Настоящий буффон! Я смеялась до слез... Давайте
поговорим с капитаном. С ним, кажется, можно столковаться. Пусть позволит
выпускать Фрама на палубу... Держу пари, что он будет любоваться морем и
радоваться ему, как человек...
Молодая женщина была добрая и одними словами не ограничилась, а пошла к
капитану и убедила его.
Фраму открыли дверь, и он получил возможность свободно прогуливаться по
палубе вместе с пассажирами.
Белый медведь и в самом деле повел себя, как человек.
Поднявшись на задние лапы, он оперся о фальшборт и долго стоял,
устремив взгляд в морские дали, на север, где за горизонтом простирались
вечные льды и снега.
Потом точно так же, как другие пассажиры, принялся расхаживать по
палубе в поисках других развлечений. Его окружили любопытные. Дети
протягивали ему кто мячик, кто корзиночку с конфетами. Фрам забавлялся,
подбрасывая мячик, открывал корзиночку и раздавал детворе сласти. К вечеру
он стал всеобщим другом.
Но время от времени он подходил к фальшборту, вглядывался в дали и
тянул носом соленый воздух.
Когда стемнело, он сам вернулся в каюту.
-- А что я вам говорила?! -- торжествовала молодая женщина с добрым
сердцем. -- Это же необыкновенный зверь! На месте капитана, я завела бы на
пароходе постоянного медведя. Лучшее развлечение для пассажиров!
На четвертые сутки цвет моря изменился -- стал холодно зеленым, ветер
приносил суровое дыхание Севера. Яснее, светлее стали ночи.
Фрам перестал забавляться, бросая и ловя мячик. Он не отходил теперь от
фальшборта: неподвижно стоял на задних лапах и вдыхал, раздувая ноздри,
студеный ветер, такой для него родной и знакомый.
Однажды утром он увидел на горизонте первые айсберги.
Параход замедлил ход, осторожно обходя плавучие ледяные горы.
Фрам жадно наполнял легкие влажным соленым воздухом.
В тот вечер он не вернулся в свою запрятанную в недрах парохода каюту,
а всю ночь простоял как завороженный, у фальшборта, устремив взор в синие
дали.
Чья-то рука легла на его шкуру. Он даже не слышал шагов.
Это оказалась молодая женщина с добрым сердцем. Она куталась в теплую
шубу. Ей тоже не спалось. Это было ее первое путешествие в край полярных
льдов.
Узнав, что утром охотники, которым был поручен Фрам, собираются
выпустить его на остров, она оделась и вышла на палубу -- посмотреть, что
делает ее белый медведь.
-- Итак, друг Фрам, ты нас покидаешь? -- прошептала женщина. -- И ни о
чем не будешь жалеть? Не будешь тосковать по нашему миру? Тебе не будет
скучно одному, без людей, в холодной пустыне?..
Ее рука гладила белую, влажную от соленого морского ветра шкуру.
Фрам повернул голову и посмотрел своими кроткими глазами на это доброе
существо, которого он с завтрашнего дня уже больше никогда не увидит.
Медведь, казалось, понимал ее вопросы и даже знал, какими словами ответил бы
ей, если бы природа наделила его даром слова. Он легонько обнял ее за плечи
согнутой лапой, как делал это когда-то со своими друзьями в цирке.
Женщина негромко вскрикнула. Испугалась. В голове молнией мелькнула
мысль, что Фрам все же зверь. Она уже упрекнула себя за то, что так
необдуманно поступила -- вышла ночью одна на палубу, где не было ни души, и
приблизилась к нему.
Но в тот же миг объятие Фрама разжалось. В его глазах сверкнуло что-то,
похожее на упрек. Словно ему хотелось сказать: "Чего ж ты испугалась?
Неужели все еще не веришь, что я ручной медведь и никогда не причиню зла
человеку?"
Женщина зябко поежилась. Шубка плохо защищала ее от ночного холода. Она
помахала затянутой в перчатку рукой:
-- Покойной ночи, Фрам!.. Иди, ложись. Для тебя с завтрашнего дня
начнется новая жизнь. Не очень-то легко тебе будет, потому что ты привык к
другому!
Фрам остался один. Синяя ночь была непохожа на те ночи, к которым
привыкли пассажиры: в ней еще держался окутанный дымкой солнечный свет.
Пароход приближался к тем широтам, где день сливается с ночью и сутки равны
году.
VIII. НАЗАД К ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ
В городе, где давал представления цирк, жил старый человек, написавший
когда-то несколько книг о медведях. Теперь он ходил с трудом, опираясь на
палку, вечно кашлял и носил толстые, выпуклые очки, без которых из-за
близорукости ничего не видел. Руки у него сильно тряслись.
Старик жил один, со своими собаками и кошками. У него не было
голубоглазой внучки, как у пенсионера-учителя в том, другом городе, где Фрам
вызвал такое волнение на прощальном представлении. У него не было семьи. Да
и вообще у него никого не было.
В молодости он был одним из самых знаменитых в мире охотников и
объездил много стран в поисках редкостных и опасных зверей. Он гордился тем,
что ни разу не упустил добычи, не потратил зря ни одной пули. Его
справедливо считали одним из самых опытных медвежатников.
В доме у него до сих пор было много шкур убитых им животных. Одни
лежали на полу, у кровати, другие были развешены по стенам, третьи покрывали
диваны.
Были тут шкуры рыжих медведей, так называемых гризли, которые живут в
скалистых горах Северной Америки и отличаются необыкновенной свирепостью:
горе тому, кто попадется им в лапы! Были шкуры карликовых медведей, с кота
величиной, которые живут в Индонезии, на островах Суматра и Ява; шкуры бурых
карпатских медведей, которые любят прятаться в пещерах и лакомиться медом:
случается, что они даже уносят с пчельника целые ульи; шкуры белых медведей
Аляски, Сибири, Гренландии или тех островов, где был пойман Фрам; шкуры
черных медведей, которые живут в Пиринеях и карабкаются по елям, как
обезьяны.
В течение многих лет медведь представлял для него лишь редкостную,
страшную в гневе добычу, на которой стоило проверить зоркость глаза,
меткость прицела.
Так было до тех пор, пока однажды охотнику не довелось застрелить в
далеких лесах Канады рыжую медведицу.
Он преследовал медведицу целое утро, побившись об заклад с товарищем по
охоте, что уложит ее одним выстрелом. Пари он выиграл. Зверь рухнул от
первой пули.
Но перед тем, как испустить дух, медведица привлекла к себе лапой
медвежонка, пытаясь даже в смертный час защитить его грудью.
Медвежонок был совсем маленький, всего нескольких недель. У него только
что открылись глаза. Он нетвердо стоял на лапах, жалобно скулил и не давал
оторвать себя от убитой матери.
Охотник взял его к себе и начал кормить. Сначала медвежонок не
притрагивался ни к молоку, ни к меду, ни к фруктовому сиропу. Он искал
тепла, точно так же, как Фрам, который все ждал в хижине эскимосов чуда: не
оживет ли шкура матери, не приласкает ли его ее мертвая лапа.
Медвежонок жил у охотника до тех пор, пока тот не выпустил его обратно
в лесную чащу и не уехал из Канады. Продолжая свои скитания, этот человек
принялся изучать жизнь, привычки медведей и написал о них несколько книг, в
которых были подробно описаны повадки медведей всех видов и их различия.
Занятиям этим положила предел старость, превратившая бывшего охотника в
того немощного, полуслепого, опирающегося на палку господина, который
однажды утром вошел в зверинец цирка Струцкого и остановился перед клеткой
Фрама.
Сопровождавший его директор рассказал о том, что произошло с ее
обитателем:
-- Вот уже третий раз меня таким образом подводят белые медведи!
Несколько лет они ведут себя, как самые умные ручные звери. Заучив номер,
они не нуждаются в дрессировщике: выходят на арену одни. А потом без всякой
видимой причины вдруг глупеют. Начисто все забывают. Ничего больше не
понимают. Лежат в клетке и чахнут. Преодолеть их упрямство невозможно. На
моей практике это третий случай. О первых двух медведях я не очень
сокрушался. Потеря была небольшая. Это были обыкновенные, ничем особенным не
отличавшиеся белые медведи. Не умнее и не глупее остальных... Совсем другое
дело Фрам. Фрам был замечательным, не знавшим себе равного артистом! Могу
побиться об заклад, что он изучил вкусы публики в разных странах, даже в
разных городах одной и той же страны, и умел к ним приспособиться:
чувствовал, что кому нравится. Когда наступал его черед в программе, я
бросал все дела и следил за ним из-за кулис с неменьшим любопытством и
восхищением, чем зрители. Никогда нельзя было предвидеть, что он экспромтом
выдумает. Я даже ставил его в пример клоунам: "Смотрите на него и учитесь!
-- говорил я им. -- По-моему, он знает публику лучше вас". А теперь сами
видите: уткнулся мордой в угол и превратился в самого обыкновенного медведя.
Никогда больше, сколько бы я ни прожил, не найти мне второго такого
артиста...
Опираясь на палку, бывший охотник долго глядел на белого медведя
близорукими глазами, потом просунул сквозь решетку слабую, дрожащую руку и
тихонько позвал:
-- Фрам, а Фрам! Скажи, что с тобой приключилось? Почему ты такой
скучный? Эх ты, чудила!
Фрам даже не повернул голову -- только еще глубже втиснулся в свой
угол, упершись носом в деревянную перегородку. Старик, убивший на своем веку
десятки медведей, а потом писавший о них с такой любовью, протер очки и
откашлялся.
-- Вы его очень любили? -- задал он директору неожиданный вопрос.
-- Я делец, -- ответил тот. -- Нежные чувства для директора цирка --
ненужная роскошь, от них одни убытки. Хорошим артистам, которые привлекают
публику и увеличивают сбор, я плачу щедро. Зато и заставляю их работать до
седьмого пота. Животным в зверинце я обеспечиваю хороший уход и сытный корм,
потому что публике нравятся красивые, гладкие звери, а не обтянутые кожей
скелеты...
-- Значит, для вас все сводится к чистогану?
-- Именно... До остального мне нет дела.
-- Понятно. Тогда я поставлю вопрос иначе. Много ли денег принес вам
Фрам?
-- Грех сказать, что мало! -- признался директор. -- Семь лет сряду он
был нашим главным аттракционом. Без него не обходилось ни одной программы.
Стоило ему появиться на афише, как все билеты немедленно распродавались.
Народ валом валил в цирк.
-- Значит, вы у него в долгу?
-- Несомненно. Я бы дорого дал, чтоб снова увидеть его таким, каким он
был.
Старик рассмеялся, ковыряя палкой землю.
-- Вы меня не так поняли! Речь не о том, сколько бы вы дали, чтобы
вернуть прежнего Фрама. Это не значит сделать что-нибудь для него. Вы
сделали бы это для себя, для цирка. То есть опять-таки ради наживы. Вы
готовы заплатить за то, чтобы Фрам снова стал любимцем публики и снова начал
приносить вам доход. Насколько мне известно из жизни медведей, этого
случиться не может. Я спрашиваю вас, согласились бы вы истратить известную
сумму без всякой пользы для цирка, ради самого Фрама? В память его прежних
заслуг? Согласны ли вы понести такой расход?
-- Согласен! -- тихо ответил директор. -- Фрам этого действительно
заслужил. Конечно, если деньги могут ему помочь... Чему я лично не верю...
-- Вы сейчас поверите! -- улыбнулся бывший медвежатник. -- У Фрама
просто тоска по родине. Больше ничего! Его потянуло к родным льдам и снегам.
В нем проснулось прежнее, забытое. Вы изъявили готовность пожертвовать на
него некоторую сумму. По-моему, вы должны отправить его обратно на Север.
Директор цирка Струцкого посмотрел на старого господина с недоверием.
Ему показалось, что тот разыгрывает его, высказывая такую сумасбродную
мысль:
-- Не вижу, как это можно сделать. Купить ему железнодорожный билет?
Бывший охотник досадливо пожал плечами:
-- Вы прекрасно знаете, что я имел в виду не это! Я вовсе не шучу.
Существует очень простой способ послать Фрама обратно. Правда, дорогой...
Зато очень простой. Теперь в Ледовитый океан уходят ежегодно сотни
пароходов. Отправьте его на одном из них. Доверьте вашего Фрама под честное
слово. Его доставят на какой-нибудь остров, а там выпустят на свободу. И
делу конец!.. Или, вернее, не конец, а начало -- настоящая история Фрама
только начинается. Если бы не годы и болезни, я бы сам вызвался его отвезти.
Хотя бы только для того, чтобы взглянуть, что он там будет делать, как будет
чувствовать себя среди родных льдов... Это было бы новой главой в моих
книгах, которой суждено остаться недописанной, одним из интереснейших
экспериментов!
Директор задумался, подсчитывая в уме, во сколько это может обойтись.
Он знал, что стоит такое путешествие, но в то же время понимал, что такой
поступок был бы своего рода рекламой для цирка. Как ловкому дельцу, ему
пришло в голову дать несколько представлений с надбавкой на билеты и открыть
подписной лист в пользу Фрама. Сам он в убытке не будет!
-- Я это сделаю! -- твердо сказал директор. -- Сколько бы мне ни
стоило.
-- В таком случае дайте мне пожать вашу руку! -- обрадовался старый
охотник на медведей, ставший их защитником, не подозревая, какие тайные
расчеты руководят директором. -- Вы доставили мне большое удовольствие.
Он повернулся к Фраму и помахал ему дрожащей рукой:
-- Господин Фрам, вам, мне кажется, пора собираться в дорогу. Знаю, что
у вас нет ни чемодана, ни зубной щетки. Но это не беда! Желаю вам снова
стать диким и свободным зверем, как все белые медведи... Наслаждаться
льдами, ветрами, пургой, полярным солнцем, северным сиянием... Найти себе
подходящую медведицу и стать отцом семейства честных белых медведей, которое
будет украшением вашего племени!
Фрам медленно поднял лежавшую не лапах морду и повел маленькими
грустными глазами на незнакомого доброго и веселого, хотя и чересчур,
пожалуй, разговорчивого старика.
Он, казалось, понимал, о чем речь.
-- Ну-с, милостивый государь, вы не собираетесь меня поблагодарить? --
спросил бывший медвежатник. -- Не ожидал я этого от вас!
Фрам поднялся на задние лапы и смешно отдал честь, приложив к голове
лапу: так он обычно отвечал публике на аплодисменты.
-- Вот это другое дело! Только смотрите, не забудьте оставить все эти
церемонии нам, людям. В ледяных пустынях с ними далеко не уедешь, там
отдавать честь по нашей моде не полагается! А теперь до свидания!
Счастливого пути!
Фрам козырнул еще раз.
Потом опустился на четыре лапы, снова забился в свой угол и, уткнувшись
мордой в перегородку, с закрытыми глазами принялся мечтать о ледяных горах,
которые плывут по зеленому океану, как таинственные галеры без парусов, без
руля и без гребцов.
Он остался в одиночестве.
Но директор цирка сдержал слово. Напечатал афиши. Дал несколько
представлений в пользу Фрама. Открыл подписной лист. Собрал больше денег,
чем было нужно... Потом сел писать письма и отправил несколько телеграмм.
Через две недели пришел желанный ответ.
В одном иностранном порту работала крупная фирма, платившая большие
деньги охотникам разных стран за поимку диких зверей, птиц и пресмыкающихся
для цирков, зверинцев и зоопарков. Директор этой фирмы предложил свои
услуги, чтобы отправить Фрама на родину.
Вскоре в Заполярье должен был отплыть пароход с экскурсантами. На его
борту будут находиться и два опытных охотника, которым поручено фирмой
доставить белых медвежат для европейских цирков, зверинцев и зоопарков. Так
что путешествие Фрама почти ничего не будет стоить.
Новость мгновенно распространилась по цирку и произвела сенсацию.
В день отъезда Фрама клоуны и гимнасты, акробаты и наездники -- все
пришли прощаться с белым медведем.
Одни ласкали его, другие угощали любимыми фруктами, конфетами и
сиропом.
Дольше всех у его клетки задержался глупый Августин.
На этот раз у него не было ни носа в виде спелого помидора, ни
кирпичного цвета парика, который он ерошил, вызывая хохот галерки.
Дело было утром. До представления оставалось еще много времени, и
поэтому глупый Августин еще не был одет и загримирован паяцем. В общем, в
этот час он выглядел самым обыкновенным человеком. Бедно одетым, с усталым
лицом и грустными глазами. Таким был он в настоящей жизни: без фрака с
фалдами до пят, без длинных, как лыжи, ботинок, кирпичного парика и смешного
носа.
Это был старый, больной, одинокий клоун, знавший, что ему придется
кончать жизнь в больнице или в богадельне.
Так же, как Фрам, он чувствовал себя очень усталым.
Ему надоело паясничать, проделывать сальто-мортале и гримасничать для
развлечения галерки. Но другого выхода не было: нужно было смеяться, строить
рожи, получать удары доской по голове, затрещины и пинки, потому что только
такой ценой можно было заработать кусок хлеба. Иначе директор, с которым
звери не могли сравниться в жестокости, беспощадно выкинул бы его на улицу.
Теперь старый, больной клоун пришел проститься с Фрамом.
Семь лет они не расставались, скитаясь с цирком из города в город, из
страны в страну. Наградой им были аплодисменты и симпатии публики.
И вот теперь судьба разлучала их.
Она оказалась милостивее к медведю, которого ждала свобода, и
беспощаднее к человеку, который из-за куска хлеба был связан до самой смерти
с цирком.
Глупый Августин вошел в клетку.
Фрам посмотрел на него своими добрыми, кроткими глазами. Эти двое были
старыми друзьями. Медведь, казалось, понимал, какой ценой доставался паяцу
насущный хлеб и чего ему стоило развлекать изо дня в день публику.
-- Значит, едешь? -- спросил клоун, ероша Фраму шерсть. Ответить
медведь не мог.
Впрочем, он и не знал, что уезжает. Не знал, какой сюрприз приготовил
ему старый охотник.
Ему казалось удивительным, что сегодня все заходят к нему, гладят его,
балуют сластями. Эти проявления любви были для него непонятны. Он чувствовал
только, что готовится нечто необычное. Волнение людей заразило его, но
медвежий разум не мог объяснить причины происходящего.
-- Значит, едешь? -- повторил свой вопрос глупый Августин. -- Завидую
тебе, дружище Фрам! Мне будет скучно. Цирк без тебя опустеет. Ты был
славным, порядочным медведем, куда порядочнее нашего директора, жадного
зверя в человеческом обличье!..
Паяц зарыл старое, морщинистое лицо в косматую шкуру белого медведя.
Фрам дружески чуть тронул его лапой, словно догадался, как горько
приходится клоуну.
Тот отпрянул от него, почувствовав, что вот-вот расплачется. Ему не
хотелось, чтоб его видели другие: чего доброго еще поднимут на смех: глупый
Августин плачет! Он открыл решетчатую дверцу клетки и убежал, махнув через
плечо рукой:
-- Счастливого пути, Фрам! Счастливого пути!
В тот же день Фрама погрузили в вагон, прицепленный в хвосте поезда.
Его сопровождал приставленный к нему человек.
День, ночь и еще день мчался поезд по разным странам и к вечеру на
вторые сутки прибыл в порт, откуда должен был отправиться в Ледовитый океан
пароход с охотниками.
Фрама вовсе не утомила смена видов, городов и людей: он был опытным
путешественником.
Он привык переезжать из страны в страну, слышать вокруг себя разные
языки, видеть по-разному одетых людей. На его пути попадались города, где
еще виднелись на стенах старые, забытые, поблекшие от дождей и солнца афиши
с его изображением и подписью большими буквами: "ФРАМ, БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ".
Фрам почувствовал, что с ним происходит нечто необычное, чего раньше не
бывало, лишь тогда, когда пароход отвалил от причала.
Фрам царапал когтями дверь каюты, не притронулся к предложенной еде, не
стал даже пить и вообще проявлял признаки крайнего беспокойства.
Хлюпанье воды у бортов напомнило ему что-то очень давнее, очень
далекое.
Да, все это было похоже на то первое путешествие по океану, с Ларсом,
моряком с голубыми глазами и пристрастием к алкоголю, который привез его в
теплые края и продал за десять бутылок рома.
Среди пассажиров, участников экскурсии в Заполярье, быстро
распространился слух о том, что на пароходе находится дрессированный белый
медведь, знаменитый Фрам из цирка Струцкого, которого отправляют обратно в
страну вечных льдов, потому что он затосковал и не желает больше выступать
на арене.
К Фраму стали приходить, ему приносили булки и конфеты, фрукты и
напитки. Нашлись люди, которые когда-то видели его в цирке, аплодировали ему
и прекрасно помнили, как он опорожнял бутылки с пивом, играл на гармонике и
раздавал детям конфеты.
Они удивлялись, что теперь его не соблазняют ни конфеты, ни фрукты, ни
бутылки.
-- Может, ему здесь просто скучно! -- сказала одна молодая женщина. --
Смотрите, какой он грустный! Когда я видела его в цирке, это был самый
веселый медведь на свете. Настоящий буффон! Я смеялась до слез... Давайте
поговорим с капитаном. С ним, кажется, можно столковаться. Пусть позволит
выпускать Фрама на палубу... Держу пари, что он будет любоваться морем и
радоваться ему, как человек...
Молодая женщина была добрая и одними словами не ограничилась, а пошла к
капитану и убедила его.
Фраму открыли дверь, и он получил возможность свободно прогуливаться по
палубе вместе с пассажирами.
Белый медведь и в самом деле повел себя, как человек.
Поднявшись на задние лапы, он оперся о фальшборт и долго стоял,
устремив взгляд в морские дали, на север, где за горизонтом простирались
вечные льды и снега.
Потом точно так же, как другие пассажиры, принялся расхаживать по
палубе в поисках других развлечений. Его окружили любопытные. Дети
протягивали ему кто мячик, кто корзиночку с конфетами. Фрам забавлялся,
подбрасывая мячик, открывал корзиночку и раздавал детворе сласти. К вечеру
он стал всеобщим другом.
Но время от времени он подходил к фальшборту, вглядывался в дали и
тянул носом соленый воздух.
Когда стемнело, он сам вернулся в каюту.
-- А что я вам говорила?! -- торжествовала молодая женщина с добрым
сердцем. -- Это же необыкновенный зверь! На месте капитана, я завела бы на
пароходе постоянного медведя. Лучшее развлечение для пассажиров!
На четвертые сутки цвет моря изменился -- стал холодно зеленым, ветер
приносил суровое дыхание Севера. Яснее, светлее стали ночи.
Фрам перестал забавляться, бросая и ловя мячик. Он не отходил теперь от
фальшборта: неподвижно стоял на задних лапах и вдыхал, раздувая ноздри,
студеный ветер, такой для него родной и знакомый.
Однажды утром он увидел на горизонте первые айсберги.
Параход замедлил ход, осторожно обходя плавучие ледяные горы.
Фрам жадно наполнял легкие влажным соленым воздухом.
В тот вечер он не вернулся в свою запрятанную в недрах парохода каюту,
а всю ночь простоял как завороженный, у фальшборта, устремив взор в синие
дали.
Чья-то рука легла на его шкуру. Он даже не слышал шагов.
Это оказалась молодая женщина с добрым сердцем. Она куталась в теплую
шубу. Ей тоже не спалось. Это было ее первое путешествие в край полярных
льдов.
Узнав, что утром охотники, которым был поручен Фрам, собираются
выпустить его на остров, она оделась и вышла на палубу -- посмотреть, что
делает ее белый медведь.
-- Итак, друг Фрам, ты нас покидаешь? -- прошептала женщина. -- И ни о
чем не будешь жалеть? Не будешь тосковать по нашему миру? Тебе не будет
скучно одному, без людей, в холодной пустыне?..
Ее рука гладила белую, влажную от соленого морского ветра шкуру.
Фрам повернул голову и посмотрел своими кроткими глазами на это доброе
существо, которого он с завтрашнего дня уже больше никогда не увидит.
Медведь, казалось, понимал ее вопросы и даже знал, какими словами ответил бы
ей, если бы природа наделила его даром слова. Он легонько обнял ее за плечи
согнутой лапой, как делал это когда-то со своими друзьями в цирке.
Женщина негромко вскрикнула. Испугалась. В голове молнией мелькнула
мысль, что Фрам все же зверь. Она уже упрекнула себя за то, что так
необдуманно поступила -- вышла ночью одна на палубу, где не было ни души, и
приблизилась к нему.
Но в тот же миг объятие Фрама разжалось. В его глазах сверкнуло что-то,
похожее на упрек. Словно ему хотелось сказать: "Чего ж ты испугалась?
Неужели все еще не веришь, что я ручной медведь и никогда не причиню зла
человеку?"
Женщина зябко поежилась. Шубка плохо защищала ее от ночного холода. Она
помахала затянутой в перчатку рукой:
-- Покойной ночи, Фрам!.. Иди, ложись. Для тебя с завтрашнего дня
начнется новая жизнь. Не очень-то легко тебе будет, потому что ты привык к
другому!
Фрам остался один. Синяя ночь была непохожа на те ночи, к которым
привыкли пассажиры: в ней еще держался окутанный дымкой солнечный свет.
Пароход приближался к тем широтам, где день сливается с ночью и сутки равны
году.
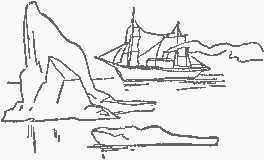 * * *
* * *
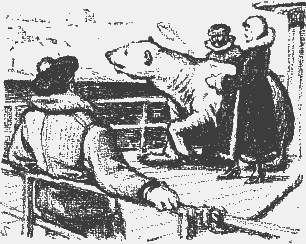 IX. ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Остров оказался высоким, жутко пустынным, покрытым сугробам и льдами.
Сквозь стеклянистую кору льда местами торчали острые утесы,
напоминающие развалины крепости. Казалось, стихийные бедствия опустошили ее
и превратили в руины. Отражаясь в зеленых волнах Ледовитого океана, она как
будто ждала доброго волшебника, который вернет ей жизнь.
А пока что все на пустынном острове застыло в мертвой неподвижности.
Ничего живого не показывалось на гранитных утесах; ниоткуда не поднималось
голубого дымка, ни одна птица не тревожила воздух шорохом крыльев. Не было
даже ветра.
Пароход бросил якорь в открытом море.
Этим холодным полярным утром закутанные в меха пассажиры находились в
полном составе на палубе. Мороз щипал носы и щеки.
Каким необычным показалось им это утро с ночной синевой, незаметно
таявшей в мутно-беловатом, словно потустороннем свете! Утро без солнца!
Потому что солнце осталось далеко позади, над теплыми морями, откуда они
приплыли, где ночь сменяла день. Здесь же солнце появится еще нескоро.
Присутствие его лишь угадывалось за багровым просветом на востоке.
Этот багровый просвет возвещал наступление своего рода весны, совсем
непохожей на ту весну, которую пассажиры оставили дома, с ее праздником
света и красок, с цветущей сиренью и изумрудными лугами, усыпанными желтыми
монетками одуванчиков, где резвятся ягнята с красными кисточками в ушах.
Здешняя весна совсем иная: без благоухания гиацинтов, без ласточек и
жаворонков, без нежного блеяния ягнят и без станиц журавлей, черной стрелкой
перечеркивающих небо.
Через неделю солнце начнет медленно подниматься на небосводе и не
зайдет несколько месяцев кряду.
Наступит длинный, почти полугодовой день.
Этот день и есть полярное лето. Светозарное, с ослепительно сверкающим
на снежных сугробах солнцем. Но солнце это холодное, безжизненное, вроде
того, зубастого, которое светит ясными морозными днями в других краях.
Льды здесь никогда полностью не тают. По ледяному ложу едва сочится
тоненькая струйка воды. Едва показывается из-под снега одевающий скалы
зеленый мох да еще расцветает кое-где чахлый, низенький цветочек без запаха.
Обо всем этом толковали, удивляясь, собравшиеся на палубе пассажиры.
Они дивились, глядя на пустынный остров, одиноко лежащий среди
безбрежных просторов Ледовитого океана: тягостное, гнетущее видение.
Все молчали. Очень уж угрюмым был этот окруженный водой клочок суши,
такой далекий от остального мира и от всего живого!
Голые серые скалы, скованные льдом утесы, отраженные в неподвижной
пучине океана, навевали щемящую сердце тоску.
Здесь была настоящая пустыня.
И казалось обманом, что где-то там, в тех странах, откуда прибыли
пассажиры парохода, есть города с оживленными бульварами, нестройным гулом
голосов и залитыми светом витринами магазинов, есть театры, цветы и сады.
Казалось просто немыслимым, что все эти чудеса, созданные природой и
человеком, по-прежнему продолжают существовать: зимой и летом, осенью и
весной, днем и ночью. Что они ждут путешественников. Что вернувшись,
путешественники найдут их такими же, какими оставили.
У всех стыла кровь и захватывало дыхание при одной мысли о том, что
шторм может разбить пароход и выкинуть их на такой берег, как этот. Неужто
им пришлось бы остаться здесь, в этой ледяной пустыне, среди мертвой тишины,
обледенелых скал и утесов, отраженных зеленым океаном?
Одна мысль об этом вселяла ужас.
-- Я бы умерла от страха в первый же день! -- воскликнула молодая
женщина, которая приняла участие в Фраме.
Накануне она выказала храбрость. Теперь мужество оставило ее. Молодая
женщина побледнела от одного предположения о возможности такого несчастья.
Она мысленно уже видела себя одинокой, выброшенной волнами вместе с
обломками парохода на этот проклятый остров. Воображение рисовало ей, как
она ползет по льду, как строит себе убежище из снега, как трудно ей,
неумелой, развести костер, как ее мучит голод. Может, ее застанет здесь, на
острове, бесконечная полярная ночь, с морозами, которые превращают океан в
ледяное поле. Тогда уже не будет никакой надежды на спасение. Посланный на
помощь пароход смог бы пробиться сюда только через год...
-- Я бы умерла от страха! -- повторила молодая женщина, напуганная
собственной фантазией.
Потом повернулась к охотникам, которые готовились к высадке Фрама:
-- Я считаю жестоким то, что вы собираетесь сделать с этим умным,
добрым медведем!.. Как ему прожить в этакой пустыне? Нет, как хотите, это
жестоко!.. Он же ни в чем не виноват!
-- Полноте, сударыня! Вы ошибаетесь! -- рассмеялся один из охотников.
-- Судите о Фраме по себе, исходя из нашего, человеческого понимания и
человеческих чувствований... Вы забываете, что Фрам -- зверь, белый медведь,
родившийся в этих местах, недалеко от полюса. И даже не на таком острове,
как этот, мимо которого все же проходят корабли, куда, может быть,
наведываются люди, а гораздо севернее, ближе к полюсу, на одном из тех
островов, куда, пожалуй, не ступала нога человека.
-- Но ему нечего будет есть... Он замерзнет!.. -- сокрушалась
сердобольная женщина.
-- Фрам не пропадет! -- потешался охотник. -- Будет жить, как жили до
него тысячи лет и сейчас живут тысячи его родичей. Его стихия здесь.
Настоящая для белого медведя вольная жизнь... Мы, люди, попробовали
перевоспитать Фрама, изменить его натуру. Но, видимо, нам это не удалось. Мы
сделали его гимнастом, акробатом. И Фрам, казалось, привык. Может быть, все
это ему даже нравилось!.. Но в один прекрасный день он начал тосковать по
пустыне, где впервые увидел свет, и провел, так сказать, свое детство...
-- А чем же он будет питаться? Слишком уж пустынен этот остров! --
продолжала волноваться молодая женщина.
-- И об этом не беспокойтесь! -- сказал охотник. -- Сегодня море
свободно от льда. Но через два-три дня или через неделю может ударить лютый
мороз, море затянется льдом. Потом ветер разломает его, и Фрам, перебираясь
со льдины на льдину, поплывет на север, на родину белых медведей... Им будет
руководить инстинкт. Он найдет себе товарищей... Вспомнит все, что позабыл,
научится тому, чего не знал... Было бы любопытно посмотреть, как он станет
себя вести. Ведь, кроме своей прирожденной медвежьей сноровки, он еще знает
всякие штуки, которым научился от людей... Конечно, не все пойдет ему на
пользу...
-- Может, было бы лучше выпустить его на обитаемый остров, где живут
эскимосы! -- высказала новую мысль молодая женщина, которая не раз
аплодировала Фраму в цирке. -- Он поселился бы возле людей...
Охотник покачал головой:
-- Именно этого мы и не хотим. В интересах Фрама! Мы нарочно решили
выпустить его здесь, на пустынном острове, вдали от эскимосов, ведь Фрам
привык не бояться людей. Ему может встретиться охотник, прицелиться в него,
а Фрам, вместо того, чтобы убежать и спрятаться, встанет на задние лапы,
открыв грудь навстречу пуле. Будет жалко, если он погибнет. А так мы
предоставим ему возможность немного одичать.
-- Нет, вы меня все-таки не убедили! -- не унималась покровительница
Фрама. -- У меня просто не укладывается в голове, что он может чувствовать
себя хорошо в такой пустыне и быть счастливым.
-- Я, собственно говоря, не вижу необходимости доказывать вам,
сударыня, что мы поступаем правильно. Взгляните, пожалуйста, на Фрама! Он
доказывает это лучше меня. Смотрите, как он возбужден, не находит себе
места! Он понимает, что пароход остановился ради него и что мы сейчас
выпустим его на волю. Смотрите, как он глазами просит нас поторопиться!..
Фрам действительно не находил себе места.
Он то и дело поднимался на задние лапы и, вдыхая ледяной воздух,
пристально глядел на остров, потом снова опускался на четвереньки и начинал
кружить возле матросов, которые возились с цепями и тросами, готовясь
спустить шлюпку.
Он толкал их мордой, урчал, вставал на задние лапы, оглядываясь на
остров, и снова опускался на все четыре лапы. Он напоминал путешественника
на станции, который потерял терпение, дожидаясь опаздывающего поезда, и то и
дело выбегает на перрон поглядеть, не покажется ли поезд, смотрит на часы и
пристает с расспросами к начальнику станции.
Наконец шлюпка была спущена.
Фрам, ловкий и опытный акробат, сам спустился по трапу.
-- Господин Фрам не очень-то вежлив, -- разочарованно проговорила
молодая женщина. -- Вот уже не ожидала от него! Даже не простился.
-- Что вы хотите, сударыня? -- заступился за медведя капитан. -- Для
него настало время отбросить хорошие манеры, которым он научился у людей. И
то сказать -- к чему они ему в этакой пустыне?!
Фрам и в самом деле совершенно забыл все правила вежливого обхождения.
Он не только не простился с пассажирами, которые любили и баловали его,
не только не ответил, когда они кричали ему с палубы, но даже повернулся к
пароходу спиной, стоя на задних лапах в удалявшейся под ударами весел
шлюпке.
Несколько пассажиров наставили фотографические аппараты. Нашелся на
борту и кинооператор, который принялся крутить съемочный аппарат, чтобы
заснять на пленку момент расставания Фрама с людьми и цивилизацией.
Все кричали, звали Фрама, махали ему платками.
Но Фраму теперь все это было безразлично. Казалось, он не слышал
криков, не понимал человеческого голоса.
Все его внимание было поглощено островом, льдами и снегом, среди
которых дикий белый медвежонок впервые увидел полярное солнце.
Он тихо, довольно урчал, и это урчание напоминало мурлыкание сытой,
разнежившейся кошки.
Шлюпка остановилась под отвесным обледенелым утесом.
-- Отвесная стена! -- заметил один из гребцов. -- Не вижу, как он
вскарабкается наверх.
-- Не беспокойся, -- возразил охотник, рука которого все время лежала
на спине Фрама. -- Не будь, как та молодая дама на пароходе... Не забывай,
что кроме своей медвежьей сноровки, он еще научился разным штукам от
людей!..
Взяв Фрама за загривок, охотник повернул его мордой к себе.
-- Ну, приятель, вот мы и доставили тебя по назначению! -- сказал он.
-- Можешь сказать мне спасибо... И посылать мне иногда открытки с видами
Ледовитого океана. А теперь, счастливого пути! Не поминай лихом!.. Лапу!
Фрам подал лапу.
Потом одним прыжком выскочил из шлюпки на обледенелый утес, пошатнулся,
нашел равновесие и с удивительным для такого громадного зверя проворством
начал карабкаться с уступа на уступ, пока не оказался на вершине утеса.
-- Что я тебе говорил?! -- восхищенно воскликнул охотник. -- Теперь он
уже чувствует себя дома!
С палубы донеслись прощальные крики и возгласы "ура!"
Стоя на вершине утеса, Фрам поднялся на задние лапы и смотрел на
пароход и толпу махавших платками пассажиров.
Может быть, только теперь до его сознания дошло, что он навсегда
расстается с людьми.
Тем временем внизу охотник с матросами сбросили на берег, в углубление
среди скал, небольшой запас продовольствия.
-- То, что мы делаем, -- идиотство, -- шутливо и немного смущенно
признался охотник. -- Нас засмеют, если узнают. Мой товарищ, который остался
на пароходе, и так уже смеется: говорит, что я поглупел с тех пор, как
привязался к этому медведю. А мне наплевать! Пусть говорит что хочет! Я
считаю, что в первые дни свободы, пока Фрам еще не привык добывать себе
пропитание, бедняге придется туго. Да, да, не смейтесь!
Покончив с выгрузкой провианта, он закурил трубку и, закинув голову,
посмотрел на вершину утеса.
Фрам все еще стоял там на задних лапах, глядя на пароход и махавших ему
пассажиров.
Его прямая неподвижная белая фигура, резко выделяясь на темно-синем
небе, сливалась с обледенелой скалой: он казался льдиной, возникшей среди
льдин.
До него долетали крики толпы. За ним следили бинокли. Быстро крутилась
ручка киносъемочного аппарата, чтобы не пропустить ни одной подробности. Это
же будет сенсационная пленка! Последнее выступление белого медведя Фрама.
Прощание с людьми и цивилизацией!
-- Ну же, Фрам! Будь вежлив хоть напоследок. Поклонись, простись, как
полагается! -- молвила его покровительница.
Упрек был произнесен так тихо, что его едва уловило ухо стоявшего рядом
пассажира.
Но Фрам, казалось, услышал его и понял ее слова, несмотря на
расстояние.
Он поднес лапу к голове и презабавно отдал честь, как делал в цирке
Струцкого, вызывая бурный хохот детворы.
Потом опустился на все четыре лапы и скрылся за выступом скалы.
* * *
IX. ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Остров оказался высоким, жутко пустынным, покрытым сугробам и льдами.
Сквозь стеклянистую кору льда местами торчали острые утесы,
напоминающие развалины крепости. Казалось, стихийные бедствия опустошили ее
и превратили в руины. Отражаясь в зеленых волнах Ледовитого океана, она как
будто ждала доброго волшебника, который вернет ей жизнь.
А пока что все на пустынном острове застыло в мертвой неподвижности.
Ничего живого не показывалось на гранитных утесах; ниоткуда не поднималось
голубого дымка, ни одна птица не тревожила воздух шорохом крыльев. Не было
даже ветра.
Пароход бросил якорь в открытом море.
Этим холодным полярным утром закутанные в меха пассажиры находились в
полном составе на палубе. Мороз щипал носы и щеки.
Каким необычным показалось им это утро с ночной синевой, незаметно
таявшей в мутно-беловатом, словно потустороннем свете! Утро без солнца!
Потому что солнце осталось далеко позади, над теплыми морями, откуда они
приплыли, где ночь сменяла день. Здесь же солнце появится еще нескоро.
Присутствие его лишь угадывалось за багровым просветом на востоке.
Этот багровый просвет возвещал наступление своего рода весны, совсем
непохожей на ту весну, которую пассажиры оставили дома, с ее праздником
света и красок, с цветущей сиренью и изумрудными лугами, усыпанными желтыми
монетками одуванчиков, где резвятся ягнята с красными кисточками в ушах.
Здешняя весна совсем иная: без благоухания гиацинтов, без ласточек и
жаворонков, без нежного блеяния ягнят и без станиц журавлей, черной стрелкой
перечеркивающих небо.
Через неделю солнце начнет медленно подниматься на небосводе и не
зайдет несколько месяцев кряду.
Наступит длинный, почти полугодовой день.
Этот день и есть полярное лето. Светозарное, с ослепительно сверкающим
на снежных сугробах солнцем. Но солнце это холодное, безжизненное, вроде
того, зубастого, которое светит ясными морозными днями в других краях.
Льды здесь никогда полностью не тают. По ледяному ложу едва сочится
тоненькая струйка воды. Едва показывается из-под снега одевающий скалы
зеленый мох да еще расцветает кое-где чахлый, низенький цветочек без запаха.
Обо всем этом толковали, удивляясь, собравшиеся на палубе пассажиры.
Они дивились, глядя на пустынный остров, одиноко лежащий среди
безбрежных просторов Ледовитого океана: тягостное, гнетущее видение.
Все молчали. Очень уж угрюмым был этот окруженный водой клочок суши,
такой далекий от остального мира и от всего живого!
Голые серые скалы, скованные льдом утесы, отраженные в неподвижной
пучине океана, навевали щемящую сердце тоску.
Здесь была настоящая пустыня.
И казалось обманом, что где-то там, в тех странах, откуда прибыли
пассажиры парохода, есть города с оживленными бульварами, нестройным гулом
голосов и залитыми светом витринами магазинов, есть театры, цветы и сады.
Казалось просто немыслимым, что все эти чудеса, созданные природой и
человеком, по-прежнему продолжают существовать: зимой и летом, осенью и
весной, днем и ночью. Что они ждут путешественников. Что вернувшись,
путешественники найдут их такими же, какими оставили.
У всех стыла кровь и захватывало дыхание при одной мысли о том, что
шторм может разбить пароход и выкинуть их на такой берег, как этот. Неужто
им пришлось бы остаться здесь, в этой ледяной пустыне, среди мертвой тишины,
обледенелых скал и утесов, отраженных зеленым океаном?
Одна мысль об этом вселяла ужас.
-- Я бы умерла от страха в первый же день! -- воскликнула молодая
женщина, которая приняла участие в Фраме.
Накануне она выказала храбрость. Теперь мужество оставило ее. Молодая
женщина побледнела от одного предположения о возможности такого несчастья.
Она мысленно уже видела себя одинокой, выброшенной волнами вместе с
обломками парохода на этот проклятый остров. Воображение рисовало ей, как
она ползет по льду, как строит себе убежище из снега, как трудно ей,
неумелой, развести костер, как ее мучит голод. Может, ее застанет здесь, на
острове, бесконечная полярная ночь, с морозами, которые превращают океан в
ледяное поле. Тогда уже не будет никакой надежды на спасение. Посланный на
помощь пароход смог бы пробиться сюда только через год...
-- Я бы умерла от страха! -- повторила молодая женщина, напуганная
собственной фантазией.
Потом повернулась к охотникам, которые готовились к высадке Фрама:
-- Я считаю жестоким то, что вы собираетесь сделать с этим умным,
добрым медведем!.. Как ему прожить в этакой пустыне? Нет, как хотите, это
жестоко!.. Он же ни в чем не виноват!
-- Полноте, сударыня! Вы ошибаетесь! -- рассмеялся один из охотников.
-- Судите о Фраме по себе, исходя из нашего, человеческого понимания и
человеческих чувствований... Вы забываете, что Фрам -- зверь, белый медведь,
родившийся в этих местах, недалеко от полюса. И даже не на таком острове,
как этот, мимо которого все же проходят корабли, куда, может быть,
наведываются люди, а гораздо севернее, ближе к полюсу, на одном из тех
островов, куда, пожалуй, не ступала нога человека.
-- Но ему нечего будет есть... Он замерзнет!.. -- сокрушалась
сердобольная женщина.
-- Фрам не пропадет! -- потешался охотник. -- Будет жить, как жили до
него тысячи лет и сейчас живут тысячи его родичей. Его стихия здесь.
Настоящая для белого медведя вольная жизнь... Мы, люди, попробовали
перевоспитать Фрама, изменить его натуру. Но, видимо, нам это не удалось. Мы
сделали его гимнастом, акробатом. И Фрам, казалось, привык. Может быть, все
это ему даже нравилось!.. Но в один прекрасный день он начал тосковать по
пустыне, где впервые увидел свет, и провел, так сказать, свое детство...
-- А чем же он будет питаться? Слишком уж пустынен этот остров! --
продолжала волноваться молодая женщина.
-- И об этом не беспокойтесь! -- сказал охотник. -- Сегодня море
свободно от льда. Но через два-три дня или через неделю может ударить лютый
мороз, море затянется льдом. Потом ветер разломает его, и Фрам, перебираясь
со льдины на льдину, поплывет на север, на родину белых медведей... Им будет
руководить инстинкт. Он найдет себе товарищей... Вспомнит все, что позабыл,
научится тому, чего не знал... Было бы любопытно посмотреть, как он станет
себя вести. Ведь, кроме своей прирожденной медвежьей сноровки, он еще знает
всякие штуки, которым научился от людей... Конечно, не все пойдет ему на
пользу...
-- Может, было бы лучше выпустить его на обитаемый остров, где живут
эскимосы! -- высказала новую мысль молодая женщина, которая не раз
аплодировала Фраму в цирке. -- Он поселился бы возле людей...
Охотник покачал головой:
-- Именно этого мы и не хотим. В интересах Фрама! Мы нарочно решили
выпустить его здесь, на пустынном острове, вдали от эскимосов, ведь Фрам
привык не бояться людей. Ему может встретиться охотник, прицелиться в него,
а Фрам, вместо того, чтобы убежать и спрятаться, встанет на задние лапы,
открыв грудь навстречу пуле. Будет жалко, если он погибнет. А так мы
предоставим ему возможность немного одичать.
-- Нет, вы меня все-таки не убедили! -- не унималась покровительница
Фрама. -- У меня просто не укладывается в голове, что он может чувствовать
себя хорошо в такой пустыне и быть счастливым.
-- Я, собственно говоря, не вижу необходимости доказывать вам,
сударыня, что мы поступаем правильно. Взгляните, пожалуйста, на Фрама! Он
доказывает это лучше меня. Смотрите, как он возбужден, не находит себе
места! Он понимает, что пароход остановился ради него и что мы сейчас
выпустим его на волю. Смотрите, как он глазами просит нас поторопиться!..
Фрам действительно не находил себе места.
Он то и дело поднимался на задние лапы и, вдыхая ледяной воздух,
пристально глядел на остров, потом снова опускался на четвереньки и начинал
кружить возле матросов, которые возились с цепями и тросами, готовясь
спустить шлюпку.
Он толкал их мордой, урчал, вставал на задние лапы, оглядываясь на
остров, и снова опускался на все четыре лапы. Он напоминал путешественника
на станции, который потерял терпение, дожидаясь опаздывающего поезда, и то и
дело выбегает на перрон поглядеть, не покажется ли поезд, смотрит на часы и
пристает с расспросами к начальнику станции.
Наконец шлюпка была спущена.
Фрам, ловкий и опытный акробат, сам спустился по трапу.
-- Господин Фрам не очень-то вежлив, -- разочарованно проговорила
молодая женщина. -- Вот уже не ожидала от него! Даже не простился.
-- Что вы хотите, сударыня? -- заступился за медведя капитан. -- Для
него настало время отбросить хорошие манеры, которым он научился у людей. И
то сказать -- к чему они ему в этакой пустыне?!
Фрам и в самом деле совершенно забыл все правила вежливого обхождения.
Он не только не простился с пассажирами, которые любили и баловали его,
не только не ответил, когда они кричали ему с палубы, но даже повернулся к
пароходу спиной, стоя на задних лапах в удалявшейся под ударами весел
шлюпке.
Несколько пассажиров наставили фотографические аппараты. Нашелся на
борту и кинооператор, который принялся крутить съемочный аппарат, чтобы
заснять на пленку момент расставания Фрама с людьми и цивилизацией.
Все кричали, звали Фрама, махали ему платками.
Но Фраму теперь все это было безразлично. Казалось, он не слышал
криков, не понимал человеческого голоса.
Все его внимание было поглощено островом, льдами и снегом, среди
которых дикий белый медвежонок впервые увидел полярное солнце.
Он тихо, довольно урчал, и это урчание напоминало мурлыкание сытой,
разнежившейся кошки.
Шлюпка остановилась под отвесным обледенелым утесом.
-- Отвесная стена! -- заметил один из гребцов. -- Не вижу, как он
вскарабкается наверх.
-- Не беспокойся, -- возразил охотник, рука которого все время лежала
на спине Фрама. -- Не будь, как та молодая дама на пароходе... Не забывай,
что кроме своей медвежьей сноровки, он еще научился разным штукам от
людей!..
Взяв Фрама за загривок, охотник повернул его мордой к себе.
-- Ну, приятель, вот мы и доставили тебя по назначению! -- сказал он.
-- Можешь сказать мне спасибо... И посылать мне иногда открытки с видами
Ледовитого океана. А теперь, счастливого пути! Не поминай лихом!.. Лапу!
Фрам подал лапу.
Потом одним прыжком выскочил из шлюпки на обледенелый утес, пошатнулся,
нашел равновесие и с удивительным для такого громадного зверя проворством
начал карабкаться с уступа на уступ, пока не оказался на вершине утеса.
-- Что я тебе говорил?! -- восхищенно воскликнул охотник. -- Теперь он
уже чувствует себя дома!
С палубы донеслись прощальные крики и возгласы "ура!"
Стоя на вершине утеса, Фрам поднялся на задние лапы и смотрел на
пароход и толпу махавших платками пассажиров.
Может быть, только теперь до его сознания дошло, что он навсегда
расстается с людьми.
Тем временем внизу охотник с матросами сбросили на берег, в углубление
среди скал, небольшой запас продовольствия.
-- То, что мы делаем, -- идиотство, -- шутливо и немного смущенно
признался охотник. -- Нас засмеют, если узнают. Мой товарищ, который остался
на пароходе, и так уже смеется: говорит, что я поглупел с тех пор, как
привязался к этому медведю. А мне наплевать! Пусть говорит что хочет! Я
считаю, что в первые дни свободы, пока Фрам еще не привык добывать себе
пропитание, бедняге придется туго. Да, да, не смейтесь!
Покончив с выгрузкой провианта, он закурил трубку и, закинув голову,
посмотрел на вершину утеса.
Фрам все еще стоял там на задних лапах, глядя на пароход и махавших ему
пассажиров.
Его прямая неподвижная белая фигура, резко выделяясь на темно-синем
небе, сливалась с обледенелой скалой: он казался льдиной, возникшей среди
льдин.
До него долетали крики толпы. За ним следили бинокли. Быстро крутилась
ручка киносъемочного аппарата, чтобы не пропустить ни одной подробности. Это
же будет сенсационная пленка! Последнее выступление белого медведя Фрама.
Прощание с людьми и цивилизацией!
-- Ну же, Фрам! Будь вежлив хоть напоследок. Поклонись, простись, как
полагается! -- молвила его покровительница.
Упрек был произнесен так тихо, что его едва уловило ухо стоявшего рядом
пассажира.
Но Фрам, казалось, услышал его и понял ее слова, несмотря на
расстояние.
Он поднес лапу к голове и презабавно отдал честь, как делал в цирке
Струцкого, вызывая бурный хохот детворы.
Потом опустился на все четыре лапы и скрылся за выступом скалы.
* * *
 X. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Нежданно-негаданно разыгралась пурга.
С севера набежали свинцовые тучи, засвистел-завыл ветер, закрутился
белыми смерчами снег. Скоро небо слилось с землей, льды с водой.
Все потонуло в зеленоватом полусвете не то дня, не то ночи, завертелось
в вихре снежной пыли, похожей на толченое стекло.
Льды трещали от лютого мороза. Под напором ветра ломались скалы. Воздух
гудел. Небосвод, казалось, готов был рухнуть в океан.
Фрам нашел во льду расселину и свернулся в ней клубком, понадеявшись на
свой выбор. Но он ошибся: логово продувалось со всех сторон. Расселину
заносило снегом. Оторванный ветром осколок льдины упал ему на голову. Другой
больно ударил лапу.
Произошло нечто странное, неслыханное: белый, полярный медведь затрясся
от холода.
Хорошо отопленный цирк отучил его от мороза. Он дул на сведенные
холодом лапы, выколачивал из них набившиеся льдинки, отряхивался от снежной
пыли. Пробовал прятать морду в густом мехе брюха, но тогда начинала мерзнуть
спина; медведь менял положение, но мороз больно щипал ему нос.
За несколько часов, пока свирепствовала пурга, бедняга здорово
измучился.
Наконец ветер стих, и Фрам высунул морду на свет. Вид у него был
довольно печальный и, наверно, вызвал бы сочувствие у глупого Августина и
веселые гримасы обезьян цирка Струцкого. Ха-ха! Белый медведь дрожит от
холода!
Чтобы размять онемевшие лапы, Фрам принялся плясать. А плясал он совсем
не так, как дикие белые медведи, и вообще это была не пляска, а гимнастика,
которой его научили люди. Он прыгал через голову вперед и назад, делал
сальто-мортале, свертывался клубком и катался по снегу, потом вскинул задние
лапы и прошелся на одних передних.
Бесплатное представление перед полярной пустыней!
Раньше ему бы аплодировали две тысячи человек, начиная с тех, кто
заполнял галерку, и до нарядных, в перчатках, которые сидели в ложах.
Но в эту минуту все аплодисменты мира не смогли бы привести его в
хорошее настроение.
Слишком уж горько было ему от сознания, что он, полярный медведь, чуть
было не замерз -- опозорил все племя белых медведей!
Немного согревшись, Фрам уселся на ледяную глыбу в самом печальном
расположении: было ясно, что первый шаг в свободной жизни оказался
неудачным.
Он начал ее без цели, наудачу, словно и здесь кто-то мог позаботиться о
нем, вовремя накормить его и обеспечить кровом.
Вместо того чтобы обдумать свое положение, он бесцельно бродил по
острову, карабкался на скалы и скатывался с них как на салазках.
Логова себе он не присматривал, не думал о том, чем будет сыт завтра.
Пурга застала Фрама врасплох, он мерз и стучал зубами, как несчастная
бездомная собачонка, из тех, что скулят зимой под заборами в любом городе.
Остров казался совершенно пустынным. На снегу не было никаких следов.
Кругом все было мертво. Фрам почувствовал голод. Как удовлетворить его, он
не знал.
Пока что самым разумным было бы покинуть эти неприютные места. В
далеких смутных воспоминаниях, вынесенных из младенчества белого медвежонка,
возникли уроки большого доброго существа, которое о нем заботилось. Если
кругом не было дичи, мать спускалась к берегу, дожидалась плавучей льдины и
уплывала на ней, как на плоту, в другое место. Или же находила ледяное поле
и пешком отправлялась на поиски более щедрого острова.
Разумным было последовать ее примеру.
Фрам побрел к берегу. К тому самому утесу, на который его высадили.
Он остановился на его краю и окинул взглядом окрестность. Перед ним
расстилались пустынные просторы океана.
Пароход ушел.
Фрам помнил место, где он стоял на якоре. Там не осталось никаких
следов: печальная, пустынная гладь вод.
Только далеко-далеко прозрачные ледяные горы, гонимые северным ветром к
югу, плыли, как таинственные галеры без руля, без парусов и без гребцов.
Но все они были слишком далеко, то появляясь, то исчезая на горизонте,
так что их едва можно было бы различить даже в подзорную трубу.
А ближе, под высоким берегом, только тихо плескалась глубокая вода,
дробя в своем дрожащем зеркале опрокинутое отражение скал.
Покинуть пустынный остров сегодня не предвиделось никакой возможности.
Фрам уже собрался было отойти от берега, чтобы отыскать себе хорошее
логово, но что-то заставило его вздрогнуть.
Что-то шевельнулось на зеленой глади вод. Показалось черное, блестящее
пятно. Спина тюленя.
Дичь!.. Добыча!.. Еда!..
Фрам спрятался за скалой и стал ждать.
Теперь это был уже не тот Фрам, ученый медведь из цирка Струцкого,
который умел показывать акробатические и гимнастические номера, отдавал
честь и вызывал шумные аплодисменты. В эту минуту он был настоящим полярным
медведем, к тому же голодным, подстерегающим добычу -- живую еду.
Тюлень погрузился в воду, забил ластами. Показался снова. Попробовал
вскарабкаться на плоскую скалу. Поскользнулся. Нашел другое место. В груди
Фрама, под ребрами, отчаянно билось сердце: как бы не ушла добыча, не
исчезла, почуяв запах врага...
Наконец тюлень отыскал подходящее место, выбрался короткими рывками на
берег и растянулся во всю длину.
Фрам ждал.
Теперь в воде мелькали и другие тюленьи головы, то уходя в глубину, то
появляясь на поверхности. Потом вылез еще один тюлень, за ним третий,
четвертый. Фрам научился у людей считать.
Тюленей было уже пять, в том числе две самки с детенышами.
Фрам осторожно пополз, скользя со льдины на льдину, стараясь остаться
незамеченным.
Тюлени были теперь совсем близко.
В пустом брюхе сосало от голода.
А еда была в двух шагах: только броситься и раздробить клыками черепные
кости.
Но тюлени глядели большими кроткими глазами, и Фраму вдруг вспомнились
их родичи -- дрессированные тюлени в цирке Струцкого.
Они сами вылезали из бассейна, ловили мяч мордой и весело резвились.
Это были самые ручные звери цирка и после каждого номера ждали от
дрессировщика ласки и лакомств: рыбку, фрукты, пирожное. Тюлени дружили с
Фрамом. Одно время они даже выступали вместе. Разве мог он теперь броситься
на одного из их братьев, раздробить ему череп клыками, почувствовать, как
трещат в зубах его кости?
Глаза ближнего тюленя встретились с глазами Фрама.
Те же добрые, круглые, не знающие страха глаза.
Некоторое время медведь и тюлень глядели друг на друга. Фрам повернулся
к нему спиной. Потом, чтобы заглушить голос голода, попробовал разогнать
тюленей.
Но они вовсе не собирались уходить. Они выросли возле этого острова,
куда до сих пор не ступала лапа белого медведя. Чувство страха было им
незнакомо. Лежа на каменных плитах, они с удивлением смотрели на невиданное
белое чудовище, которое угрожающе рычало на них, поднималось свечой и вообще
казалось сильно рассерженным.
Фрам толкал их мордой, ворочал лапой, наконец, спихнул в воду. Одного
детеныша он бросил в воду через голову, как мячик.
Когда место было очищено, он по-человечески уселся на край каменной
глыбы, подпер подбородок лапами и, казалось, задумался, пытаясь разобраться
в том, что произошло.
Значит, жалость помешала ему убить тюленя? А что, если он вообще не
сможет убивать животных?
Они жили с ним вместе в клетках цирка.
Он знает их. Он слышал, как они стонали во сне, тоскуя о потерянной
свободе, о родных краях, где их поймали.
Все это очень хорошо, но от этого не легче: голод -- не тетка!
Фрам почувствовал себя самым несчастным белым медведем на свете. Он
слишком поздно вернулся в родное Заполярье и вернулся слишком безоружным.
В отвратительном настроении, поджав куцый хвост, он уже собрался было
лезть обратно на высокий утес, но, вдруг почуяв знакомый запах, поднял
морду. Запах привел его к углублению в скалах, где лежала оставленная
охотником провизия: банки со сгущенным молоком, мясо и хлеб, похожие на
куски льда. Как он научился за свою долгую жизнь среди людей, Фрам не спеша
открыл банку сгущенного молока осторожным ударом о камень. Молоко оказалось
льдиной. Он принялся за него, откусывая по кусочку. Вторая банка успела
немного согреться, потому что он держал ее под мышкой. Фрам вылакал молоко и
облизнулся. Потом съел кусок хлеба и мяса. Пока что этого было достаточно.
Для завершения пира не хватало бутылки пива и порции торта. Но в общем можно
было обойтись и без этого... На сегодня он избавлен от забот. Провизии
осталось достаточно и на завтрашний день.
Он бережно спрятал ее в каменной кладовой и закидал снегом, как делают
собаки, когда прячут кость.
А послезавтра? А дальше?
Фрам задумчиво почесал себе темя когтистой лапой, как делал глупый
Августин, когда ему не удавалось ответить на вопросы, на которые вообще
нельзя было ответить.
Нужно было лезть наверх и найти себе удобное логово.
Он нашел пещеру, куда не задувал ветер.
Оставалось раздобыть карточку в столовую.
Но такой карточки, к несчастью, не удалось раздобыть ни на следующий
день, ни даже через неделю.
Зато через неделю мороз сковал огромные пространства океана. Наконец
показалось солнце. Оно еще висело, багровое и огромное, над горизонтом, на
востоке. Воздух был прозрачен, как стекло. Бесконечное утро сопровождалось
лютой стужей, от которой намерзали ледяные сосульки на морде Фрама.
Куда ни глянь, простиралось сплошное ледяное поле.
Фрам предусмотрительно попробовал лапой лед, который оказался толстым и
твердым. Значит, пришло время двинуться в путь, на север, где, как инстинкт
подсказывал ему, он встретит других белых медведей, своих родичей.
Фрам отправился в путешествие, не торопясь. Его жестоко терзал голод. В
зеленых разводьях и полыньях иногда показывались круглые тюленьи головы.
Матери подталкивали мордой детенышей, помогая им вылезать на свет негреющего
солнца. Фрам отворачивался, борясь с искушением.
Единственной пищей, которую ему посчастливилось найти за это время, был
громадный, вмерзший в льдину кусок моржовой туши, очевидно, остатки пира
другого белого медведя. Впрочем, это могла быть и туша мертвого моржа,
принесенная течением и сохранившаяся в этом природном холодильнике.
Работая когтями, Фрам очистил мясо от его ледяной оболочки, наелся так,
что уже не мог двинуться с места, растянулся тут же и заснул богатырским
сном. Проснувшись, доел остатки и с новыми силами отправился дальше.
Меры времени, как в цирке, у него не было.
Вести счет суткам было трудно, потому что здесь не было ни ночи, ни
дня. Иногда он шел, не останавливаясь, тридцать шесть часов кряду; иной раз,
умаявшись, спал целые сутки. Прошло немало времени, пока он привык к этому
бесконечному утру. Научиться переносить свирепые полярные морозы было тоже
нелегко.
Через неделю, а может, и через две, когда солнце еще ближе подвинулось
к зениту, над ледяным полем показалась окутанная дымкой полоска суши.
Она оказалась очень длинным островом, менее скалистым, чем первый, и,
может быть, менее пустынным.
На льду и на снегу были следы.
Много всяких следов.
Фрам сразу узнал широкие, тяжелые отпечатки медвежьих лап, таких же,
как его собственные. Но они переплетались с множеством других мелких следов,
иногда от ровного шага, иногда от прыжков, иногда парных, иногда спутанных.
Песцы? Волки? Может быть, зайцы? А то и собаки?!
Фрам не умел читать следов: в его прежней жизни такая наука была ни к
чему.
Он ускорил шаг и, раздувая ноздри, пустился по медвежьим следам. Следы
эти повели его по прямой дороге, видно, хорошо известной тому, другому
медведю, тысячу раз хоженной. Сразу можно было догадаться, что родич
чувствовал себя здесь полновластным хозяином; он шел уверенно, заранее зная,
куда идти, а не шатался бесцельно, как Фрам, то туда, то сюда.
Да, следы эти вели к вполне определенной цели. Может быть, к берлоге.
Может быть, к укрытому месту, откуда было удобно подстерегать добычу, а
может, и к медвежьей кладовой.
В груди Фрама тревожно и радостно билось сердце -- так, как оно никогда
еще не билось.
Наконец-то приближалась долгожданная встреча с неизвестным, свободным
братом, который родился и вырос среди вечных льдов; с товарищем, который
научит его всему, что он позабыл или не знал.
Следы были свежие. Они становились все более отчетливыми. В морозном
воздухе уже ощущался запах того, кто их оставил. Значит, он близко.
Так произошла встреча.
Они встретились, стоя па задних лапах.
Дикий медведь, хозяин полярных пустынь, и медведь, вернувшийся на
родину от людей, из их городов.
Дикарь заворчал и оскалился.
Фрам ответил дружелюбно.
Подошел ближе, потянулся к незнакомцу мордой.
Тому захотелось ее укусить. Он бросился вперед, раскинув лапы,
собираясь охватить ими Фрама и начать ту беспощадную медвежью схватку, в
которой хрустят кости и противники катаются по льду, пока одному из них не
придет конец.
Когда дикарь кинулся на него, Фрам ловко увильнул, отпрыгнув в сторону.
Его взгляд выразил удивление и упрек.
Досадно было, что первый медведь, которого он встретил, оказался таким
невежей и дураком. И было жаль его, потому что борьба -- это ясно видел Фрам
-- будет неравной. В обществе людей он научился таким хитрым приемам, о
которых этот глупый упрямец не мог иметь никакого понятия. Потому он решил
просто проучить его, а не сражаться всерьез.
Дикарь опустился на все четыре лапы и принялся раскачивать большой
головой, что у всех медведей является признаком крайнего раздражения. Потом
нацелился, готовясь поразить противника в ребра косым ударом. Но Фрам
перемахнул через него великолепным сальто-мортале и оказался опять на задних
лапах. Незнакомец от удивления разинул пасть. Такого он еще не видывал.
Происшедшее никак не укладывалось в его тупой голове.
Он снова ринулся в бой.
Фрам повторил прыжок. Противник поскользнулся и ударился мордой об лед.
Не упуская случая, Фрам покатился за ним следом, ухватил его за спину и
загривок передними лапами и принялся трясти, как он тряс на арене цирка
медвежью шкуру, когда паяцы пародировали его номер. Потом выпустил
ошеломленного незнакомца и вытянулся на задних лапах, упершись в бок одной
из передних.
Глаза его сверкали весело и беззлобно, словно говоря: "Ну, что,
почтеннейший, хватит с тебя? Как видишь, я понимаю шутки. А ты, к сожалению,
не очень-то. Это была только проба! Я знаю и другие штуки. Лучше со мной не
связываться! Потому советую помириться. Чего же рычать? Что означает твое
"мрр-мрр"?! Право, ты смешон, когда сердишься понапрасну. Лучше давай лапу и
будем дружить. Ты даже представить себе не можешь, как мне нужен товарищ в
этой пустыне!.."
Фрам ждал, дружелюбно глядя на него; одна лапа в боку, другая
протянута: мир!
Но незнакомец действительно не понимал шуток и не был расположен
простить пришельцу его смелость. Он снова поднялся на задние лапы и с ревом
бросился вперед.
Фрам дал ему подножку, как его учил глупый Августин. Прием этот
удавался ему всегда и вызывал дружный хохот галерки.
Дикарь ткнулся мордой в лед.
Фрам откозырял ему комически и насмешливо.
Тот опять поднялся и опять, пыхтя, полез в драку. Перепрыгнув через
него, Фрам проделал двойное сальто-мортале, самое удачное из всех,
когда-либо выполненных им на арене цирка.
Дикий белый медведь боролся с тенью, с медведем-волчком из резины и
пружин.
Фрам ускользал от него, прыгал через него, издеваясь над ним,
дотрагиваясь лапой до его носа и, в конце концов, обозленный его тупостью и
упрямством, крепко уселся на него верхом.
Этой смешной фигуре он тоже научился у глупого Августина.
Тщетно пытался дикарь стряхнуть с себя всадника, выл, рычал, бегал,
вставал свечой, снова опускался на все четыре лапы, пробовал кусаться,
царапаться, извивался, валялся в сугробах.
Его обуял ужас.
По своей простоте он решил, что напал на сумасшедшего медведя, на черта
в медвежьем образе, на какое-то невиданное чудовище.
Теперь ему хотелось одного: избавиться от этой напасти и удрать
подальше.
И когда Фрам наконец ослабил мускулы и соскользнул с его спины, дикарь
пустился наутек... Он бежал не чуя ног, то и дело озираясь: ему казалось,
что чудовище вот-вот погонится за ним. Страх заставлял его мчаться галопом
и, если бы белые медведи были подкованы, а полярные льды скрывали кремень,
можно было бы сказать с полным основанием, что у беглеца сверкали пятки.
Фрам глядел ему вслед с досадой и сожалением: из его первой встречи со
своими ничего не получилось и закончилась она как нельзя хуже.
Вместо товарища и брата, который обрадовался бы его появлению, он, как
видно, напал на упрямого и драчливого дурака.
Если все белые медведи Заполярья похожи на этого, то зря он забрался в
такую даль, чтобы с ними познакомиться!
Огорченный и разочарованный, Фрам бесцельно бродил среди льдов, которые
казались ему такими чужими и враждебными.
Как хорошо было бы сейчас почувствовать ласковую человеческую руку на
своей шкуре, особенно между ушами. Это утешило бы его. Вспомнилось, как
часто приходили к нему в последнее время люди, спрашивали: "Что с тобой,
Фрам? Почему ты такой скучный? Почему у тебя такой несчастный вид? Отвечай!
Затонули твои корабли? Счастье обходит тебя в лотерее?.."
Но тут не от кого было ждать утешения.
От него убегали спугнутые им песцы; словно вытолкнутые пружиной,
поднимались и скачками мчались прочь зайцы-беляки; над головой проносились,
шурша крыльями, стаи белых птиц.
Остров этот кишел жизнью, хотя и лежал севернее того, пустынного, где
оставил Фрама пароход. Но ему не доставляли радости все эти вольные, юркие
твари, которые резвились, играли, охотились и гонялись друг за дружкой. Его
огорчало, что все живое убегало от него, считало его врагом. Даже родной
брат, белый медведь, похожий на него как две капли воды, вместо того чтобы
предложить ему дружбу, сразу же полез в драку. Что за черт! Неужто в
Заполярье мало места для белых медведей?!
Он еще несколько раз увидел своего противника.
Упрямый туземец подстерегал его, укрывшись за скалами. Фрам видел
только морду с испуганными глазами, глядевшими недоуменно и тупо. Стоило
Фраму приблизиться, как дикарь пускался наутек.
Его смешное бегство выводило Фрама из себя. И в самом деле: он ищет
товарища, а тот только и знает, что ворчит: мрр! мрр! -- да еще удирает во
всю прыть.
Много времени спустя он еще раз встретил упрямца. Дикарь стоял спиной к
нему в сбегавшем к берегу, хорошо скрытом от глаз распадке и жадно уплетал
громадную тушу моржа. Он затащил сюда добычу и теперь, урча себе под нос,
набивал брюхо свежатиной.
Услышав скрип шагов по снегу, медведь повернул голову и вскинул глаза.
Фрам уже знал, с кем имеет дело.
Вместо того чтобы рычать и угрожающе скалиться, он взъерошился в шутку,
будто собираясь напасть на него, проделал два сальто-мортале и завертелся
волчком на пятке.
Дикарь кинулся прочь, бросив добычу, спеша удрать от "сумасшедшего".
Фрам, как в цирке, проводил его низким поклоном, потом преспокойно
начал закусывать. Он нашел столовую, где не требовали ни платы, ни карточки,
где не полагалось даже чаевых.
Хлеб насущный был заработан благодаря выучке, полученной в цирке
Струцкого.
X. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Нежданно-негаданно разыгралась пурга.
С севера набежали свинцовые тучи, засвистел-завыл ветер, закрутился
белыми смерчами снег. Скоро небо слилось с землей, льды с водой.
Все потонуло в зеленоватом полусвете не то дня, не то ночи, завертелось
в вихре снежной пыли, похожей на толченое стекло.
Льды трещали от лютого мороза. Под напором ветра ломались скалы. Воздух
гудел. Небосвод, казалось, готов был рухнуть в океан.
Фрам нашел во льду расселину и свернулся в ней клубком, понадеявшись на
свой выбор. Но он ошибся: логово продувалось со всех сторон. Расселину
заносило снегом. Оторванный ветром осколок льдины упал ему на голову. Другой
больно ударил лапу.
Произошло нечто странное, неслыханное: белый, полярный медведь затрясся
от холода.
Хорошо отопленный цирк отучил его от мороза. Он дул на сведенные
холодом лапы, выколачивал из них набившиеся льдинки, отряхивался от снежной
пыли. Пробовал прятать морду в густом мехе брюха, но тогда начинала мерзнуть
спина; медведь менял положение, но мороз больно щипал ему нос.
За несколько часов, пока свирепствовала пурга, бедняга здорово
измучился.
Наконец ветер стих, и Фрам высунул морду на свет. Вид у него был
довольно печальный и, наверно, вызвал бы сочувствие у глупого Августина и
веселые гримасы обезьян цирка Струцкого. Ха-ха! Белый медведь дрожит от
холода!
Чтобы размять онемевшие лапы, Фрам принялся плясать. А плясал он совсем
не так, как дикие белые медведи, и вообще это была не пляска, а гимнастика,
которой его научили люди. Он прыгал через голову вперед и назад, делал
сальто-мортале, свертывался клубком и катался по снегу, потом вскинул задние
лапы и прошелся на одних передних.
Бесплатное представление перед полярной пустыней!
Раньше ему бы аплодировали две тысячи человек, начиная с тех, кто
заполнял галерку, и до нарядных, в перчатках, которые сидели в ложах.
Но в эту минуту все аплодисменты мира не смогли бы привести его в
хорошее настроение.
Слишком уж горько было ему от сознания, что он, полярный медведь, чуть
было не замерз -- опозорил все племя белых медведей!
Немного согревшись, Фрам уселся на ледяную глыбу в самом печальном
расположении: было ясно, что первый шаг в свободной жизни оказался
неудачным.
Он начал ее без цели, наудачу, словно и здесь кто-то мог позаботиться о
нем, вовремя накормить его и обеспечить кровом.
Вместо того чтобы обдумать свое положение, он бесцельно бродил по
острову, карабкался на скалы и скатывался с них как на салазках.
Логова себе он не присматривал, не думал о том, чем будет сыт завтра.
Пурга застала Фрама врасплох, он мерз и стучал зубами, как несчастная
бездомная собачонка, из тех, что скулят зимой под заборами в любом городе.
Остров казался совершенно пустынным. На снегу не было никаких следов.
Кругом все было мертво. Фрам почувствовал голод. Как удовлетворить его, он
не знал.
Пока что самым разумным было бы покинуть эти неприютные места. В
далеких смутных воспоминаниях, вынесенных из младенчества белого медвежонка,
возникли уроки большого доброго существа, которое о нем заботилось. Если
кругом не было дичи, мать спускалась к берегу, дожидалась плавучей льдины и
уплывала на ней, как на плоту, в другое место. Или же находила ледяное поле
и пешком отправлялась на поиски более щедрого острова.
Разумным было последовать ее примеру.
Фрам побрел к берегу. К тому самому утесу, на который его высадили.
Он остановился на его краю и окинул взглядом окрестность. Перед ним
расстилались пустынные просторы океана.
Пароход ушел.
Фрам помнил место, где он стоял на якоре. Там не осталось никаких
следов: печальная, пустынная гладь вод.
Только далеко-далеко прозрачные ледяные горы, гонимые северным ветром к
югу, плыли, как таинственные галеры без руля, без парусов и без гребцов.
Но все они были слишком далеко, то появляясь, то исчезая на горизонте,
так что их едва можно было бы различить даже в подзорную трубу.
А ближе, под высоким берегом, только тихо плескалась глубокая вода,
дробя в своем дрожащем зеркале опрокинутое отражение скал.
Покинуть пустынный остров сегодня не предвиделось никакой возможности.
Фрам уже собрался было отойти от берега, чтобы отыскать себе хорошее
логово, но что-то заставило его вздрогнуть.
Что-то шевельнулось на зеленой глади вод. Показалось черное, блестящее
пятно. Спина тюленя.
Дичь!.. Добыча!.. Еда!..
Фрам спрятался за скалой и стал ждать.
Теперь это был уже не тот Фрам, ученый медведь из цирка Струцкого,
который умел показывать акробатические и гимнастические номера, отдавал
честь и вызывал шумные аплодисменты. В эту минуту он был настоящим полярным
медведем, к тому же голодным, подстерегающим добычу -- живую еду.
Тюлень погрузился в воду, забил ластами. Показался снова. Попробовал
вскарабкаться на плоскую скалу. Поскользнулся. Нашел другое место. В груди
Фрама, под ребрами, отчаянно билось сердце: как бы не ушла добыча, не
исчезла, почуяв запах врага...
Наконец тюлень отыскал подходящее место, выбрался короткими рывками на
берег и растянулся во всю длину.
Фрам ждал.
Теперь в воде мелькали и другие тюленьи головы, то уходя в глубину, то
появляясь на поверхности. Потом вылез еще один тюлень, за ним третий,
четвертый. Фрам научился у людей считать.
Тюленей было уже пять, в том числе две самки с детенышами.
Фрам осторожно пополз, скользя со льдины на льдину, стараясь остаться
незамеченным.
Тюлени были теперь совсем близко.
В пустом брюхе сосало от голода.
А еда была в двух шагах: только броситься и раздробить клыками черепные
кости.
Но тюлени глядели большими кроткими глазами, и Фраму вдруг вспомнились
их родичи -- дрессированные тюлени в цирке Струцкого.
Они сами вылезали из бассейна, ловили мяч мордой и весело резвились.
Это были самые ручные звери цирка и после каждого номера ждали от
дрессировщика ласки и лакомств: рыбку, фрукты, пирожное. Тюлени дружили с
Фрамом. Одно время они даже выступали вместе. Разве мог он теперь броситься
на одного из их братьев, раздробить ему череп клыками, почувствовать, как
трещат в зубах его кости?
Глаза ближнего тюленя встретились с глазами Фрама.
Те же добрые, круглые, не знающие страха глаза.
Некоторое время медведь и тюлень глядели друг на друга. Фрам повернулся
к нему спиной. Потом, чтобы заглушить голос голода, попробовал разогнать
тюленей.
Но они вовсе не собирались уходить. Они выросли возле этого острова,
куда до сих пор не ступала лапа белого медведя. Чувство страха было им
незнакомо. Лежа на каменных плитах, они с удивлением смотрели на невиданное
белое чудовище, которое угрожающе рычало на них, поднималось свечой и вообще
казалось сильно рассерженным.
Фрам толкал их мордой, ворочал лапой, наконец, спихнул в воду. Одного
детеныша он бросил в воду через голову, как мячик.
Когда место было очищено, он по-человечески уселся на край каменной
глыбы, подпер подбородок лапами и, казалось, задумался, пытаясь разобраться
в том, что произошло.
Значит, жалость помешала ему убить тюленя? А что, если он вообще не
сможет убивать животных?
Они жили с ним вместе в клетках цирка.
Он знает их. Он слышал, как они стонали во сне, тоскуя о потерянной
свободе, о родных краях, где их поймали.
Все это очень хорошо, но от этого не легче: голод -- не тетка!
Фрам почувствовал себя самым несчастным белым медведем на свете. Он
слишком поздно вернулся в родное Заполярье и вернулся слишком безоружным.
В отвратительном настроении, поджав куцый хвост, он уже собрался было
лезть обратно на высокий утес, но, вдруг почуяв знакомый запах, поднял
морду. Запах привел его к углублению в скалах, где лежала оставленная
охотником провизия: банки со сгущенным молоком, мясо и хлеб, похожие на
куски льда. Как он научился за свою долгую жизнь среди людей, Фрам не спеша
открыл банку сгущенного молока осторожным ударом о камень. Молоко оказалось
льдиной. Он принялся за него, откусывая по кусочку. Вторая банка успела
немного согреться, потому что он держал ее под мышкой. Фрам вылакал молоко и
облизнулся. Потом съел кусок хлеба и мяса. Пока что этого было достаточно.
Для завершения пира не хватало бутылки пива и порции торта. Но в общем можно
было обойтись и без этого... На сегодня он избавлен от забот. Провизии
осталось достаточно и на завтрашний день.
Он бережно спрятал ее в каменной кладовой и закидал снегом, как делают
собаки, когда прячут кость.
А послезавтра? А дальше?
Фрам задумчиво почесал себе темя когтистой лапой, как делал глупый
Августин, когда ему не удавалось ответить на вопросы, на которые вообще
нельзя было ответить.
Нужно было лезть наверх и найти себе удобное логово.
Он нашел пещеру, куда не задувал ветер.
Оставалось раздобыть карточку в столовую.
Но такой карточки, к несчастью, не удалось раздобыть ни на следующий
день, ни даже через неделю.
Зато через неделю мороз сковал огромные пространства океана. Наконец
показалось солнце. Оно еще висело, багровое и огромное, над горизонтом, на
востоке. Воздух был прозрачен, как стекло. Бесконечное утро сопровождалось
лютой стужей, от которой намерзали ледяные сосульки на морде Фрама.
Куда ни глянь, простиралось сплошное ледяное поле.
Фрам предусмотрительно попробовал лапой лед, который оказался толстым и
твердым. Значит, пришло время двинуться в путь, на север, где, как инстинкт
подсказывал ему, он встретит других белых медведей, своих родичей.
Фрам отправился в путешествие, не торопясь. Его жестоко терзал голод. В
зеленых разводьях и полыньях иногда показывались круглые тюленьи головы.
Матери подталкивали мордой детенышей, помогая им вылезать на свет негреющего
солнца. Фрам отворачивался, борясь с искушением.
Единственной пищей, которую ему посчастливилось найти за это время, был
громадный, вмерзший в льдину кусок моржовой туши, очевидно, остатки пира
другого белого медведя. Впрочем, это могла быть и туша мертвого моржа,
принесенная течением и сохранившаяся в этом природном холодильнике.
Работая когтями, Фрам очистил мясо от его ледяной оболочки, наелся так,
что уже не мог двинуться с места, растянулся тут же и заснул богатырским
сном. Проснувшись, доел остатки и с новыми силами отправился дальше.
Меры времени, как в цирке, у него не было.
Вести счет суткам было трудно, потому что здесь не было ни ночи, ни
дня. Иногда он шел, не останавливаясь, тридцать шесть часов кряду; иной раз,
умаявшись, спал целые сутки. Прошло немало времени, пока он привык к этому
бесконечному утру. Научиться переносить свирепые полярные морозы было тоже
нелегко.
Через неделю, а может, и через две, когда солнце еще ближе подвинулось
к зениту, над ледяным полем показалась окутанная дымкой полоска суши.
Она оказалась очень длинным островом, менее скалистым, чем первый, и,
может быть, менее пустынным.
На льду и на снегу были следы.
Много всяких следов.
Фрам сразу узнал широкие, тяжелые отпечатки медвежьих лап, таких же,
как его собственные. Но они переплетались с множеством других мелких следов,
иногда от ровного шага, иногда от прыжков, иногда парных, иногда спутанных.
Песцы? Волки? Может быть, зайцы? А то и собаки?!
Фрам не умел читать следов: в его прежней жизни такая наука была ни к
чему.
Он ускорил шаг и, раздувая ноздри, пустился по медвежьим следам. Следы
эти повели его по прямой дороге, видно, хорошо известной тому, другому
медведю, тысячу раз хоженной. Сразу можно было догадаться, что родич
чувствовал себя здесь полновластным хозяином; он шел уверенно, заранее зная,
куда идти, а не шатался бесцельно, как Фрам, то туда, то сюда.
Да, следы эти вели к вполне определенной цели. Может быть, к берлоге.
Может быть, к укрытому месту, откуда было удобно подстерегать добычу, а
может, и к медвежьей кладовой.
В груди Фрама тревожно и радостно билось сердце -- так, как оно никогда
еще не билось.
Наконец-то приближалась долгожданная встреча с неизвестным, свободным
братом, который родился и вырос среди вечных льдов; с товарищем, который
научит его всему, что он позабыл или не знал.
Следы были свежие. Они становились все более отчетливыми. В морозном
воздухе уже ощущался запах того, кто их оставил. Значит, он близко.
Так произошла встреча.
Они встретились, стоя па задних лапах.
Дикий медведь, хозяин полярных пустынь, и медведь, вернувшийся на
родину от людей, из их городов.
Дикарь заворчал и оскалился.
Фрам ответил дружелюбно.
Подошел ближе, потянулся к незнакомцу мордой.
Тому захотелось ее укусить. Он бросился вперед, раскинув лапы,
собираясь охватить ими Фрама и начать ту беспощадную медвежью схватку, в
которой хрустят кости и противники катаются по льду, пока одному из них не
придет конец.
Когда дикарь кинулся на него, Фрам ловко увильнул, отпрыгнув в сторону.
Его взгляд выразил удивление и упрек.
Досадно было, что первый медведь, которого он встретил, оказался таким
невежей и дураком. И было жаль его, потому что борьба -- это ясно видел Фрам
-- будет неравной. В обществе людей он научился таким хитрым приемам, о
которых этот глупый упрямец не мог иметь никакого понятия. Потому он решил
просто проучить его, а не сражаться всерьез.
Дикарь опустился на все четыре лапы и принялся раскачивать большой
головой, что у всех медведей является признаком крайнего раздражения. Потом
нацелился, готовясь поразить противника в ребра косым ударом. Но Фрам
перемахнул через него великолепным сальто-мортале и оказался опять на задних
лапах. Незнакомец от удивления разинул пасть. Такого он еще не видывал.
Происшедшее никак не укладывалось в его тупой голове.
Он снова ринулся в бой.
Фрам повторил прыжок. Противник поскользнулся и ударился мордой об лед.
Не упуская случая, Фрам покатился за ним следом, ухватил его за спину и
загривок передними лапами и принялся трясти, как он тряс на арене цирка
медвежью шкуру, когда паяцы пародировали его номер. Потом выпустил
ошеломленного незнакомца и вытянулся на задних лапах, упершись в бок одной
из передних.
Глаза его сверкали весело и беззлобно, словно говоря: "Ну, что,
почтеннейший, хватит с тебя? Как видишь, я понимаю шутки. А ты, к сожалению,
не очень-то. Это была только проба! Я знаю и другие штуки. Лучше со мной не
связываться! Потому советую помириться. Чего же рычать? Что означает твое
"мрр-мрр"?! Право, ты смешон, когда сердишься понапрасну. Лучше давай лапу и
будем дружить. Ты даже представить себе не можешь, как мне нужен товарищ в
этой пустыне!.."
Фрам ждал, дружелюбно глядя на него; одна лапа в боку, другая
протянута: мир!
Но незнакомец действительно не понимал шуток и не был расположен
простить пришельцу его смелость. Он снова поднялся на задние лапы и с ревом
бросился вперед.
Фрам дал ему подножку, как его учил глупый Августин. Прием этот
удавался ему всегда и вызывал дружный хохот галерки.
Дикарь ткнулся мордой в лед.
Фрам откозырял ему комически и насмешливо.
Тот опять поднялся и опять, пыхтя, полез в драку. Перепрыгнув через
него, Фрам проделал двойное сальто-мортале, самое удачное из всех,
когда-либо выполненных им на арене цирка.
Дикий белый медведь боролся с тенью, с медведем-волчком из резины и
пружин.
Фрам ускользал от него, прыгал через него, издеваясь над ним,
дотрагиваясь лапой до его носа и, в конце концов, обозленный его тупостью и
упрямством, крепко уселся на него верхом.
Этой смешной фигуре он тоже научился у глупого Августина.
Тщетно пытался дикарь стряхнуть с себя всадника, выл, рычал, бегал,
вставал свечой, снова опускался на все четыре лапы, пробовал кусаться,
царапаться, извивался, валялся в сугробах.
Его обуял ужас.
По своей простоте он решил, что напал на сумасшедшего медведя, на черта
в медвежьем образе, на какое-то невиданное чудовище.
Теперь ему хотелось одного: избавиться от этой напасти и удрать
подальше.
И когда Фрам наконец ослабил мускулы и соскользнул с его спины, дикарь
пустился наутек... Он бежал не чуя ног, то и дело озираясь: ему казалось,
что чудовище вот-вот погонится за ним. Страх заставлял его мчаться галопом
и, если бы белые медведи были подкованы, а полярные льды скрывали кремень,
можно было бы сказать с полным основанием, что у беглеца сверкали пятки.
Фрам глядел ему вслед с досадой и сожалением: из его первой встречи со
своими ничего не получилось и закончилась она как нельзя хуже.
Вместо товарища и брата, который обрадовался бы его появлению, он, как
видно, напал на упрямого и драчливого дурака.
Если все белые медведи Заполярья похожи на этого, то зря он забрался в
такую даль, чтобы с ними познакомиться!
Огорченный и разочарованный, Фрам бесцельно бродил среди льдов, которые
казались ему такими чужими и враждебными.
Как хорошо было бы сейчас почувствовать ласковую человеческую руку на
своей шкуре, особенно между ушами. Это утешило бы его. Вспомнилось, как
часто приходили к нему в последнее время люди, спрашивали: "Что с тобой,
Фрам? Почему ты такой скучный? Почему у тебя такой несчастный вид? Отвечай!
Затонули твои корабли? Счастье обходит тебя в лотерее?.."
Но тут не от кого было ждать утешения.
От него убегали спугнутые им песцы; словно вытолкнутые пружиной,
поднимались и скачками мчались прочь зайцы-беляки; над головой проносились,
шурша крыльями, стаи белых птиц.
Остров этот кишел жизнью, хотя и лежал севернее того, пустынного, где
оставил Фрама пароход. Но ему не доставляли радости все эти вольные, юркие
твари, которые резвились, играли, охотились и гонялись друг за дружкой. Его
огорчало, что все живое убегало от него, считало его врагом. Даже родной
брат, белый медведь, похожий на него как две капли воды, вместо того чтобы
предложить ему дружбу, сразу же полез в драку. Что за черт! Неужто в
Заполярье мало места для белых медведей?!
Он еще несколько раз увидел своего противника.
Упрямый туземец подстерегал его, укрывшись за скалами. Фрам видел
только морду с испуганными глазами, глядевшими недоуменно и тупо. Стоило
Фраму приблизиться, как дикарь пускался наутек.
Его смешное бегство выводило Фрама из себя. И в самом деле: он ищет
товарища, а тот только и знает, что ворчит: мрр! мрр! -- да еще удирает во
всю прыть.
Много времени спустя он еще раз встретил упрямца. Дикарь стоял спиной к
нему в сбегавшем к берегу, хорошо скрытом от глаз распадке и жадно уплетал
громадную тушу моржа. Он затащил сюда добычу и теперь, урча себе под нос,
набивал брюхо свежатиной.
Услышав скрип шагов по снегу, медведь повернул голову и вскинул глаза.
Фрам уже знал, с кем имеет дело.
Вместо того чтобы рычать и угрожающе скалиться, он взъерошился в шутку,
будто собираясь напасть на него, проделал два сальто-мортале и завертелся
волчком на пятке.
Дикарь кинулся прочь, бросив добычу, спеша удрать от "сумасшедшего".
Фрам, как в цирке, проводил его низким поклоном, потом преспокойно
начал закусывать. Он нашел столовую, где не требовали ни платы, ни карточки,
где не полагалось даже чаевых.
Хлеб насущный был заработан благодаря выучке, полученной в цирке
Струцкого.
 * * *
* * *
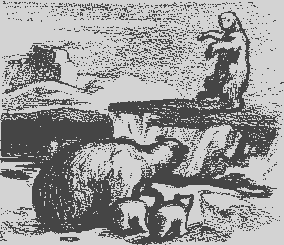 XI. БУФФОН ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
Нужда учит человека. А тем более медведя.
Фрам сумел использовать в своей жизни горькие плоды приобретенного
опыта. Принесло ему пользу и то, чему он научился от людей.
Он уже знал, как соорудить себе убежище, такое прочное и красивое"
какого не сумел бы построить себе никакой другой белый медведь с тех пор,
как на свете существует их племя. Теперь, когда бушевала пурга, он уже не
дрожал, как бездомная собачонка, в ледяной щели, насквозь продуваемой
ветром.
Если "под рукой" у него не оказывалось готовой ледяной берлоги, он
строил себе жилище сам: поднявшись на задние лапы, таскал прозрачные ледяные
глыбы, клал их одну на другую, потом прикрывал широкой плоской льдиной и
набивал в щели снег, чтобы не дуло. А в пургу даже закрывал вход ледяной
дверью, как прежде дверцу клетки в зверинце цирка Струцкого.
Так Фрам стал "мастером-каменщиком".
Особых хлопот для этого не требовалось. Сколько раз в своей прежней
жизни он наблюдал, как цирковые мастера ставили за один день на пустыре
конюшни и склады для реквизита, разбивали палатки! Здесь спешить было
незачем: день длился несколько месяцев -- времени хоть отбавляй!
Никакая программа гала-представления, о котором оповещали расклеенные
по стенам афиши, не торопила его.
-- Скорей, скорей! -- покрикивал, бывало, директор.
-- Давай, нажимай!.. -- торопили друг друга мастера.
-- Когда будет готово? -- интересовались гимнасты и эквилибристы.
-- Скорей, скорей! -- кричали, путаясь под ногами по своему обычаю,
клоуны.
Фрама никто не понукал. Он работал с прохладцем, обдуманно, расчетливо.
Правда, у него не было, как у цирковых мастеров, ни выгруженных из
вагонов материалов, ни хранившегося в ящиках инструмента. Ни дерева, ни
гипса, ни песка, ни мастерка, ни молотка, ни гвоздей! Настоящая бедность!
На то это и полюс!
Фрам не знал истории Робинзона Крузо, очутившегося после
кораблекрушения на необитаемом острове, на другом конце земного шара, в
теплых морях. Он понятия не имел о том, как умело строил себе хижину
Робинзон, изготовлял нитки и иголки, шил одежду из звериных шкур, приручал
диких коз и сеял пшеницу. Теперь, сам того не зная, он тоже был своего рода
Робинзоном и выходил из любого положения благодаря смекалке и умению.
Труднее было обеспечить себя насущной пищей.
Робинзон имел ружье и удочку, охотился и удил рыбу. Почувствовав голод,
он сразу находил чем заморить червяка.
Но что было делать Фраму?
Фрам был медведем, не научившимся самому главному в медвежьей жизни --
охоте. Голодный и несчастный, он все же не решался убивать животных, пуская
в ход клыки и когти.
Из той другой, цирковой жизни на него смотрели большие, круглые,
кроткие тюленьи глаза.
Ему казалось, что они смотрят на него с упреком.
Неугомонных песцов Фрам угощал "пощечинами" за неслыханную их дерзость.
Подумать только: шарили у него в берлоге, возились и сновали между ног,
когда он спал; перекликались визгливым лаем, дрались из-за птиц, которых они
притаскивали в его логово, наполняя его белым пухом и пером. Ему ничего не
стоило перебить им хребет лапой, нужно было только ударить чуть сильней. Но
Фрам их щадил.
Он шлепал их мягкой лапой, точь-в-точь как в цирке глупого Августина,
когда тот к нему приставал и получал от него, к восторгу галерки, легкий
шлепок по колпаку или по красному, как спелый помидор, носу, который от
этого сплющивался.
Песец, получивший шлепок, смущенно поднимался и удирал без оглядки,
радуясь, что дешево отделался.
Некоторое время Фрам пировал за счет своего упрямого дикого собрата.
Он знал от людей, что все живые существа на свете имеют свою кличку.
Тигров и цирке Струцкого звали Раджа или Ким; попугаев -- Коко или Джек;
слонов -- Колосс или Гни-дерево; обезьян -- Ники или Пики.
У каждого была своя кличка, свое прозвище и своя история.
У дикаря была большая, но совершенно пустая голова, без единой искры
разума. Поэтому Фрам окрестил его "Пустоголовым". После первой же встречи он
понял, что с ним не сговоришься.
Пустоголовый отправлялся на охоту. Фрам ему не мешал и выходил на берег
полюбоваться океаном, где ледяное поле уже растаяло и где теперь плыли в
неведомые дали айсберги -- таинственные галеры без руля, без парусов и без
гребцов. Потом, не торопясь, отыскивал следы Пустоголового. По этим кровавым
следам нетрудно было сообразить, что охота была удачной, что охотник
спрятался и наверняка уже уплетает в укромном уголке свою добычу.
Фрам являлся к нему в самый разгар пира, поднимался на задние лапы и
козырял с плутовским видом, словно говоря:
-- Приятного аппетита, Пустоголовый! Рад гостю?
Не успев даже облизнуться, дикарь пускался со всех ног наутек. А Фрам
располагался в его тайнике, как дома, и приканчивал все, что оставалось.
Наевшись, он хлопал себя лапой по брюху и шел отдыхать без всяких угрызений
совести по поводу того, что бесцеремонно живет за чужой счет.
Со временем, однако, Пустоголовый отчаялся, трудясь на своего
нахлебника.
Он бросил все и уплыл на льдине в другие края, где нет сумасшедших
медведей, которые кувыркаются через голову, превращаются в резиновый мяч,
когда хочешь их ударить, а к тому же еще и бессовестно издеваются над тобой.
Фрам остался один. Опять началась голодовка.
Бесплатная столовая закрылась. Хозяин исчез, оставив своего постоянного
гостя голодать.
У Фрама вытянулась морда, подвело брюхо.
Под шкурой выпирали кости, когда он вечером укладывался спать.
-- Это не жизнь! -- ворчал он про себя. -- Тяжело, Фрам, очень тяжело.
Как быть?
Что делать?
Он решил уйти подальше от берега, в глубь острова. Но там оказалась
пустыня: все живое тянулось к взморью, где можно было поживиться рыбой, где
отдыхали на солнышке птицы со своими выводками.
Фрам вернулся с еще более длинной мордой, с еще более подведенным от
голода брюхом и торчащими ребрами. Изменив план действий, он отправился в
новый поход: вокруг острова.
Солнце теперь уже стояло посреди неба. Снег ослепительно сверкал.
Ослепительно искрились льдины.
Океан расстилался сколько хватал глаз, зеленый и бескрайний, подернутый
мелкой рябью волн.
Иногда к скалам подплывали льдины, останавливались без якоря и потом
отчаливали и уплывали дальше бесконечной вереницей.
На таких прозрачных ледяных плотах с одного края океана до другого
иногда путешествовали, нежась в ярких солнечных лучах, моржи и тюлени.
А один раз -- один-единственный -- Фрам увидел пароход.
Застучало сердце. Горячая волна крови остановила дыхание. Пароход!.
Люди!.. Может, тот самый охотник, который доставил его на пустынный остров и
так заботливо оставил ему запас провизии в природном холодильнике прибрежных
скал. Может, с ним и та молодая женщина, которая гладила его ласковой,
доброй рукой. Пароход!.. Люди!.. Другой мир... Тот далекий мир, где его
понимали, где он никогда не бывал одинок, не знал голода и не чувствовал
себя таким чужим, как в этой глухомани, где пустоголовые медведи либо
скалятся и рычат, либо удирают, когда к ним подходишь.
Фрам поднялся на задние лапы и радостно замахал, в виде приветствия,
передними.
Но пароход, не заметив его, растаял в дымке горизонта.
Может быть, судно направлялось к другим, отмеченным на карте островам,
где есть хижины охотников или рыбаков?
А может, ему просто померещилось и никакого парохода не было?
Океан снова превратился в враждебную водную пустыню, изборожденную
только плавучими льдами.
Фрам побрел дальше, вдоль усеянного скалами берега. Там ему неожиданно
встретился новый родич: на этот раз белая медведица с двумя медвежатами.
После неудачи с Пустоголовым Фрам решил, что разумнее всего будет
рассеять подозрения с самого начала. Новая встреча обрадовала его. Он искал
друга. Медвежата могли оказаться сиротами, без отца. Он был готов взять их
под свое покровительство и научить множеству забавных штук.
Поэтому он еще издали начал делать медведице дружеские знаки --
конечно, по мере своего разумения и своих возможностей.
Поднявшись на задние лапы, он отдал ей честь, проделал сальто-мортале,
прошелся колесом и на передних лапах, подбросил вверх и. поймал один, два,
три, четыре, пять комьев снега, наконец, приблизился, вальсируя, к
незнакомке.
Будь она человеком, медведица перекрестилась бы от изумления. Чем ближе
подвигался, грациозно вальсируя, Фрам, тем дальше она от него пятилась.
Ей было непонятно, что хочет от нее этот медведь-клоун. Возможно, она
тоже, как Пустоголовый, сочла его опасным сумасшедшим или даже привидением.
Зато медвежата сразу выказали свое восхищение. Фортели, которые
проделывал Фрам, им явно нравились. Они не боялись его, не пятились, не
таращили на него тупо глаза. Наоборот, они устремились к нему.
Медведица сердито притянула их к себе лапой. Ее ворчание обещало им
хорошую встрепку, когда они останутся одни. А пока что ей предстояло
разделаться с этим буффоном.
Фрам был от нее в каких-нибудь пяти шагах.
Ему хотелось приласкать белых пушистых медвежат, как он, бывало, ласкал
в цирке человеческих детенышей, гладя их лапой по головке когда они звали
его, чтоб он поделился с ними конфетами или когда., он рассаживал их в ложах
по красным плюшевым креслам.
Но такие мирные намерения не укладывались в голове медведицы. Она,
видно, приходилась Пустоголовому не иначе, как родной сестрицей, и ничего
лучшего не знала, как рычать и показывать клыки. Медвежат она отодвинула
лапой себе за спину, чтобы очистить место для драки, потом взъерошилась и,
раскачивая голову, с ревом ринулась в бой.
Фрам ловко увернулся. Это удалось ему даже лучше, чем он ожидал,
благодаря тому, что у него было пустое брюхо. Он тут же вернулся на прежнее
место и с сожалением посмотрел на покатившуюся кубарем медведицу, которая
уткнулась носом в лед.
Потом попробовал -- добрая душа! -- помочь ей встать и галантно
протянул для этого лапу: люди приучили его к вежливости. Но медведица
сердито ощерилась, напряглась, вонзила клыки в протянутую лапу и наверно
оторвала бы ее с мясом и куском шкуры, если бы Фрам и тут не воспользовался
человеческой наукой. Он просто зажал ей свободной лапой нос и остановил
дыхание. Когда опешившая сестра Пустоголового отпустила лапу, Фрам подтащил
ее за нос к медвежатам и повернулся к ней спиной.
Потом залез на скалу и принялся зализывать рану. Медведица проводила
его грозным рычанием.
Сидя на скале, Фрам прикинулся, что ничего не слышит: ему не хотелось
ни драться, ни дурачиться.
Противники смерили друг друга глазами: он сверху вниз, она снизу вверх.
В эту минуту цирковая выучка оказалась сильнее обиды и боли. Зализав
рану, Фрам состроил такую же рожу, как глупый Августин, когда ему хотелось
выразить кому-нибудь презрение, и проделал с высоты своей скалы великолепное
сальто-мортале. Возмущенная медведица подтащила к себе медвежат и прыгнула
вместе с ними на плавучую льдину.
Она покинула поле битвы, не желая иметь дело с паяцем.
Позади скалы Фрам обнаружил почти нетронутую тушу убитого ею моржа, --
опять бесплатная столовая! Он наелся до отвала за счет медведицы и пожалел о
том, что хозяйка столовой так же, как Пустоголовый, бросила гостя,
предоставив ему угощаться в одиночестве.
После этого происшествия Фрам встретил еще одного медведя, потом
другого и всячески старался завязать с ними дружбу. Он приближался к ним с
опаской, без выученных в цирке шутовских приветствий и клоунад, как сделал
бы всякий обыкновенный медведь. Дикий собрат показывал клыки, и тогда,
волей-неволей, ученый медведь, чтобы избежать драки по всем медвежьим
правилам, пускал в ход фигуры глупого Августина или те, которым он научился
от Ники и Пики. Он довольствовался тем, что изумлял и пугал. И стоило ему
начать свои цирковые шутки, вроде сальто-мортале, вальса, хождения на
передних лапах или стояния на голове, как его дикий родич застывал с
вытаращенными глазами, не осмеливаясь затевать сражения с таким
необыкновенным и непонятным противником, а потом, бросив добычу,
стремительно спасался бегством в своих белых, чересчур широких меховых
панталонах и, отбежав подальше, карабкался на скалу повыше.
Взобравшись туда, дикарь удивленно и испуганно глядел на зверя, который
был по всем внешним признакам таким же медведем, как и он сам, но по своим
ухваткам никак на медведя не походил.
Фрам поднимался на задние лапы, а передними и головой делал дружеские,
миролюбивые знаки. Его урчание говорило при этом:
-- Ну же, подходи, что ли! Это твоя добыча. Твое право... Я приглашаю
тебя на твой собственный пир!.. Что за черт! Видно, все вы родные братья
тому Пустоголовому, который удрал с острова. Прошу к столу! Жаль только, что
у меня нет бутылки пива на льду, чтобы угостить тебя, как я угощал глупого
Августина в цирке Струцкого...
Но все проявления дружбы встречали отпор.
Медведи прятались за скалы или удирали, путаясь в своих белых
шароварах.
Фрам понял наконец, что он на долгое время обречен на полное
одиночество.
Какая-то злая, необъяснимая тайна препятствовала его дружбе с дикими
медведями Заполярья.
Они чувствовали в нем чужака, пришельца из другого мира.
Он был незваным гостем.
Зачем он здесь, что ему надо?
Он не принимал жизнь всерьез. Так, по крайней мере, казалось. Вздорный,
несерьезный медведь.
Он появлялся из-за скалы в самый разгар пира. Хозяин ворча поднимал
морду, скалился, готовясь броситься в бой. Потом, увидев прыжки через
голову, сальто-мортале, шутовское военное приветствие и вальс, начинал
пятиться на четвереньках и пускался наутек, оставляя Фраму добычу, а Фрам
принимался ее уписывать.
Не теряя надежды встретить кого-нибудь более толкового, кто мог бы
стать ему товарищем, он перекочевывал с одного острова на другой по ледяному
мосту или на плавучих льдинах. Но повсюду было одно и то же, повсюду его
встречали враждебным ворчанием и обнаженными клыками.
Света в Заполярье становилось все меньше. Громадное красное солнце
клонилось к западу.
Приближалась полярная ночь, которая длится несколько месяцев.
Фрам построил себе на берегу океана зимнюю берлогу.
В мутных, сизых сумерках океан затянулся толстой ледяной корой. Уже не
видно было зеленых разводий. Сколько хватал глаз вокруг расстилалось белое,
стеклянистое ледяное поле без конца и без края. Белые птицы улетели в теплые
страны. Полярные крачки, серебристые и сизые чайки, нырки и другие птицы
сбивались в станицы и спешили на юг.
Небо опустело.
Потом солнце опустилось за линию горизонта.
Некоторое время край неба еще розовел на западе. Но розовая полоска
становилась все уже, все бледнее, потом все погрузилось в кромешную тьму.
Завыла северная пурга, понесла, закрутила снег, наметая сугробы. Ледяные
поля трещали и лопались с пушечным грохотом.
Полярная зима и полярная ночь завладели белой пустыней и замерзшими
водами.
Кто бы подумал, что где-то далеко есть теплые, ярко освещенные города,
где гремят трамваи и снует на бульварах оживленная толпа? Кто бы подумал,
что ветер там все еще треплет старую, отклеившуюся от стены цирковую афишу,
на которой изображен Фрам, белый медведь? Или что некий курносый мальчуган,
опершись на стол затекшими локтями, не отрываясь читает в этот поздний час
книжку о полярных экспедициях?
XI. БУФФОН ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
Нужда учит человека. А тем более медведя.
Фрам сумел использовать в своей жизни горькие плоды приобретенного
опыта. Принесло ему пользу и то, чему он научился от людей.
Он уже знал, как соорудить себе убежище, такое прочное и красивое"
какого не сумел бы построить себе никакой другой белый медведь с тех пор,
как на свете существует их племя. Теперь, когда бушевала пурга, он уже не
дрожал, как бездомная собачонка, в ледяной щели, насквозь продуваемой
ветром.
Если "под рукой" у него не оказывалось готовой ледяной берлоги, он
строил себе жилище сам: поднявшись на задние лапы, таскал прозрачные ледяные
глыбы, клал их одну на другую, потом прикрывал широкой плоской льдиной и
набивал в щели снег, чтобы не дуло. А в пургу даже закрывал вход ледяной
дверью, как прежде дверцу клетки в зверинце цирка Струцкого.
Так Фрам стал "мастером-каменщиком".
Особых хлопот для этого не требовалось. Сколько раз в своей прежней
жизни он наблюдал, как цирковые мастера ставили за один день на пустыре
конюшни и склады для реквизита, разбивали палатки! Здесь спешить было
незачем: день длился несколько месяцев -- времени хоть отбавляй!
Никакая программа гала-представления, о котором оповещали расклеенные
по стенам афиши, не торопила его.
-- Скорей, скорей! -- покрикивал, бывало, директор.
-- Давай, нажимай!.. -- торопили друг друга мастера.
-- Когда будет готово? -- интересовались гимнасты и эквилибристы.
-- Скорей, скорей! -- кричали, путаясь под ногами по своему обычаю,
клоуны.
Фрама никто не понукал. Он работал с прохладцем, обдуманно, расчетливо.
Правда, у него не было, как у цирковых мастеров, ни выгруженных из
вагонов материалов, ни хранившегося в ящиках инструмента. Ни дерева, ни
гипса, ни песка, ни мастерка, ни молотка, ни гвоздей! Настоящая бедность!
На то это и полюс!
Фрам не знал истории Робинзона Крузо, очутившегося после
кораблекрушения на необитаемом острове, на другом конце земного шара, в
теплых морях. Он понятия не имел о том, как умело строил себе хижину
Робинзон, изготовлял нитки и иголки, шил одежду из звериных шкур, приручал
диких коз и сеял пшеницу. Теперь, сам того не зная, он тоже был своего рода
Робинзоном и выходил из любого положения благодаря смекалке и умению.
Труднее было обеспечить себя насущной пищей.
Робинзон имел ружье и удочку, охотился и удил рыбу. Почувствовав голод,
он сразу находил чем заморить червяка.
Но что было делать Фраму?
Фрам был медведем, не научившимся самому главному в медвежьей жизни --
охоте. Голодный и несчастный, он все же не решался убивать животных, пуская
в ход клыки и когти.
Из той другой, цирковой жизни на него смотрели большие, круглые,
кроткие тюленьи глаза.
Ему казалось, что они смотрят на него с упреком.
Неугомонных песцов Фрам угощал "пощечинами" за неслыханную их дерзость.
Подумать только: шарили у него в берлоге, возились и сновали между ног,
когда он спал; перекликались визгливым лаем, дрались из-за птиц, которых они
притаскивали в его логово, наполняя его белым пухом и пером. Ему ничего не
стоило перебить им хребет лапой, нужно было только ударить чуть сильней. Но
Фрам их щадил.
Он шлепал их мягкой лапой, точь-в-точь как в цирке глупого Августина,
когда тот к нему приставал и получал от него, к восторгу галерки, легкий
шлепок по колпаку или по красному, как спелый помидор, носу, который от
этого сплющивался.
Песец, получивший шлепок, смущенно поднимался и удирал без оглядки,
радуясь, что дешево отделался.
Некоторое время Фрам пировал за счет своего упрямого дикого собрата.
Он знал от людей, что все живые существа на свете имеют свою кличку.
Тигров и цирке Струцкого звали Раджа или Ким; попугаев -- Коко или Джек;
слонов -- Колосс или Гни-дерево; обезьян -- Ники или Пики.
У каждого была своя кличка, свое прозвище и своя история.
У дикаря была большая, но совершенно пустая голова, без единой искры
разума. Поэтому Фрам окрестил его "Пустоголовым". После первой же встречи он
понял, что с ним не сговоришься.
Пустоголовый отправлялся на охоту. Фрам ему не мешал и выходил на берег
полюбоваться океаном, где ледяное поле уже растаяло и где теперь плыли в
неведомые дали айсберги -- таинственные галеры без руля, без парусов и без
гребцов. Потом, не торопясь, отыскивал следы Пустоголового. По этим кровавым
следам нетрудно было сообразить, что охота была удачной, что охотник
спрятался и наверняка уже уплетает в укромном уголке свою добычу.
Фрам являлся к нему в самый разгар пира, поднимался на задние лапы и
козырял с плутовским видом, словно говоря:
-- Приятного аппетита, Пустоголовый! Рад гостю?
Не успев даже облизнуться, дикарь пускался со всех ног наутек. А Фрам
располагался в его тайнике, как дома, и приканчивал все, что оставалось.
Наевшись, он хлопал себя лапой по брюху и шел отдыхать без всяких угрызений
совести по поводу того, что бесцеремонно живет за чужой счет.
Со временем, однако, Пустоголовый отчаялся, трудясь на своего
нахлебника.
Он бросил все и уплыл на льдине в другие края, где нет сумасшедших
медведей, которые кувыркаются через голову, превращаются в резиновый мяч,
когда хочешь их ударить, а к тому же еще и бессовестно издеваются над тобой.
Фрам остался один. Опять началась голодовка.
Бесплатная столовая закрылась. Хозяин исчез, оставив своего постоянного
гостя голодать.
У Фрама вытянулась морда, подвело брюхо.
Под шкурой выпирали кости, когда он вечером укладывался спать.
-- Это не жизнь! -- ворчал он про себя. -- Тяжело, Фрам, очень тяжело.
Как быть?
Что делать?
Он решил уйти подальше от берега, в глубь острова. Но там оказалась
пустыня: все живое тянулось к взморью, где можно было поживиться рыбой, где
отдыхали на солнышке птицы со своими выводками.
Фрам вернулся с еще более длинной мордой, с еще более подведенным от
голода брюхом и торчащими ребрами. Изменив план действий, он отправился в
новый поход: вокруг острова.
Солнце теперь уже стояло посреди неба. Снег ослепительно сверкал.
Ослепительно искрились льдины.
Океан расстилался сколько хватал глаз, зеленый и бескрайний, подернутый
мелкой рябью волн.
Иногда к скалам подплывали льдины, останавливались без якоря и потом
отчаливали и уплывали дальше бесконечной вереницей.
На таких прозрачных ледяных плотах с одного края океана до другого
иногда путешествовали, нежась в ярких солнечных лучах, моржи и тюлени.
А один раз -- один-единственный -- Фрам увидел пароход.
Застучало сердце. Горячая волна крови остановила дыхание. Пароход!.
Люди!.. Может, тот самый охотник, который доставил его на пустынный остров и
так заботливо оставил ему запас провизии в природном холодильнике прибрежных
скал. Может, с ним и та молодая женщина, которая гладила его ласковой,
доброй рукой. Пароход!.. Люди!.. Другой мир... Тот далекий мир, где его
понимали, где он никогда не бывал одинок, не знал голода и не чувствовал
себя таким чужим, как в этой глухомани, где пустоголовые медведи либо
скалятся и рычат, либо удирают, когда к ним подходишь.
Фрам поднялся на задние лапы и радостно замахал, в виде приветствия,
передними.
Но пароход, не заметив его, растаял в дымке горизонта.
Может быть, судно направлялось к другим, отмеченным на карте островам,
где есть хижины охотников или рыбаков?
А может, ему просто померещилось и никакого парохода не было?
Океан снова превратился в враждебную водную пустыню, изборожденную
только плавучими льдами.
Фрам побрел дальше, вдоль усеянного скалами берега. Там ему неожиданно
встретился новый родич: на этот раз белая медведица с двумя медвежатами.
После неудачи с Пустоголовым Фрам решил, что разумнее всего будет
рассеять подозрения с самого начала. Новая встреча обрадовала его. Он искал
друга. Медвежата могли оказаться сиротами, без отца. Он был готов взять их
под свое покровительство и научить множеству забавных штук.
Поэтому он еще издали начал делать медведице дружеские знаки --
конечно, по мере своего разумения и своих возможностей.
Поднявшись на задние лапы, он отдал ей честь, проделал сальто-мортале,
прошелся колесом и на передних лапах, подбросил вверх и. поймал один, два,
три, четыре, пять комьев снега, наконец, приблизился, вальсируя, к
незнакомке.
Будь она человеком, медведица перекрестилась бы от изумления. Чем ближе
подвигался, грациозно вальсируя, Фрам, тем дальше она от него пятилась.
Ей было непонятно, что хочет от нее этот медведь-клоун. Возможно, она
тоже, как Пустоголовый, сочла его опасным сумасшедшим или даже привидением.
Зато медвежата сразу выказали свое восхищение. Фортели, которые
проделывал Фрам, им явно нравились. Они не боялись его, не пятились, не
таращили на него тупо глаза. Наоборот, они устремились к нему.
Медведица сердито притянула их к себе лапой. Ее ворчание обещало им
хорошую встрепку, когда они останутся одни. А пока что ей предстояло
разделаться с этим буффоном.
Фрам был от нее в каких-нибудь пяти шагах.
Ему хотелось приласкать белых пушистых медвежат, как он, бывало, ласкал
в цирке человеческих детенышей, гладя их лапой по головке когда они звали
его, чтоб он поделился с ними конфетами или когда., он рассаживал их в ложах
по красным плюшевым креслам.
Но такие мирные намерения не укладывались в голове медведицы. Она,
видно, приходилась Пустоголовому не иначе, как родной сестрицей, и ничего
лучшего не знала, как рычать и показывать клыки. Медвежат она отодвинула
лапой себе за спину, чтобы очистить место для драки, потом взъерошилась и,
раскачивая голову, с ревом ринулась в бой.
Фрам ловко увернулся. Это удалось ему даже лучше, чем он ожидал,
благодаря тому, что у него было пустое брюхо. Он тут же вернулся на прежнее
место и с сожалением посмотрел на покатившуюся кубарем медведицу, которая
уткнулась носом в лед.
Потом попробовал -- добрая душа! -- помочь ей встать и галантно
протянул для этого лапу: люди приучили его к вежливости. Но медведица
сердито ощерилась, напряглась, вонзила клыки в протянутую лапу и наверно
оторвала бы ее с мясом и куском шкуры, если бы Фрам и тут не воспользовался
человеческой наукой. Он просто зажал ей свободной лапой нос и остановил
дыхание. Когда опешившая сестра Пустоголового отпустила лапу, Фрам подтащил
ее за нос к медвежатам и повернулся к ней спиной.
Потом залез на скалу и принялся зализывать рану. Медведица проводила
его грозным рычанием.
Сидя на скале, Фрам прикинулся, что ничего не слышит: ему не хотелось
ни драться, ни дурачиться.
Противники смерили друг друга глазами: он сверху вниз, она снизу вверх.
В эту минуту цирковая выучка оказалась сильнее обиды и боли. Зализав
рану, Фрам состроил такую же рожу, как глупый Августин, когда ему хотелось
выразить кому-нибудь презрение, и проделал с высоты своей скалы великолепное
сальто-мортале. Возмущенная медведица подтащила к себе медвежат и прыгнула
вместе с ними на плавучую льдину.
Она покинула поле битвы, не желая иметь дело с паяцем.
Позади скалы Фрам обнаружил почти нетронутую тушу убитого ею моржа, --
опять бесплатная столовая! Он наелся до отвала за счет медведицы и пожалел о
том, что хозяйка столовой так же, как Пустоголовый, бросила гостя,
предоставив ему угощаться в одиночестве.
После этого происшествия Фрам встретил еще одного медведя, потом
другого и всячески старался завязать с ними дружбу. Он приближался к ним с
опаской, без выученных в цирке шутовских приветствий и клоунад, как сделал
бы всякий обыкновенный медведь. Дикий собрат показывал клыки, и тогда,
волей-неволей, ученый медведь, чтобы избежать драки по всем медвежьим
правилам, пускал в ход фигуры глупого Августина или те, которым он научился
от Ники и Пики. Он довольствовался тем, что изумлял и пугал. И стоило ему
начать свои цирковые шутки, вроде сальто-мортале, вальса, хождения на
передних лапах или стояния на голове, как его дикий родич застывал с
вытаращенными глазами, не осмеливаясь затевать сражения с таким
необыкновенным и непонятным противником, а потом, бросив добычу,
стремительно спасался бегством в своих белых, чересчур широких меховых
панталонах и, отбежав подальше, карабкался на скалу повыше.
Взобравшись туда, дикарь удивленно и испуганно глядел на зверя, который
был по всем внешним признакам таким же медведем, как и он сам, но по своим
ухваткам никак на медведя не походил.
Фрам поднимался на задние лапы, а передними и головой делал дружеские,
миролюбивые знаки. Его урчание говорило при этом:
-- Ну же, подходи, что ли! Это твоя добыча. Твое право... Я приглашаю
тебя на твой собственный пир!.. Что за черт! Видно, все вы родные братья
тому Пустоголовому, который удрал с острова. Прошу к столу! Жаль только, что
у меня нет бутылки пива на льду, чтобы угостить тебя, как я угощал глупого
Августина в цирке Струцкого...
Но все проявления дружбы встречали отпор.
Медведи прятались за скалы или удирали, путаясь в своих белых
шароварах.
Фрам понял наконец, что он на долгое время обречен на полное
одиночество.
Какая-то злая, необъяснимая тайна препятствовала его дружбе с дикими
медведями Заполярья.
Они чувствовали в нем чужака, пришельца из другого мира.
Он был незваным гостем.
Зачем он здесь, что ему надо?
Он не принимал жизнь всерьез. Так, по крайней мере, казалось. Вздорный,
несерьезный медведь.
Он появлялся из-за скалы в самый разгар пира. Хозяин ворча поднимал
морду, скалился, готовясь броситься в бой. Потом, увидев прыжки через
голову, сальто-мортале, шутовское военное приветствие и вальс, начинал
пятиться на четвереньках и пускался наутек, оставляя Фраму добычу, а Фрам
принимался ее уписывать.
Не теряя надежды встретить кого-нибудь более толкового, кто мог бы
стать ему товарищем, он перекочевывал с одного острова на другой по ледяному
мосту или на плавучих льдинах. Но повсюду было одно и то же, повсюду его
встречали враждебным ворчанием и обнаженными клыками.
Света в Заполярье становилось все меньше. Громадное красное солнце
клонилось к западу.
Приближалась полярная ночь, которая длится несколько месяцев.
Фрам построил себе на берегу океана зимнюю берлогу.
В мутных, сизых сумерках океан затянулся толстой ледяной корой. Уже не
видно было зеленых разводий. Сколько хватал глаз вокруг расстилалось белое,
стеклянистое ледяное поле без конца и без края. Белые птицы улетели в теплые
страны. Полярные крачки, серебристые и сизые чайки, нырки и другие птицы
сбивались в станицы и спешили на юг.
Небо опустело.
Потом солнце опустилось за линию горизонта.
Некоторое время край неба еще розовел на западе. Но розовая полоска
становилась все уже, все бледнее, потом все погрузилось в кромешную тьму.
Завыла северная пурга, понесла, закрутила снег, наметая сугробы. Ледяные
поля трещали и лопались с пушечным грохотом.
Полярная зима и полярная ночь завладели белой пустыней и замерзшими
водами.
Кто бы подумал, что где-то далеко есть теплые, ярко освещенные города,
где гремят трамваи и снует на бульварах оживленная толпа? Кто бы подумал,
что ветер там все еще треплет старую, отклеившуюся от стены цирковую афишу,
на которой изображен Фрам, белый медведь? Или что некий курносый мальчуган,
опершись на стол затекшими локтями, не отрываясь читает в этот поздний час
книжку о полярных экспедициях?
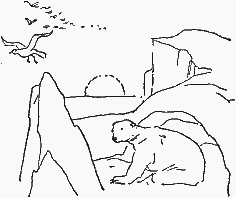 * * *
* * *
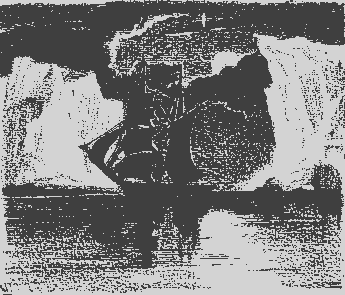 ХII. ДРУЗЬЯ ФРАМА В ДАЛЕКИХ ГОРОДАХ НЕ ЗАБЫЛИ ЕГО
Да, где-то далеко, в своем родном городе, Петруш, курносый мальчик с
сияющими глазами, не забыл Фрама.
Он тоже слышал, что директор цирка отослал ученого белого медведя
обратно, в страну вечных льдов, на родину. И теперь из города, где ветер еще
не сорвал со стен все цирковые афиши, Петруш мысленно следит за Фрамом. Ему
помогает воображение.
Вероятно, ученого белого медведя помнят и другие дети, из бесчисленных
городов и городков, где побывал цирк Струцкого со своим Ноевым ковчегом,
населенным слонами, тиграми, львами, змеями и обезьянами. Может быть, ребята
до сих пор рассказывают друг другу о смешных выходках Фрама. Может,
какой-нибудь шалун и теперь еще подражает ему, изображая, как белый медведь
играет на гармонике или как он приглашает на арену охотников помериться с
ним силами в честной борьбе.
Но Петруш не ограничивается веселыми воспоминаниями. Воспоминания для
него -- не только повод для смеха и шалостей.
Из любви к Фраму он принялся всерьез читать разные книжки о белых
медведях и полярных экспедициях.
Кончив одну книжку, он принимался за другую, потом перечитывал их
заново.
А на следующий день с воодушевлением рассказывал приятелям о
прочитанных приключениях.
Белокурая голубоглазая девочка, внучка бывшего учителя, исполнила свое
обещание поговорить с дедушкой. Она начала издалека, прибегая к маленьким,
невинным хитростям:
-- Дедушка, помнишь того мальчика, который стоял рядом с нами не
прощальном представлении в цирке?
-- Помню. А что?
-- Ужасно он тогда расстроился из-за Фрама!..
-- Мне тоже было жалко медведя... Дальше?
-- Так вот про этого мальчика...
-- Что такое?
-- Ему страшно хотелось бы почитать рассказы о белых медведях и о
путешествиях на полюсы...
-- Очень похвально. Я заметил, что у него умные глаза.
-- Верно, дедушка, он умный. Но у него нет книг!
Дед прикинулся удивленным и улыбнулся в седые усы: он с первых же слов
внучки догадался, что у нее была своя цель, когда она завела этот разговор.
-- Как так, нет книг? И откуда, спрашивается, тебе известно, что у него
нет книг?
-- Он сам мне сказал, когда мы с ним вместе разглядывали старую афишу
цирка, на которой нарисован Фрам. "Бедный Фрам! -- говорил тогда этот
мальчик. -- Где-то он теперь?!.." А потом сказал, что у него совсем нет
книг, и я обещала попросить у тебя. Это плохо?
-- Нет, ты поступила хорошо. Очень хорошо!.. А как зовут мальчика, ты
знаешь?
-- Петруш!
-- А дальше?
-- Просто Петруш! Дальше он не сказал.
-- А знаешь ли ты, по крайней мере, где он живет?
-- Нет, я и этого не знаю... Зачем мне знать?
-- Чтобы дать ему ответ -- сообщить, когда прийти за книгами.
-- Он сам придет. Я ему сказала зайти завтра, после обеда. Это плохо ?
-- Нет, хорошо. Очень хорошо, хитрюга! Удивляюсь, зачем ты меня еще
спрашиваешь?
-- Я боялась, что ты рассердишься, дедушка!
-- Разве я когда-нибудь сердился, когда меня просили одолжить книгу?
И действительно, к старому учителю многие приходили за книгами. На этот
раз он даже обрадовался: ведь речь шла об умном мальчике, которому хотелось
узнать про жизнь белых медведей и приключения полярных исследователей.
Петруш явился на следующий день, как было условлено. И старый
учитель-пенсионер, поговорив с ним немного, пригласил его следовать за
собой:
-- Ну, идем наверх, в библиотеку. Выберем вместе, что тебе придется по
вкусу.
Так Петруш получил, для начала, две книги о белых медведях и о полярных
экспедициях. Читая их, он стал "специалистом", как называл его полушутя,
полусерьезно Михай Стойкан, когда по вечерам видел сына уткнувшимся в книгу.
-- Как, Петруш, добрался до полюса или еще нет? -- дразнил он
мальчугана.
-- Нет, папа, и, наверно, еще нескоро доберусь. Я еще только дневник
Нансена читаю...
-- Ну хорошо, расскажи и мне что-нибудь из прочитанного, господин
специалист! -- часто просил его отец.
Петруш не заставлял его повторять просьбу. Он только и ждал, когда его
попросят рассказывать.
И в самом деле, после всего прочитанного он был полон увлекательных
историй и не раз уже говорил дома о твердо принятом решении добраться
когда-нибудь до страны вечных льдов.
-- А не пора ли тебе спать, Петруш? -- спрашивала мать.
-- Еще минуточку, мама! Вот только кончу главу.
-- Смотри не забудь потушить свет!
-- Не беспокойся, мама, потушу...
Покончив с заданными на следующий день уроками, Петруш иногда сидит
допоздна, упершись в стол затекшими локтями, и читает при свете лампы
историю полярных путешествий с самых древних времен. Он тогда совершенно
забывает об играх, о других книгах и даже о стакане чая, который ждет его на
печке. Все вокруг словно отдаляется от него и исчезает за горизонтом, как те
льдины, что скользят по зеленым водам студеных морей.
Он не слышит ни ветра, ни дождя, который стучится в окно. Не слышит ни
сонного лая Лэбуша, который стережет двор, ни стука колес по мостовой, когда
по улице проезжает запоздалый извозчик.
Все его мысли, вся его фантазия -- за стенами дома, за чертой города,
за границами страны, по ту сторону гор и морей.
Он мысленно путешествует с полярными экспедициями среди вечных льдов.
Дрожит от холода вместе с героями этих подвигов. Голодает с ними, бредет с
ними в пургу по сугробам и торосам, слепнет от снежной пыли. Он плачет
вместе с ними над ледяной могилой товарища, сраженного усталостью, морозом и
цынгой. И вместе с ними исторгает из груди радостный крик, когда, преодолев
все трудности, экспедиция наконец добирается до неведомого берега и ставит
флаг на вершине скалы или посреди ледяного поля, куда еще не ступала нога
человека.
Над его столом к стене прибиты рядом две карты.
Он сам увеличил их, найдя в атласе интересовавшие его места.
Одна карта изображает Северный Ледовитый океан со всеми тамошними
морями, берегами материков и островами. Другая -- Антарктику.
На этих картах можно прочесть мудреные названия рек, островов, морей,
заливов и проливов: Обь, Енисей, Лена, Новая Земля, Карское море,
Шпицберген, Гренландия, архипелаг Норденшельда, море Баффина, Берингов
пролив, Гудзонов залив и т. д. А на другой карте -- море Росса, пролив
Дрейка, остров Шарко, мыс Горна... В центре одной карты написано Северный
полюс (6 апреля 1909), другой -- Южный полюс (14 декабря 1911).
Что могли сказать эти карты с их знаками и названиями другим детям? Они
только подняли бы брови и пожали плечами: слишком уж далекие места, слишком
уж чуждо звучат их названия!
Но Петрушу они рассказывают о подвигах первооткрывателей, полных
страданий, воодушевления и величия, о победе человеческой воли в борьбе с
враждебной стихией, ледяными пустынями, неизвестностью, холодом и голодом,
штормами и лютыми вьюгами.
Теперь он знает о "Фраме", другом Фраме, знаменитом судне, на котором
Нансен пересек Северный Ледовитый океан и его моря и на котором впоследствии
отправился открывать Южный полюс Руаль Амундсен.
Ни одно место, ни одно название на этих двух картах больше не тайна для
него.
Сначала он прочел об этих открытиях в кратком изложении. А через год
старый учитель дал ему несколько толстых томов с дневниками самого Нансена,
а затем и Амундсена, которые писались либо в каюте "Фрама", либо в ледяных
хижинах, среди льдов, при сорокаградусном морозе.
Кругом тихо. Даже ветер стих на дворе. Все спят. Ночную тишину нарушает
лишь чуть слышный стрекот сверчка.
Петруш, подперев ладонью лоб, читает дневник Нансена, и воображение
уносит его далеко-далеко, за много тысяч километров от его города, в
полярные пустыни:
5 декабря 1893. Сегодня самая низкая температура: -- 35,7╟ С. Мы
находимся на 78╟50' северной широты, на 6 миль севернее, чем 2 числа сего
месяца.
После обеда величественное северное сияние: небо освещено огненной
дугой, перекинутой с востока на запад. Но позже погода портится: видна лишь
одна звезда -- звезда родины. Как я люблю эту светящуюся точечку! Всякий
раз, поднимаясь на палубу, я ищу глазами эту звезду, и всегда вижу ее
безмятежно сияющей на том же месте. Она представляется мне нашей
покровительницей.
8 декабря... С 7 до 8 утра новый натиск льда на борта нашего корабля.
После обеда я рисовал в каюте и вдруг прямо над головой почувствовал
яростный толчок. Вслед за этим послышался ужасный грохот, словно огромные
массы льда обрушились со снастей на палубу. В одно мгновение все вскочили...
Треск прекратился, следовательно, повреждений "Фрам" не получил. Однако
здорово холодно, так что лучше всего вернуться в каюту.
В 6 часов -- новое сжатие. Оно продолжается двадцать минут. За стенкой
кормовой части корабля поднялась такая возня и грохот, что невозможно было
разговаривать обычным голосом, приходилось кричать во всю глотку. Во время
этого дьявольского шума, от которого чуть не лопались барабанные перепонки,
орган играл мелодию Кьерульфа "Сном забыться не мог я, мешал соловей".
13 декабря... С вечера собаки яростно лают, ни на минуту не смолкая.
Несколько раз караульные ходили осматривать окрестности. Но узнать причину
беспокойства собак так и не удалось.
Утром обнаруживается исчезновение трех собак. После обеда Мугета и
Педер отправляются обследовать снег вокруг корабля, надеясь найти следы
беглецов.
-- Вы бы ружье захватили! -- кричит им Якобсен.
-- Обойдемся и так! -- отвечает Педер.
Сразу под трапом видны медвежьи следы и пятна крови. Несмотря на это,
наши неунывающие товарищи смело шагают по льду в кромешной тьме, имея при
себе лишь фонарь. Вся стая собак их сопровождает.
Они отошли всего на несколько сот шагов, когда из темноты вдруг
появился громадный медведь, при виде которого наши люди галопом бросились к
судну.
Мугета, обутый в легкие башмаки, бежал быстро. Но Педер в своих тяжелых
сапогах на деревянной подошве подвигался с большим трудом.
Он напрасно спешил: тьма такая, что корабля все равно не видно. Бедняга
так растерялся, что, спасаясь от медведя, сбился с дороги. К счастью,
медведь его не преследует, так что волноваться как будто нечего.
Еще пара шагов, и Педер, поскользнувшись, растягивается среди торосов.
Наконец он на гладком льду, которым окружен корабль. Еще несколько
шагов - и он спасен.
Но в эту минуту совсем близко от него что-то двинулось. Педер подумал,
что это собака. Но не успел он сообразить, что происходит, как на него
набрасывается медведь и кусает его. Педер замахивается фонарем и с такой
силой ударяет зверя по морде, что стекло со звоном разбивается на тысячу
осколков.
Медведь в страхе отступает. Воспользовавшись этим, Педер успевает
вскарабкаться на палубу.
Узнав об этом нападении, мы вскакиваем и хватаем ружья. Через несколько
минут медведь лежит мертвый.
Отправляемся на поиски недостающих собак и вскоре находим их
растерзанные трупы. Как видно, медведь незаметно взобрался по трапу на борт,
сцапал первых попавшихся псов и преспокойно спустился на лед.
Счастье, что Квик принесла как раз сегодня двенадцать щенят. Это будет
драгоценным резервом для нашей стаи, сократившейся теперь до двадцати шести
собак...
Петруш переворачивает страницу за страницей. По датам дневника Нансена
видно, что после этого происшествия прошло больше года. Взяв с собой только
одного из своих спутников, Иогансена, Нансен покинул стиснутое льдами судно,
и они отправились по льду с собаками и нартами разыскивать Северный полюс.
Провизии становилось все меньше. Обтянутые моржовой шкурой лодки,
построенные по образцу эскимосских и называемые каяками, постоянно портились
и нуждались в починке.
Но оба мужественно шли вперед. Нансен вел ежедневные записи в своей
тетради:
14 июня 1895. Прошло уже три месяце, как мы покинули наше судно "Фрам",
-- ровно четверть года. С тех пор мы бродим по ледяному полю. Когда же
наконец кончатся наши испытания? Никто не знает...
15 июня... Положение становится отчаянным. Двигаться вперед по мокрому
снегу и льду, полному препятствий, немыслимо. Придется, пожалуй,
пожертвовать последними собаками, чтобы питаться их мясом, потом тащить
нарты самим.
19 июня... После ужина, такого же скудного, как и обед, -- 54 грамма
клейковинного хлеба и 27 граммов масла, -- мы ложимся: сон, как известно,
заменяет обед! Задача теперь состоит в том, чтобы как можно дольше продлить
нашу жизнь, обходясь без еды. Положение ухудшается: никакой дичи, провизия
кончилась.
Всю ночь в ломаю себе голову, стараясь найти выход из нашего положения.
Не сомневаюсь, что спасение придет!..
20 июня... После нескольких часов ходьбы нам преграждает путь большое
разводье. Чтобы переправиться на ту сторону, нужно использовать каяки,
другого выхода нет.
Спускаем каяки на воду, соединяем их при помощи лыж и ставим на этот
помост нарты со всем грузом.
Потом помогаем влезть на него собакам, сколько их у нас еще осталось.
Во время этих приготовлений замечаем плавающего вокруг нас тюленя.
Вскидываю ружье и жду, когда он повернется удобнее для выстрела. Происходит
то же, что с птицей в известной басне: я приготовился стрелять, а добычу
поминай как звали!
Наконец пускаемся в плавание.
7 июля... Теперь у нас осталось всего две собаки. Как только горизонт
на юге светлеет, торопимся перебраться с плавучего острова, до которого мы
доплыли, на высокую, как сторожевая башня, ледяную гору, в непокидающей нас
надежде увидеть сушу. Но куда ни глянь, везде те же белые дали!..
10 июля... Я становлюсь безразличным ко всему на свете. Мы ждем лишь
одного: когда взломается лед. Но лед стоит. Что мне писать в дневнике?
Никаких перемен...
Во время обеда один из псов, Кайяс, начинает лаять. Первое, что я вижу,
высунув голову из палатки, -- медведь...
Хватаю ружье, медведь недоуменно смотрит на меня, и я всаживаю ему пулю
в лоб. Он шатается и, несмотря на смертельную рану, все же кое-как удирает.
Пока я нахожу другой патрон в моем кармане, полном всякой всячины,
зверь успевает добраться до торосов. Раздумывать некогда... Нельзя упускать
добычу, которая сулит нам пищу и спасение. Пускаюсь за медведем бегом. В
нескольких шагах два хорошеньких медвежонка озабоченно ждут на задних лапах
возвращения матери. Значит, мой подранок -- медведица!
При моем появлении все семейство пускается наутек. Начинается
сумасшедшая погоня. Нас не останавливают никакие препятствия, ни торосы, ни
трещины. Мы карабкаемся на волнистые гребни, перепрыгиваем трещины или
перебираемся через них по ледяным мостам... Хотя тяжело раненная медведица
едва волочит ноги, мы настигаем ее с трудом. Я едва за ней поспеваю.
Медвежата трогательно кружат вокруг матери, то и дело забегают вперед,
словно желая показать ей, куда бежать, и ободрить ее...
2 августа... Нашим бедам не предвидится конца. Едва преодолев одну,
попадаем в другую.
4 августа... После ужасающей дороги подходим к разводью. Мы собираемся
переправиться через него на каяке и очищаем кромку от снега. Поставив нарты
на каяк, я держу их, чтоб они не соскользнули. Вдруг слышу у себя за спиной
тяжелое дыхание.
-- Бери скорей ружье! -- кричит Иогансен, который ходил за своими
нартами.
Поворачиваюсь на месте и что вижу? Громадный медведь повалил Иогансена,
который обороняется с большим трудом. Хочу достать ружье, лежавшее в чехле,
в передней части моего челна, но каяк ускользает от меня в воду. Первая
мысль -- прыгнуть в каяк и застрелить медведя оттуда. Но я тут же отдаю себе
отчет в том, как мне трудно будет взять его на прицел. Быстро вытаскиваю
каяк на берег, чтобы достать ружье. Думая только об этом, не имею времени
оглядеться кругом.
-- Торопись, если хочешь поспеть! И, главное, получше целься!.. --
кричит бедный Иогансен.
Наконец ружье у меня в руках. Медведь от меня в двух метрах, он вот-вот
растерзает Кайфаса. Целюсь тщательно, как просил Иогансен, и посылаю зверю
пулю за ухо.
Громадина падает замертво.
31 декабря... Вот и кончился этот необычный год. В общем, он не был
таким уж плохим.
Там, на родине, веселый перезвон колоколов возвещает конец старого
года. Здесь не слышно ничего, кроме завывания ветра на льду.
Облака снега ошалело катятся по торосам и ледяной глади, а сквозь белую
пелену скользит полная луна, которой нет дела до бега времени. Она безмолвно
следует по своему пути, равнодушная к человеческим страданиям.
Мы затеряны в жуткой ледяной пустыне, за тысячи километров от дорогих
нам существ, и наши мысли то и дело возвращаются к любимому, родному краю.
Одна страница вечности дописана, открывается другая. Что в ней будет?
1 января 1896. Термометр показывает 41,5╟ ниже нуля. Лютый мороз.
Никогда еще этой зимой не было такого холода. Я полностью ощутил это
особенно вчера, когда у меня замерзли кончики всех пальцев.
8 января... Ужасающая пурга... Стоит высунуть голову из нашей ледяной
хижины, как бешеный ветер норовит подхватить тебя и закинуть бог весть
куда... У нас жестоко мерзнут ноги. Мы часами колотим их одну о другую, но
согреть никак не можем.
Нет, мне никогда не забыть этих страшных ночей! И среди всех страданий
мысль все время улетает на родину, к своим!
А время бежит... Лив, моей девочке, исполняется сегодня три года. Уже
большая, наверно. Бедный ребенок! Нет, Лив, ты не потеряешь отца! Надеюсь,
что твой будущий день рождения мы проведем вместе. Я буду рассказывать тебе
о медведях, о моржах, о песцах, о всех диковинных зверях, которые обитают в
этих нехоженых местах.
1 февраля... Любопытную жизнь ведем мы в этой ледяной берлоге среди
полярной ночи! Хотя бы почитать какую-нибудь книжку!.. Лоции и календарь я
перечел столько раз, что знаю их наизусть. Но как бы то ни было, один вид
печатного слова для нас утешение: тонкая ниточка, которая соединяет нас с
цивилизацией.
16 мая... Опять медведи. Медведица с медвежонком. Убивать этих животных
нет смысла, потому что у нас еще достаточно запасов от прежней охоты. Но мы
считаем, что не мешает приблизиться и понаблюдать за ними, а в то же время и
дать им острастку, чтоб они не тревожили нас ночью.
При нашем появлении медведица принимается рычать, но сейчас же отходит,
мордой подталкивая перед собой медвежонка. Иногда она останавливается и
оборачивается посмотреть, что мы делаем.
Дойдя до берега, семейство отправляется дальше, пробираясь между льдин;
мать впереди, прокладывая путь детенышу. Тем временем я почти догоняю их,
так что нас теперь разделяет всего несколько шагов.
Медведица тотчас поворачивается и весьма угрожающе двигается на меня.
Она подходит совсем близко, устрашающе рычит, но не двигается с места, пока
не убеждается, что медвежонок немного отдалился. Тогда, сделав несколько
больших шагов, я быстро догоняю его.
Медведица повторяет маневр, чтобы защитить детеныша и прикрыть его
отступление. Ясно, что ей очень хочется броситься и растерзать меня в
клочки. Но прежде всего ее заботит безопасность медвежонка. Она отходит лишь
тогда, когда он опять отдаляется на некоторое расстояние. Добрались до
ледника, мать опережает детеныша, чтобы показывать ему дорогу. Быстро идти
по снегу малыш не может. Медведица толкает его, следя за каждым моим шагом,
за каждым движением.
Такая материнская любовь действительно трогательна...
Петруш отрывается от книги и смотрит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана, пытаясь отыскать на ней то место, где находился
Нансен, когда писал эти строки в своем дневнике.
Уже поздно. Но мальчик не чувствует усталости. Его не клонит ко сну.
Дневник Нансена близится к концу. Он хорошо знаком Петрушу, который уже раз
прочел его. И все же он ни за что не ляжет, пока не пробежит глазами
последних страниц.
Так же, как Нансена, когда он писал свой дневник, вдохновляли
переживаемые им перипетии, так вдохновляют они теперь и его маленького
читателя. Умом и сердцем он участвует в них, они доказывают ему, что
человеческое упорство и воля сильнее враждебных стихий.
Ни холод, ни пурга, ни голод не могут одолеть человека.
Победа остается за ним. Достаточно быть готовым к борьбе, трезво
мыслить и никогда не терять ни хладнокровия, ни веры в свои силы.
Петруш снова склонился над книгой, он дочитывает последние страницы
дневника Нансена.
12 июня... Выходим в четыре утра, подняв парус на нартах. За ночь мороз
скрепил снег. Подгоняемые попутным ветром, мы надеемся двигаться легко и
быстро, как на парусной лодке...
Хмурая окраска неба на юге доказывает, что вода там свободна от льда. И
в самом деле, мы слышим, к нашей радости, рев яростных волн. В шесть часов
останавливаемся.
Мы снова перед свободным, ожившим, одухотворяющим морем. Какая радость
слышать его знакомый рев после того, как мы так долго видели его скованным
тяжелым стеклянистым панцирем!
Каяки спущены на воду; примкнуты борт к борту; паруса подняты... Теперь
вперед!..
Под вечер мы высаживаемся на кромке берегового льда, чтобы размять
ноги, затекшие после долгого путешествия в каяке.
Разгуливаем взад и вперед возле каяков. Морской ветер спал; кажется, он
все более заворачивает к западу. Интересно, сможем ли мы продолжать плавание
при таком ветре? Чтобы удостовериться в этом, залезаем на ближайший торос...
Вглядываюсь в горизонт.
-- Каяки унесло!.. -- кричит Иогансен.
Бежим со всех ног к берегу. Каяки уже далеко, их быстро уносит в
открытое море: веревка, которой они были привязаны, порвалась.
-- Держи часы!.. -- говорю я Иогансену.
И мигом скидываю одежду, которая помешает мне плыть. Но раздеться
совсем не решаюсь -- боюсь судороги. Прыжок -- и я в воде!
Ветер дует с суши и быстро гонит каяки в открытое море. Вода ледяная,
одежда стесняет движения, а каяки все более отдаляются.
Я не только не догоняю их, а наоборот, отстаю. Поймать их мне
представляется почти невозможным.
Но они уносят с собой последнюю надежду на спасение и все, что мы
имеем. У нас не осталось даже ножа. Утону ли я или вернусь на берег без
каяков -- результат будет тот же: неминуемая гибель для обоих.
Я упорствую и делаю отчаянное усилие. Только такой ценой мы еще можем
спастись. Когда устаю, ложусь на спину. В этом положении мне виден Иогансен,
который нетерпеливо топчется на льду. Бедняге не стоится на месте: положение
его действительно ужасно, потому что, с одной стороны, он лишен возможности
прийти мне на помощь, а с другой -- у него нет ни малейшей надежды на успех
моих усилий. Броситься в воду за мной не имело никакого смысла. Позже он
говорил мне, что это ожидание было самым мучительным моментом в его жизни.
Снова плывя на груди, я увидел, что каяки от меня недалеко. Это придало
мне сил, и я еще отчаяннее заработал руками и ногами. Ноги, однако, начали
неметь: скоро я больше не смогу ими двигать...
Между тем расстояние все уменьшалось. Если я выдержу еще несколько
мгновений, мы спасены. Итак, вперед!.. Я все больше приближаюсь к каякам.
Еще одно усилие, и я буду в одном из них!
Наконец-то! Хватаюсь за лыжу, которая лежит в задней части каяков, и
подтягиваюсь к ним. Мы спасены! Пытаюсь взобраться в каяк, но окоченевшее
тело отказывается мне служить. Одно мгновение мне кажется, что все напрасно:
я достиг цели, но она не дается мне в руки.
После этой страшной минуты сомнения мне все же удается занести ногу на
нарты и вскарабкаться на них. Пользуюсь этой точкой опоры и сразу берусь за
весло. Но тело мое так онемело, что я еле двигаюсь.
Нелегко мне было грести одному в двух каяках. Приходилось все время
поворачиваться, делая гребок то направо, то налево. Конечно, если бы мне
удалось разъединить каяки и грести только в одном, взяв другой на буксир,
дело пошло бы куда легче. Однако в том состоянии, в котором я находился,
такой маневр был невозможен: мороз сковал бы меня прежде, чем я успел бы это
проделать. Лучшим средством согревания оставалась энергичная гребля.
Но я весь закоченел. Когда ветер дул с моря, мне казалось, что меня
пронизывают тысячи копий. Мороз пробрал меня окончательно: я стучал зубами,
дрожал всем телом, но решил не сдаваться -- изо всех сил работать веслами. И
мне это удалось!
Вдруг я увидел перед собой двух кайр. Соблазн был чересчур велик: я
схватил ружье и одним выстрелом убил обеих птиц.
Иогансен рассказывал мне потом, как он перепугался, когда услышал этот
выстрел: думал, что случилось несчастье и никак не мог понять, что я делаю.
А когда увидел, что я гребу и показываю ему добычу, решил, что я, наверно,
сошел с ума.
Наконец я добрался до берега, но меня отнесло течением далеко от того
места, где я бросился в воду. Иогансен прибежал по кромке льда мне
навстречу.
Я вконец обессилел. Тащусь, еле держась на ногах и лязгая зубами.
Иогансен раздевает меня, укладывает и накрывает всем, что только может
найти. Меня продолжает трясти. Пока он ставил палатку и жарил кайр, я
заснул. Когда проснулся, обед был готов. Упоительно горячий суп и чудесное
жаркое стерли последние следы этого ужасного приключения, словно его вовсе и
не бывало...
15 июня... Отправляемся дальше в час ночи. Погода тишайшая. Море кишит
моржами...
Быстро подвигаемся вдоль берега. К несчастью, густой туман скрывает все
и мешает разбираться в топографии... Прямо перед нами показывается морж.
Иогансен, который гребет впереди на своем каяке, ищет укрытия за плавучей
льдиной.
Пока я собираюсь последовать его примеру, морское чудовище бросается на
мой каяк, стараясь опрокинуть его клыками. Сильный удар веслом по голове
заставляет его повернуться. Однако он тут же повторяет атаку. Тогда я
хватаюсь за ружье, но морж исчезает.
Но как раз когда я радовался избавлению от опасности, почувствовал, что
мои ноги в воде. Оказывается, морж продырявил клыками дно каяка, который
быстро наполняется водой. Едва успеваю выскочить на плавучий ледяной утес:
каяк опрокидывается. Все же мне удается с помощью Иогансена вытянуть его на
льдину.
Все мое имущество теперь плавает в каяке, наполненном водой. Боюсь, как
бы не погибли наши драгоценные фотографические пластинки.
Длина пробоины -- 15 сантиметров. Такая починка не шутка, особенно с
тем скромным набором инструментов, которым мы располагаем.
17 июня... Было далеко за полдень, когда я проснулся и принялся за
приготовление завтрака. Приношу воду для супа, развожу огонь, режу мясо,
словом, налаживаю стряпню.
Затем вылезаю на ближайший торос и оглядываю окрестности.
Ветерок доносит с ближайшей суши гомон птиц, которые гнездятся в
скалах. Слушаю этот звук, следя глазами за стаями кайр, которые кружат над
моей головой; любуюсь белой полоской берега с черными пятнами скал.
Внезапно оттуда доносится собачий лай. Или мне показалось? Вздрагиваю и
прислушиваюсь. Но ничего больше не слышно, кроме горластых птиц. Впрочем,
нет: опять лай! Сомнений быть не может!
Тут я вспоминаю, что слышал вчера что-то похожее на два ружейных
выстрела, но приписал этот звук сжатию льда.
Кричу Иогансену, что в этой части суши слышны собаки.
-- Собаки? -- машинально повторяет он спросонья. -- Собаки?! Он сейчас
же встает и идет в разведку.
Мой спутник ни за что не желает мне верить. Он тоже слышал что-то вроде
собачьего лая, но гомон птичьего базара заглушал все. По его мнению, меня
просто обманул слух. Я, однако, уверен, что не ошибся.
За торопливым завтраком мы теряемся в догадках. Может быть, в этих
местах находится какая-нибудь экспедиция? Если так, то кто это? Англичане
или соотечественники? Что, если это та самая английская экспедиция, которая
собиралась обследовать Землю Франца-Иосифа, когда мы отправлялись в
плавание? Как нам тогда быть?
-- Очень просто! -- говорит Иогансен. -- Мы проведем с ними денек-
другой, а потом направимся к Шпицбергену. Иначе бог весть, когда мы попадем
домой!..
В этом отношении я с ним совершенно согласен. Займем у англичан
провизии, в которой мы так нуждаемся, и отправимся дальше.
Покончив с завтраком, я ухожу на рекогносцировку, а Иогансена оставляю
сторожить каяки.
Теперь я слышу только гомон птичьего базара и пронзительные крики кайр.
Возможно, что Иогансен прав. Пожалуй, я и в самом деле ошибся.
Вдруг я замечаю на снегу следы. Они слишком велики для песца. Значит,
здесь, в каких-нибудь ста метрах от нашего стана, прошли собаки. Почему же
они не лаяли? Как это мы их не видели? А может, это все-таки следы песцов?..
В голове у меня странная путаница. Я перехожу от сомнения к
уверенности, потом снова начинаю сомневаться. Неужели же сейчас настанет
конец нашим сверхчеловеческим трудам, всем нашим страданиям и лишениям? Мне
это кажется почти невероятным. И все же, быть может, это именно так.
Слышу лай, теперь уже гораздо более отчетливый, и повсюду вокруг вижу
следы, которые могут быть только собачьими. Потом опять ничего, кроме гама
крылатых стай. И меня вновь одолевает сомнение. Уж не сон ли все это?
Но нет! Это настоящие следы на настоящем снегу. Я вижу их своими
глазами, касаюсь руками...
Если действительно экспедиция обосновалась в этих местах, куда мы
добрались вчера, значит, мы находимся не на Земле Гиллиса или на
какой-нибудь новой суше, как я думал, а на южном побережье Земли
Франца-Иосифа, как мы и предполагали несколько дней тому назад.
Перебираюсь наконец со льда на сушу, и вдруг мне кажется, что я слышу
человеческий голос.
Первый, после трех лет, чужой голос! Сердце бьется так сильно, что того
и гляди разорвется.
Залезаю на скалу и кричу изо всех сил. Этот неизвестный голос среди
ледяной пустыни прозвучал для меня, как голос самой жизни, как приветствие
далеких земель, может быть, даже родины.
Вскоре я слышу другой голос, потом среди белых ледяных вершин вижу
черную фигуру. Потом еще одну черную фигуру... Человека. Человек!..
Уж не Джонсон ли это или один из его спутников? А может,
соотечественник? Идем навстречу друг другу. Махаю шапкой. Он тоже. Слышу,
как он разговаривает с собакой. Нет, не норвежец. Еще несколько шагов, и мне
кажется, что я узнаю начальника иностранной экспедиции, с которым уже
встречался однажды, до нашего отплытия.
Я приветствую его, и мы жмем друг другу руки.
Над нами полог тумана, под ногами -- шершавый, неровный лед. Вокруг
тонкая полоска суши, сплошь покрытой льдом и снегом. Идем рядом: щеголеватый
исследователь, который, видно, не отваживался заходить в глубь полной
опасностей полярной пустыни, лощеный господин в высоких резиновых сапогах,
распространяющий вокруг очень приятный запах мыла, к которому весьма
чувствительно острое обоняние такого примитивного человека, как я, и дикарь
в отрепьях, с длинными волосами и дремучей бородой, покрытый грязью и
копотью тюленьего жира, которым заправлена наша лампа. В таком виде сам черт
меня не узнал бы.
-- Очень счастлив вас встретить! -- говорит незнакомец.
-- Спасибо. Я тоже.
-- Ваше судно где-нибудь поблизости?
-- Нет. Оно не здесь.
-- Сколько вас?
-- Я и мой товарищ, который остался на кромке льда. Разговаривая таким
образом, мы направляемся к берегу. Вдруг не знакомец останавливается,
внимательно смотрит на меня и восклицает:
-- А вы, случайно, не Нансен?
-- Он самый.
-- Бог ты мой! Как я рад вас видеть!
Дружески улыбаясь, он горячо жмет мне руки, потом спрашивает:
-- Откуда вы?
-- На 84╟ северной широты, после двухлетнего плавания, я и мой товарищ
покинули наше судно "Фрам" на волю ветра и течения и достигли 86╟13'. Оттуда
мы добрались до Земли Франца-Иосифа, где и зимовали. А теперь направляемся к
Шпицбергену...
-- Рад слышать о вашей удаче. Вы совершили блестящее путешествие, и я в
восторге, что на мою долю выпало счастье первым поздравить вас!
Иностранец снова пожимает мне руку. В теплоте этого рукопожатия я
ощущаю нечто большее, чем простую вежливость. Он предлагает нам
гостеприимство в своем лагере и сообщает мне, что они со дня на день ожидают
судно с провизией для экспедиции. Как только приходит мой черед говорить, я
спрашиваю его о моей семье и узнаю, что когда, два года тому назад, он
отправлялся в плавание, жена моя и дочь были совершенно здоровы. Потом
спрашиваю о Норвегии, моей дорогой родине...
Затем каждый из нас делает по два выстрела, чтобы оповестить Иогансена.
Немного погодя мы встречаемся с целой группой участников экспедиции,
знакомимся, начинаются поздравления. Вскоре происходит встреча и с
остальными ее членами -- учеными разных специальностей, в том числе и
ботаниками. Ботаник Фишер говорит мне, что, увидев издали незнакомого
человека, он сразу подумал, что это мог быть только я, но потом, когда перед
ним предстал мужчина с черными, как смоль, волосами и бородой, решил, что
ошибся. Когда все собрались, начальник экспедиции сообщил, что мы достигли
86╟13'.
Громкое троекратное "ура" приветствовало эту новость...
За разговором мы незаметно дошли до стана экспедиции -- деревянного
дома русского образца.
Входим в это теплое гнездышко, затерянное среди ледяной неприютной
пустыни. Потолок и стены затянуты зеленым сукном, на стенах-- фотографии и
гравюры, этажерки заставлены книгами и приборами. Сушится одежда и обувь.
Посреди топится печка. Необыкновенное ощущение мира и радости охватывает
меня среди всех этих непривычных предметов, от которых мы успели отвыкнуть.
Три года тяжелой ответственности и постоянной тревоги мгновенно спадают с
моих плеч. Впервые чувствую себя в безопасности среди льдов. Мучительное
ожидание, которое было моим уделом в эти годы борьбы, исчезает в лучезарном
сиянии восходящего солнца. Мой долг выполнен, дело завершено.
Теперь мне остается только отдыхать и ждать прибытия парохода, который
доставит меня на родину.
Джэксон передает мне тщательно запечатанную шкатулку. В ней письма из
Норвегии. Он взял их наудачу, с тем чтобы передать мне, если нас сведет
случай. И случай доставил мне эту радость. Открываю шкатулку дрожащими
руками, с отчаянно бьющимся сердцем. Все письма приносят только добрые
вести.
На стол передо мной ставится все, что нужно для обильного завтрака:
хлеб, масло, молоко, сахар, кофе, вкус которых я забыл за полтора с лишним
года.
Но самое ценное благодеяние цивилизации я познал лишь тогда, когда
скинул с себя отрепья и выкупался. Грязи на нас накопилось столько, что мы
избавились от нее только после бесчисленных омовений. А когда мы оделись в
чистое, мягкое платье, побрились и остригли длинные, сбитые в войлок волосы,
превращение из дикарей в цивилизованных людей было завершено. Оно произошло
быстрее, чем наше преображение и приспособление в обратном смысле, которое
совершилось восемнадцать месяцев тому назад, когда мы с Иогансеном оказались
одни среди ледяной пустыни.
Мы живем в мире и уюте, поджидая судно, которое вернет нас на родину.
Вместе с научной экспедицией занимаемся проверкой наблюдений, тщательно
собранных нами за долгое путешествие.
26 июля... Наконец "Виндворд", судно с провизией, прибыло!.. Мы
грузимся, я поднимаюсь на палубу... Узнаем удивительные новости о том, что
произошло на свете за наше отсутствие. При помощи лучей Рентгена можно
фотографировать людей сквозь деревянные двери в несколько сантиметров
толщиной, а также засевшие в теле раненых пули! Шпицберген открыт для
туристов! Норвежское пароходное общество обеспечивает регулярное сообщение
между нашей страной и этим полярным краем. Там построена гостиница и
работает почтовое отделение с особыми марками. Швед Андре задумал добраться
до полюса на воздушном шаре и ждет только попутного ветра. Если бы мы дошли
до Шпицбергена, мы нашли бы там комфортабельную гостиницу и встретили бы
туристов, а не бедных рыбаков, как мы думали. Забавно получилось бы
оказаться в толпе туристов грязными, оборванными, в том виде, в каком мы
вышли из нашего зимнего логова.
7 августа... Настала минута прощания и с этим последним привалом на
нашем пути... "Виндворд" везет нас домой. Путешествие проходит быстро и
приятно.
Вечером 12 августа различаю впереди черную полоску, очень низко, на
линии горизонта. Что это такое? Это земля, земля Норвегии! Гляжу долго,
часами, как завороженный. Большую часть ночи провожу на палубе, любуясь этой
темной полоской. Меня пробирает лихорадочная дрожь: какие вести ждут нас
дома?
21 августа... Бросаем якорь в порту Хаммерфеста, самого северного
города нашей дорогой родины. Со всех концов земного шара проливается целый
поток поздравительных телеграмм. Но о "Фраме" нет никаких известий. Такое
запоздание начинает быть странным и внушает беспокойство.
Утром 26 августа меня будят. Какой-то человек настойчиво желает со мной
говорить.
-- Сию минуту! Только оденусь.
-- Ничего. Выходите так!..
Поспешно одеваюсь и нахожу заведующего почтово-телеграфным отделением с
депешей.
-- Очень важная для вас телеграмма из Скьерве! -- говорит он. --
Поэтому я решил вручить ее вам лично...
В эту минуту я не думаю ни о чем другом на свете, кроме как о "Фраме" и
судьбе моих спутников.
Дрожащими руками вскрываю депешу и читаю: Доктору Нансену
Фрам прибыл сюда сегодня. Все в порядке.
Все здоровы. Сейчас выходим в Тромсе. Приветствуем вас на родине.
Отто Свердруп.
Я так взволнован, что почти теряю дар слова.
-- Прибыл "Фрам"! -- наконец удается мне произнести.
Перечитываю телеграмму несколько раз, не веря своим глазам. В городе,
во всей Норвегии начинается всеобщее ликование.
На следующий день мы в Тромсе, где уже стоит на якоре "Фрам". Последний
раз, что я его видел, наше судно было наполовину погребено во льду. Я
оставил его вместе с нашими спутниками во власти дрейфующих льдов, чтобы
проверить океанские течения, что и составляло главную задачу экспедиции, а
сам отправился с Иогансеном по льду и разводьям, чтобы обследовать другие
пустынные области, где мы с ним и пробродили более полутора лет. Теперь наш
"Фрам" гордо бороздит воды родины. Повсюду его приветствуют криками "ура"!
Садимся на наше дорогое судно и плывем дальше.
Все время на нашем пути народ толпится на набережных, будто сама
Норвегия гордится нами и, как мать, встречая нас с распростертыми объятиями,
благодарит за все понесенные труды. Хотя мы лишь выполнили наш долг, доведя
до конца взятую на себя задачу.
Вот мы и вернулись к жизни, и она открывается перед нами, полная света
и надежд. Вечереет. Солнце садится за синее море и над тихими просторами вод
разливается осенняя грусть. Какая красота!.. Уж не сон ли все это? Нет.
Закатный свет озаряет знакомые, милые силуэты, от них веет миром и верой в
жизнь.
Ледяные пустыни и призрачный лунный свет полярных ночей кажутся теперь
далеким видением иного мира, оставшимся позади сном. Но какова была бы жизнь
без мечты и таких видений?!
Петруш, курносый мальчик с огоньком в глазах, перевернул последнюю
страницу книги.
Закинув голову, он пристально глядит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана. Ему больше не хочется спать. Локти так онемели,
что он их не чувствует.
Как незаметно пролетело время!
Он возбужден, взволнован. Воображение умчало его в страну вечных льдов,
по следам героического корабля "Фрам" и его тезки, белого медведя.
Через далекие от его страны моря и горы таинственно протянулась
невидимая нить, связавшая людей, животных и события, которых, казалось бы,
ничто не могло собрать в одно место и в одно время.
И все же невидимая связь эта осуществилась, оставив глубокий след во
многих жизнях. Старый Ларс, бывший матрос на "Фраме" Нансена, когда-то
окрестил именем судна, на котором плавал в молодости, медвежонка, пойманного
охотниками в вечных льдах. Медвежонок этот стал Фрамом, знаменитым белым
медведем цирка Струцкого. И много лет спустя на прощальном представлении
цирка в городе, куда ему больше никогда не суждено было вернуться, этот
ученый медведь пробудил неутолимый интерес к полярным экспедициям в
мальчугане, который вместе со всеми кричал в тот вечер: "Фрама! Фрама!"
И вот теперь этот курносый мальчуган с неугасимым огоньком в глазах
всем своим существом заново переживает перипетии Нансена. Переживает их
страницу за страницей, как они были записаны в дневнике великого
исследователя много лет тому назад в далекой белой пустыне, среди дрейфующих
льдов.
Петруш страдает вместе с ним, дрожит вместе с ним от холода и томится
от голода; вместе с ним чуть было не утонул в разводье и спасся, чтобы
вместе порадоваться пришедшей в конце концов победе.
Книга закрыта. Петруш глядит на карту. Потом мысль его снова уносится к
Фраму, белому медведю.
-- Где-то он теперь, наш Фрам?.. -- спрашивает себя мальчик,
укладываясь спать. -- Интересно, что он теперь делает в своей ледяной
пустыне?
На следующее утро мысль его работает гораздо бодрее.
Окруженный сверстниками, размахивая руками, он воодушевленно, с важным
видом рассказывает о других белых медведях и о различных происшествиях в
полярных краях. О том, как однажды белый медведь тихонько залез на зажатый
льдами корабль Нансена и уволок трех собак; о том, как Нансен чуть было не
утонул в такой холодной воде, что у него захватывало дух, и как спасся, о
том, как он вернулся на родину и с каким ликованием его встречали.
Зимой вся ребячья орава шумно принялась лепить из снега Фрама, ученого
белого медведя.
-- Стойте! Давайте сделаем ему глаза из угольков! -- кричит один из
приятелей Петруша.
Он бежит, спотыкается, падает на четвереньки и опрокидывает снежного
медведя.
Все хохочут, валят виновника в сугроб, ставят его в наказание вверх
ногами, потом начинают лепить медведя.
Без Петруша, однако, дело не ладится. Медведь едва держится, а если
получше вглядеться, то он вовсе и не похож на медведя: ноги не в меру
длинные, голова слишком велика.
-- Петруш! Петруш! Иди, помоги нам! Ты у нас настоящий мастер!.. Петруш
тут как тут. Он округляет рукой голову и морду Фрама, знает, как надо
вставить глаза -- угольки, чтобы вышло похоже на настоящего белого медведя.
Отступит на шаг-другой, взглянет, покачает головой и что-то поправит
или прибавит.
-- Брр! Ну и морозище! Я совсем замерз... Даже пальцев не чувствую, --
хнычет кто-то из ребят, дуя в кулачки.
-- То же богатырь!.. Трясешься при двух градусах мороза! -- отчитывает
его Петруш. -- А что бы ты сказал на полюсе, при сорока или пятидесяти
градусах?
-- Ничего бы не сказал, потому что мне там нечего делать. Отправляйся
туда сам -- ты ж у нас специалист по полярным экспедициям!
-- А вот и отправлюсь!
-- И вытерпишь мороз в сорок градусов?!
-- Вытерплю! Нансен и другие как терпели? Не видишь, что я даже не
чувствую холода?
И действительно, готовясь к путешествию в полярные льды, Петруш уже
теперь начал себя закалять. По утрам он с ног до головы обтирается снегом.
Никогда больше не кашляет. Никогда не чихает. На знает, что такое простуда,
болезнь.
Это -- здоровый, жизнерадостный мальчик. За последнее время он
вытянулся, и с каждым днем его все больше любят товарищи по играм и
одноклассники. Вырос он и в глазах учительницы: книги о полярных экспедициях
научили его зрело мыслить, принимать быстрые решения, не увиливать от
ответственности и не полагаться на случай.
Когда затевались экскурсии в окрестности города, в лес или на озеро,
его выбирали вожаком и он всегда оказывался на высоте.
Да и дома, в их бедном хозяйстве, в семье, у которой так много
трудностей, старшие братья и сестры уже не считают его раззявой и путаником,
как прежде. Теперь они полагаются на него и даже нередко обращаются к нему
за советом и помощью:
-- А ты, Петруш, как думаешь? Попробуй, может, у тебя лучше получится,
не зря ж ты занимаешься всякой всячиной.
Петруш и в самом деле умеет вязать морские узлы, которых и зубами не
развяжешь. Когда на дворе бушует метель, он так затыкает щели в дверях и
окнах, что в доме совсем не дует; умеет починить и санки, и коньки, и самые
старые лыжи мальчишек со всей улицы. Кроме того, он изобрел "снегоходы",
сплетенные из лозы и веревок, на которых можно ходить, не проваливаясь, и по
мягкому снегу, и по насту.
Но областью, в которой Петруш действительно не знал себе равных, были
рассказы из полярной жизни.
Даже голос его менялся. Весь раскрасневшийся, с еще более блестящими,
чем обычно, глазами, он заставлял других переживать все, что перечувствовал
сам, когда читал о приключениях исследователей.
-- Петруш, ты, мне кажется, прибавил кое-что от себя, -- заметит иногда
недоверчивый слушатель. -- Слишком уж ты приукрасил своих героев.
-- Прибавил от себя? Приукрасил?! -- возмущается Петруш. -- Вот я тебе
книгу принесу! Прочтешь своими глазами!.. И я еще не все рассказал!..
Готовься!..
Случилось как-то, что и сам он, читая, сначала не поверил своим глазам.
Все объяснилось только тогда, когда он прочел книгу от корки до корки.
Однажды учитель-пенсионер встретил его на улице. Петруш поздоровался и
хотел уже пройти дальше, но тот остановил его:
-- Погоди, Петруш, -- сказал дедушка белокурой Лилики. -- Почему ты
больше к нам не заходишь?
-- Боялся вас беспокоить. Я же перечитал все книги о белых медведях и
полярных экспедициях в вашей библиотеке...
Учитель улыбнулся и шутливо погрозил ему пальцем:
-- Очень мило! Значит, ты только из-за книг и приходил? А когда книги
кончились, нас забыл!
Петруш замялся.
-- Боялся вам надоесть... -- смущенно пробормотал он.
-- Час от часу не легче! -- все с той же доброй улыбкой продолжал
журить его старик. -- Разве я когда-нибудь давал тебе понять, что ты надоел?
Наоборот, мне всегда было приятно обсуждать с тобой прочитанные книги.
Не найдя ответа, мальчик опустил глаза. Отвечать ему было нечего.
Петруш чувствовал себя виноватым и действительно не знал, как это
получилось, что он вот уже целый месяц не заходил к старому учителю и его
светлокудрой внучке.
-- Не расстраивайся, Петруш, я на тебя не сержусь. А вот Лилика
действительно обижена. Но мы это уладим. Жаль только, что ты упустил случай
прочесть новую книжку.
-- Новую книжку? -- воодушевился Петруш.
-- Да! Новую книжку...
-- О белых медведях и полярных экспедициях?
-- Да, о белых медведях и полярных экспедициях. Только на этот раз
книжка гораздо более интересная, чем те, которые ты прочел до сих пор. Речь
в ней идет о знаменитых русских исследователях, которые первыми изучили
бескрайние просторы далекого Севера.
-- И эта книга еще у вас? -- взволнованно спросил Петруш, сгорая от
нетерпения. -- Вы ее еще никому не одолжили?
-- Любителей нашлось немало. Но я ее не отдал...
-- А мне дадите?
-- По справедливости, я должен был бы сначала дать ее тем, кто просил
до тебя, Петруш! -- ответил старый учитель. -- Но ты уже сам себя наказал:
вместо того чтобы прочесть ее на две недели раньше, ты начнешь ее только
завтра!
-- Сегодня! Я прочту ее сегодня! -- выпалил нетерпеливый Петруш.
-- Хорошо, Петруш. Если так, проводи меня домой и получай книгу.
-- Я прочту ее сегодня же вечером, а завтра верну,-- пообещал Петруш.
-- Не торопись с обещаниями! -- наставительно сказал бывший учитель. --
Я вовсе не требую от тебя такой спешки. Эту книгу нужно читать обстоятельно.
В самом деле, книга, которую получил на этот раз Петруш, была непохожа
на прежние. И, конечно, за один вечер он ее не одолел.
Сперва он читал ее без передышки три дня кряду после обеда.
Потом перечитывал ее, уже не торопясь, целую неделю.
Книга была толстая, напечатанная мелким шрифтом, с картинками, картами,
полная приключений, пережитых исследователями, и подробным описанием всех
происшествий. Каждая страница, каждая фотография рассказывала о неслыханных
подвигах отважных русских исследователей и первооткрывателей.
Одни разведывали на неисследованных островах месторождения нефти, угля
и металлов. Другие изучали животный и растительный мир северных морских
глубин. Были и такие, которые искали сохранившихся во льду гигантских
зверей, давно вымерших. Так были найдены в природных "холодильниках"
мамонты, жившие много десятков тысяч лет назад. Эти чудовища были гораздо
больше и тяжелее слонов "Ноева ковчега" цирка Струцкого. Они так хорошо
сохранились -- такими же, какими были в тот день, когда их засосал и покрыл
ледник, -- что охотничьи и ездовые собаки тамошних жителей кидались на них,
как на живых.
Петруш смотрит прибитую над столом карту, прослеживает глазами и
мысленно восстанавливает путь, проделанный русскими исследователями.
Потом, перед тем как лечь спать, опять спрашивает себя: "Где в этой
ледяной пустыне Фрам? И что-то он теперь делает?"
ХII. ДРУЗЬЯ ФРАМА В ДАЛЕКИХ ГОРОДАХ НЕ ЗАБЫЛИ ЕГО
Да, где-то далеко, в своем родном городе, Петруш, курносый мальчик с
сияющими глазами, не забыл Фрама.
Он тоже слышал, что директор цирка отослал ученого белого медведя
обратно, в страну вечных льдов, на родину. И теперь из города, где ветер еще
не сорвал со стен все цирковые афиши, Петруш мысленно следит за Фрамом. Ему
помогает воображение.
Вероятно, ученого белого медведя помнят и другие дети, из бесчисленных
городов и городков, где побывал цирк Струцкого со своим Ноевым ковчегом,
населенным слонами, тиграми, львами, змеями и обезьянами. Может быть, ребята
до сих пор рассказывают друг другу о смешных выходках Фрама. Может,
какой-нибудь шалун и теперь еще подражает ему, изображая, как белый медведь
играет на гармонике или как он приглашает на арену охотников помериться с
ним силами в честной борьбе.
Но Петруш не ограничивается веселыми воспоминаниями. Воспоминания для
него -- не только повод для смеха и шалостей.
Из любви к Фраму он принялся всерьез читать разные книжки о белых
медведях и полярных экспедициях.
Кончив одну книжку, он принимался за другую, потом перечитывал их
заново.
А на следующий день с воодушевлением рассказывал приятелям о
прочитанных приключениях.
Белокурая голубоглазая девочка, внучка бывшего учителя, исполнила свое
обещание поговорить с дедушкой. Она начала издалека, прибегая к маленьким,
невинным хитростям:
-- Дедушка, помнишь того мальчика, который стоял рядом с нами не
прощальном представлении в цирке?
-- Помню. А что?
-- Ужасно он тогда расстроился из-за Фрама!..
-- Мне тоже было жалко медведя... Дальше?
-- Так вот про этого мальчика...
-- Что такое?
-- Ему страшно хотелось бы почитать рассказы о белых медведях и о
путешествиях на полюсы...
-- Очень похвально. Я заметил, что у него умные глаза.
-- Верно, дедушка, он умный. Но у него нет книг!
Дед прикинулся удивленным и улыбнулся в седые усы: он с первых же слов
внучки догадался, что у нее была своя цель, когда она завела этот разговор.
-- Как так, нет книг? И откуда, спрашивается, тебе известно, что у него
нет книг?
-- Он сам мне сказал, когда мы с ним вместе разглядывали старую афишу
цирка, на которой нарисован Фрам. "Бедный Фрам! -- говорил тогда этот
мальчик. -- Где-то он теперь?!.." А потом сказал, что у него совсем нет
книг, и я обещала попросить у тебя. Это плохо?
-- Нет, ты поступила хорошо. Очень хорошо!.. А как зовут мальчика, ты
знаешь?
-- Петруш!
-- А дальше?
-- Просто Петруш! Дальше он не сказал.
-- А знаешь ли ты, по крайней мере, где он живет?
-- Нет, я и этого не знаю... Зачем мне знать?
-- Чтобы дать ему ответ -- сообщить, когда прийти за книгами.
-- Он сам придет. Я ему сказала зайти завтра, после обеда. Это плохо ?
-- Нет, хорошо. Очень хорошо, хитрюга! Удивляюсь, зачем ты меня еще
спрашиваешь?
-- Я боялась, что ты рассердишься, дедушка!
-- Разве я когда-нибудь сердился, когда меня просили одолжить книгу?
И действительно, к старому учителю многие приходили за книгами. На этот
раз он даже обрадовался: ведь речь шла об умном мальчике, которому хотелось
узнать про жизнь белых медведей и приключения полярных исследователей.
Петруш явился на следующий день, как было условлено. И старый
учитель-пенсионер, поговорив с ним немного, пригласил его следовать за
собой:
-- Ну, идем наверх, в библиотеку. Выберем вместе, что тебе придется по
вкусу.
Так Петруш получил, для начала, две книги о белых медведях и о полярных
экспедициях. Читая их, он стал "специалистом", как называл его полушутя,
полусерьезно Михай Стойкан, когда по вечерам видел сына уткнувшимся в книгу.
-- Как, Петруш, добрался до полюса или еще нет? -- дразнил он
мальчугана.
-- Нет, папа, и, наверно, еще нескоро доберусь. Я еще только дневник
Нансена читаю...
-- Ну хорошо, расскажи и мне что-нибудь из прочитанного, господин
специалист! -- часто просил его отец.
Петруш не заставлял его повторять просьбу. Он только и ждал, когда его
попросят рассказывать.
И в самом деле, после всего прочитанного он был полон увлекательных
историй и не раз уже говорил дома о твердо принятом решении добраться
когда-нибудь до страны вечных льдов.
-- А не пора ли тебе спать, Петруш? -- спрашивала мать.
-- Еще минуточку, мама! Вот только кончу главу.
-- Смотри не забудь потушить свет!
-- Не беспокойся, мама, потушу...
Покончив с заданными на следующий день уроками, Петруш иногда сидит
допоздна, упершись в стол затекшими локтями, и читает при свете лампы
историю полярных путешествий с самых древних времен. Он тогда совершенно
забывает об играх, о других книгах и даже о стакане чая, который ждет его на
печке. Все вокруг словно отдаляется от него и исчезает за горизонтом, как те
льдины, что скользят по зеленым водам студеных морей.
Он не слышит ни ветра, ни дождя, который стучится в окно. Не слышит ни
сонного лая Лэбуша, который стережет двор, ни стука колес по мостовой, когда
по улице проезжает запоздалый извозчик.
Все его мысли, вся его фантазия -- за стенами дома, за чертой города,
за границами страны, по ту сторону гор и морей.
Он мысленно путешествует с полярными экспедициями среди вечных льдов.
Дрожит от холода вместе с героями этих подвигов. Голодает с ними, бредет с
ними в пургу по сугробам и торосам, слепнет от снежной пыли. Он плачет
вместе с ними над ледяной могилой товарища, сраженного усталостью, морозом и
цынгой. И вместе с ними исторгает из груди радостный крик, когда, преодолев
все трудности, экспедиция наконец добирается до неведомого берега и ставит
флаг на вершине скалы или посреди ледяного поля, куда еще не ступала нога
человека.
Над его столом к стене прибиты рядом две карты.
Он сам увеличил их, найдя в атласе интересовавшие его места.
Одна карта изображает Северный Ледовитый океан со всеми тамошними
морями, берегами материков и островами. Другая -- Антарктику.
На этих картах можно прочесть мудреные названия рек, островов, морей,
заливов и проливов: Обь, Енисей, Лена, Новая Земля, Карское море,
Шпицберген, Гренландия, архипелаг Норденшельда, море Баффина, Берингов
пролив, Гудзонов залив и т. д. А на другой карте -- море Росса, пролив
Дрейка, остров Шарко, мыс Горна... В центре одной карты написано Северный
полюс (6 апреля 1909), другой -- Южный полюс (14 декабря 1911).
Что могли сказать эти карты с их знаками и названиями другим детям? Они
только подняли бы брови и пожали плечами: слишком уж далекие места, слишком
уж чуждо звучат их названия!
Но Петрушу они рассказывают о подвигах первооткрывателей, полных
страданий, воодушевления и величия, о победе человеческой воли в борьбе с
враждебной стихией, ледяными пустынями, неизвестностью, холодом и голодом,
штормами и лютыми вьюгами.
Теперь он знает о "Фраме", другом Фраме, знаменитом судне, на котором
Нансен пересек Северный Ледовитый океан и его моря и на котором впоследствии
отправился открывать Южный полюс Руаль Амундсен.
Ни одно место, ни одно название на этих двух картах больше не тайна для
него.
Сначала он прочел об этих открытиях в кратком изложении. А через год
старый учитель дал ему несколько толстых томов с дневниками самого Нансена,
а затем и Амундсена, которые писались либо в каюте "Фрама", либо в ледяных
хижинах, среди льдов, при сорокаградусном морозе.
Кругом тихо. Даже ветер стих на дворе. Все спят. Ночную тишину нарушает
лишь чуть слышный стрекот сверчка.
Петруш, подперев ладонью лоб, читает дневник Нансена, и воображение
уносит его далеко-далеко, за много тысяч километров от его города, в
полярные пустыни:
5 декабря 1893. Сегодня самая низкая температура: -- 35,7╟ С. Мы
находимся на 78╟50' северной широты, на 6 миль севернее, чем 2 числа сего
месяца.
После обеда величественное северное сияние: небо освещено огненной
дугой, перекинутой с востока на запад. Но позже погода портится: видна лишь
одна звезда -- звезда родины. Как я люблю эту светящуюся точечку! Всякий
раз, поднимаясь на палубу, я ищу глазами эту звезду, и всегда вижу ее
безмятежно сияющей на том же месте. Она представляется мне нашей
покровительницей.
8 декабря... С 7 до 8 утра новый натиск льда на борта нашего корабля.
После обеда я рисовал в каюте и вдруг прямо над головой почувствовал
яростный толчок. Вслед за этим послышался ужасный грохот, словно огромные
массы льда обрушились со снастей на палубу. В одно мгновение все вскочили...
Треск прекратился, следовательно, повреждений "Фрам" не получил. Однако
здорово холодно, так что лучше всего вернуться в каюту.
В 6 часов -- новое сжатие. Оно продолжается двадцать минут. За стенкой
кормовой части корабля поднялась такая возня и грохот, что невозможно было
разговаривать обычным голосом, приходилось кричать во всю глотку. Во время
этого дьявольского шума, от которого чуть не лопались барабанные перепонки,
орган играл мелодию Кьерульфа "Сном забыться не мог я, мешал соловей".
13 декабря... С вечера собаки яростно лают, ни на минуту не смолкая.
Несколько раз караульные ходили осматривать окрестности. Но узнать причину
беспокойства собак так и не удалось.
Утром обнаруживается исчезновение трех собак. После обеда Мугета и
Педер отправляются обследовать снег вокруг корабля, надеясь найти следы
беглецов.
-- Вы бы ружье захватили! -- кричит им Якобсен.
-- Обойдемся и так! -- отвечает Педер.
Сразу под трапом видны медвежьи следы и пятна крови. Несмотря на это,
наши неунывающие товарищи смело шагают по льду в кромешной тьме, имея при
себе лишь фонарь. Вся стая собак их сопровождает.
Они отошли всего на несколько сот шагов, когда из темноты вдруг
появился громадный медведь, при виде которого наши люди галопом бросились к
судну.
Мугета, обутый в легкие башмаки, бежал быстро. Но Педер в своих тяжелых
сапогах на деревянной подошве подвигался с большим трудом.
Он напрасно спешил: тьма такая, что корабля все равно не видно. Бедняга
так растерялся, что, спасаясь от медведя, сбился с дороги. К счастью,
медведь его не преследует, так что волноваться как будто нечего.
Еще пара шагов, и Педер, поскользнувшись, растягивается среди торосов.
Наконец он на гладком льду, которым окружен корабль. Еще несколько
шагов - и он спасен.
Но в эту минуту совсем близко от него что-то двинулось. Педер подумал,
что это собака. Но не успел он сообразить, что происходит, как на него
набрасывается медведь и кусает его. Педер замахивается фонарем и с такой
силой ударяет зверя по морде, что стекло со звоном разбивается на тысячу
осколков.
Медведь в страхе отступает. Воспользовавшись этим, Педер успевает
вскарабкаться на палубу.
Узнав об этом нападении, мы вскакиваем и хватаем ружья. Через несколько
минут медведь лежит мертвый.
Отправляемся на поиски недостающих собак и вскоре находим их
растерзанные трупы. Как видно, медведь незаметно взобрался по трапу на борт,
сцапал первых попавшихся псов и преспокойно спустился на лед.
Счастье, что Квик принесла как раз сегодня двенадцать щенят. Это будет
драгоценным резервом для нашей стаи, сократившейся теперь до двадцати шести
собак...
Петруш переворачивает страницу за страницей. По датам дневника Нансена
видно, что после этого происшествия прошло больше года. Взяв с собой только
одного из своих спутников, Иогансена, Нансен покинул стиснутое льдами судно,
и они отправились по льду с собаками и нартами разыскивать Северный полюс.
Провизии становилось все меньше. Обтянутые моржовой шкурой лодки,
построенные по образцу эскимосских и называемые каяками, постоянно портились
и нуждались в починке.
Но оба мужественно шли вперед. Нансен вел ежедневные записи в своей
тетради:
14 июня 1895. Прошло уже три месяце, как мы покинули наше судно "Фрам",
-- ровно четверть года. С тех пор мы бродим по ледяному полю. Когда же
наконец кончатся наши испытания? Никто не знает...
15 июня... Положение становится отчаянным. Двигаться вперед по мокрому
снегу и льду, полному препятствий, немыслимо. Придется, пожалуй,
пожертвовать последними собаками, чтобы питаться их мясом, потом тащить
нарты самим.
19 июня... После ужина, такого же скудного, как и обед, -- 54 грамма
клейковинного хлеба и 27 граммов масла, -- мы ложимся: сон, как известно,
заменяет обед! Задача теперь состоит в том, чтобы как можно дольше продлить
нашу жизнь, обходясь без еды. Положение ухудшается: никакой дичи, провизия
кончилась.
Всю ночь в ломаю себе голову, стараясь найти выход из нашего положения.
Не сомневаюсь, что спасение придет!..
20 июня... После нескольких часов ходьбы нам преграждает путь большое
разводье. Чтобы переправиться на ту сторону, нужно использовать каяки,
другого выхода нет.
Спускаем каяки на воду, соединяем их при помощи лыж и ставим на этот
помост нарты со всем грузом.
Потом помогаем влезть на него собакам, сколько их у нас еще осталось.
Во время этих приготовлений замечаем плавающего вокруг нас тюленя.
Вскидываю ружье и жду, когда он повернется удобнее для выстрела. Происходит
то же, что с птицей в известной басне: я приготовился стрелять, а добычу
поминай как звали!
Наконец пускаемся в плавание.
7 июля... Теперь у нас осталось всего две собаки. Как только горизонт
на юге светлеет, торопимся перебраться с плавучего острова, до которого мы
доплыли, на высокую, как сторожевая башня, ледяную гору, в непокидающей нас
надежде увидеть сушу. Но куда ни глянь, везде те же белые дали!..
10 июля... Я становлюсь безразличным ко всему на свете. Мы ждем лишь
одного: когда взломается лед. Но лед стоит. Что мне писать в дневнике?
Никаких перемен...
Во время обеда один из псов, Кайяс, начинает лаять. Первое, что я вижу,
высунув голову из палатки, -- медведь...
Хватаю ружье, медведь недоуменно смотрит на меня, и я всаживаю ему пулю
в лоб. Он шатается и, несмотря на смертельную рану, все же кое-как удирает.
Пока я нахожу другой патрон в моем кармане, полном всякой всячины,
зверь успевает добраться до торосов. Раздумывать некогда... Нельзя упускать
добычу, которая сулит нам пищу и спасение. Пускаюсь за медведем бегом. В
нескольких шагах два хорошеньких медвежонка озабоченно ждут на задних лапах
возвращения матери. Значит, мой подранок -- медведица!
При моем появлении все семейство пускается наутек. Начинается
сумасшедшая погоня. Нас не останавливают никакие препятствия, ни торосы, ни
трещины. Мы карабкаемся на волнистые гребни, перепрыгиваем трещины или
перебираемся через них по ледяным мостам... Хотя тяжело раненная медведица
едва волочит ноги, мы настигаем ее с трудом. Я едва за ней поспеваю.
Медвежата трогательно кружат вокруг матери, то и дело забегают вперед,
словно желая показать ей, куда бежать, и ободрить ее...
2 августа... Нашим бедам не предвидится конца. Едва преодолев одну,
попадаем в другую.
4 августа... После ужасающей дороги подходим к разводью. Мы собираемся
переправиться через него на каяке и очищаем кромку от снега. Поставив нарты
на каяк, я держу их, чтоб они не соскользнули. Вдруг слышу у себя за спиной
тяжелое дыхание.
-- Бери скорей ружье! -- кричит Иогансен, который ходил за своими
нартами.
Поворачиваюсь на месте и что вижу? Громадный медведь повалил Иогансена,
который обороняется с большим трудом. Хочу достать ружье, лежавшее в чехле,
в передней части моего челна, но каяк ускользает от меня в воду. Первая
мысль -- прыгнуть в каяк и застрелить медведя оттуда. Но я тут же отдаю себе
отчет в том, как мне трудно будет взять его на прицел. Быстро вытаскиваю
каяк на берег, чтобы достать ружье. Думая только об этом, не имею времени
оглядеться кругом.
-- Торопись, если хочешь поспеть! И, главное, получше целься!.. --
кричит бедный Иогансен.
Наконец ружье у меня в руках. Медведь от меня в двух метрах, он вот-вот
растерзает Кайфаса. Целюсь тщательно, как просил Иогансен, и посылаю зверю
пулю за ухо.
Громадина падает замертво.
31 декабря... Вот и кончился этот необычный год. В общем, он не был
таким уж плохим.
Там, на родине, веселый перезвон колоколов возвещает конец старого
года. Здесь не слышно ничего, кроме завывания ветра на льду.
Облака снега ошалело катятся по торосам и ледяной глади, а сквозь белую
пелену скользит полная луна, которой нет дела до бега времени. Она безмолвно
следует по своему пути, равнодушная к человеческим страданиям.
Мы затеряны в жуткой ледяной пустыне, за тысячи километров от дорогих
нам существ, и наши мысли то и дело возвращаются к любимому, родному краю.
Одна страница вечности дописана, открывается другая. Что в ней будет?
1 января 1896. Термометр показывает 41,5╟ ниже нуля. Лютый мороз.
Никогда еще этой зимой не было такого холода. Я полностью ощутил это
особенно вчера, когда у меня замерзли кончики всех пальцев.
8 января... Ужасающая пурга... Стоит высунуть голову из нашей ледяной
хижины, как бешеный ветер норовит подхватить тебя и закинуть бог весть
куда... У нас жестоко мерзнут ноги. Мы часами колотим их одну о другую, но
согреть никак не можем.
Нет, мне никогда не забыть этих страшных ночей! И среди всех страданий
мысль все время улетает на родину, к своим!
А время бежит... Лив, моей девочке, исполняется сегодня три года. Уже
большая, наверно. Бедный ребенок! Нет, Лив, ты не потеряешь отца! Надеюсь,
что твой будущий день рождения мы проведем вместе. Я буду рассказывать тебе
о медведях, о моржах, о песцах, о всех диковинных зверях, которые обитают в
этих нехоженых местах.
1 февраля... Любопытную жизнь ведем мы в этой ледяной берлоге среди
полярной ночи! Хотя бы почитать какую-нибудь книжку!.. Лоции и календарь я
перечел столько раз, что знаю их наизусть. Но как бы то ни было, один вид
печатного слова для нас утешение: тонкая ниточка, которая соединяет нас с
цивилизацией.
16 мая... Опять медведи. Медведица с медвежонком. Убивать этих животных
нет смысла, потому что у нас еще достаточно запасов от прежней охоты. Но мы
считаем, что не мешает приблизиться и понаблюдать за ними, а в то же время и
дать им острастку, чтоб они не тревожили нас ночью.
При нашем появлении медведица принимается рычать, но сейчас же отходит,
мордой подталкивая перед собой медвежонка. Иногда она останавливается и
оборачивается посмотреть, что мы делаем.
Дойдя до берега, семейство отправляется дальше, пробираясь между льдин;
мать впереди, прокладывая путь детенышу. Тем временем я почти догоняю их,
так что нас теперь разделяет всего несколько шагов.
Медведица тотчас поворачивается и весьма угрожающе двигается на меня.
Она подходит совсем близко, устрашающе рычит, но не двигается с места, пока
не убеждается, что медвежонок немного отдалился. Тогда, сделав несколько
больших шагов, я быстро догоняю его.
Медведица повторяет маневр, чтобы защитить детеныша и прикрыть его
отступление. Ясно, что ей очень хочется броситься и растерзать меня в
клочки. Но прежде всего ее заботит безопасность медвежонка. Она отходит лишь
тогда, когда он опять отдаляется на некоторое расстояние. Добрались до
ледника, мать опережает детеныша, чтобы показывать ему дорогу. Быстро идти
по снегу малыш не может. Медведица толкает его, следя за каждым моим шагом,
за каждым движением.
Такая материнская любовь действительно трогательна...
Петруш отрывается от книги и смотрит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана, пытаясь отыскать на ней то место, где находился
Нансен, когда писал эти строки в своем дневнике.
Уже поздно. Но мальчик не чувствует усталости. Его не клонит ко сну.
Дневник Нансена близится к концу. Он хорошо знаком Петрушу, который уже раз
прочел его. И все же он ни за что не ляжет, пока не пробежит глазами
последних страниц.
Так же, как Нансена, когда он писал свой дневник, вдохновляли
переживаемые им перипетии, так вдохновляют они теперь и его маленького
читателя. Умом и сердцем он участвует в них, они доказывают ему, что
человеческое упорство и воля сильнее враждебных стихий.
Ни холод, ни пурга, ни голод не могут одолеть человека.
Победа остается за ним. Достаточно быть готовым к борьбе, трезво
мыслить и никогда не терять ни хладнокровия, ни веры в свои силы.
Петруш снова склонился над книгой, он дочитывает последние страницы
дневника Нансена.
12 июня... Выходим в четыре утра, подняв парус на нартах. За ночь мороз
скрепил снег. Подгоняемые попутным ветром, мы надеемся двигаться легко и
быстро, как на парусной лодке...
Хмурая окраска неба на юге доказывает, что вода там свободна от льда. И
в самом деле, мы слышим, к нашей радости, рев яростных волн. В шесть часов
останавливаемся.
Мы снова перед свободным, ожившим, одухотворяющим морем. Какая радость
слышать его знакомый рев после того, как мы так долго видели его скованным
тяжелым стеклянистым панцирем!
Каяки спущены на воду; примкнуты борт к борту; паруса подняты... Теперь
вперед!..
Под вечер мы высаживаемся на кромке берегового льда, чтобы размять
ноги, затекшие после долгого путешествия в каяке.
Разгуливаем взад и вперед возле каяков. Морской ветер спал; кажется, он
все более заворачивает к западу. Интересно, сможем ли мы продолжать плавание
при таком ветре? Чтобы удостовериться в этом, залезаем на ближайший торос...
Вглядываюсь в горизонт.
-- Каяки унесло!.. -- кричит Иогансен.
Бежим со всех ног к берегу. Каяки уже далеко, их быстро уносит в
открытое море: веревка, которой они были привязаны, порвалась.
-- Держи часы!.. -- говорю я Иогансену.
И мигом скидываю одежду, которая помешает мне плыть. Но раздеться
совсем не решаюсь -- боюсь судороги. Прыжок -- и я в воде!
Ветер дует с суши и быстро гонит каяки в открытое море. Вода ледяная,
одежда стесняет движения, а каяки все более отдаляются.
Я не только не догоняю их, а наоборот, отстаю. Поймать их мне
представляется почти невозможным.
Но они уносят с собой последнюю надежду на спасение и все, что мы
имеем. У нас не осталось даже ножа. Утону ли я или вернусь на берег без
каяков -- результат будет тот же: неминуемая гибель для обоих.
Я упорствую и делаю отчаянное усилие. Только такой ценой мы еще можем
спастись. Когда устаю, ложусь на спину. В этом положении мне виден Иогансен,
который нетерпеливо топчется на льду. Бедняге не стоится на месте: положение
его действительно ужасно, потому что, с одной стороны, он лишен возможности
прийти мне на помощь, а с другой -- у него нет ни малейшей надежды на успех
моих усилий. Броситься в воду за мной не имело никакого смысла. Позже он
говорил мне, что это ожидание было самым мучительным моментом в его жизни.
Снова плывя на груди, я увидел, что каяки от меня недалеко. Это придало
мне сил, и я еще отчаяннее заработал руками и ногами. Ноги, однако, начали
неметь: скоро я больше не смогу ими двигать...
Между тем расстояние все уменьшалось. Если я выдержу еще несколько
мгновений, мы спасены. Итак, вперед!.. Я все больше приближаюсь к каякам.
Еще одно усилие, и я буду в одном из них!
Наконец-то! Хватаюсь за лыжу, которая лежит в задней части каяков, и
подтягиваюсь к ним. Мы спасены! Пытаюсь взобраться в каяк, но окоченевшее
тело отказывается мне служить. Одно мгновение мне кажется, что все напрасно:
я достиг цели, но она не дается мне в руки.
После этой страшной минуты сомнения мне все же удается занести ногу на
нарты и вскарабкаться на них. Пользуюсь этой точкой опоры и сразу берусь за
весло. Но тело мое так онемело, что я еле двигаюсь.
Нелегко мне было грести одному в двух каяках. Приходилось все время
поворачиваться, делая гребок то направо, то налево. Конечно, если бы мне
удалось разъединить каяки и грести только в одном, взяв другой на буксир,
дело пошло бы куда легче. Однако в том состоянии, в котором я находился,
такой маневр был невозможен: мороз сковал бы меня прежде, чем я успел бы это
проделать. Лучшим средством согревания оставалась энергичная гребля.
Но я весь закоченел. Когда ветер дул с моря, мне казалось, что меня
пронизывают тысячи копий. Мороз пробрал меня окончательно: я стучал зубами,
дрожал всем телом, но решил не сдаваться -- изо всех сил работать веслами. И
мне это удалось!
Вдруг я увидел перед собой двух кайр. Соблазн был чересчур велик: я
схватил ружье и одним выстрелом убил обеих птиц.
Иогансен рассказывал мне потом, как он перепугался, когда услышал этот
выстрел: думал, что случилось несчастье и никак не мог понять, что я делаю.
А когда увидел, что я гребу и показываю ему добычу, решил, что я, наверно,
сошел с ума.
Наконец я добрался до берега, но меня отнесло течением далеко от того
места, где я бросился в воду. Иогансен прибежал по кромке льда мне
навстречу.
Я вконец обессилел. Тащусь, еле держась на ногах и лязгая зубами.
Иогансен раздевает меня, укладывает и накрывает всем, что только может
найти. Меня продолжает трясти. Пока он ставил палатку и жарил кайр, я
заснул. Когда проснулся, обед был готов. Упоительно горячий суп и чудесное
жаркое стерли последние следы этого ужасного приключения, словно его вовсе и
не бывало...
15 июня... Отправляемся дальше в час ночи. Погода тишайшая. Море кишит
моржами...
Быстро подвигаемся вдоль берега. К несчастью, густой туман скрывает все
и мешает разбираться в топографии... Прямо перед нами показывается морж.
Иогансен, который гребет впереди на своем каяке, ищет укрытия за плавучей
льдиной.
Пока я собираюсь последовать его примеру, морское чудовище бросается на
мой каяк, стараясь опрокинуть его клыками. Сильный удар веслом по голове
заставляет его повернуться. Однако он тут же повторяет атаку. Тогда я
хватаюсь за ружье, но морж исчезает.
Но как раз когда я радовался избавлению от опасности, почувствовал, что
мои ноги в воде. Оказывается, морж продырявил клыками дно каяка, который
быстро наполняется водой. Едва успеваю выскочить на плавучий ледяной утес:
каяк опрокидывается. Все же мне удается с помощью Иогансена вытянуть его на
льдину.
Все мое имущество теперь плавает в каяке, наполненном водой. Боюсь, как
бы не погибли наши драгоценные фотографические пластинки.
Длина пробоины -- 15 сантиметров. Такая починка не шутка, особенно с
тем скромным набором инструментов, которым мы располагаем.
17 июня... Было далеко за полдень, когда я проснулся и принялся за
приготовление завтрака. Приношу воду для супа, развожу огонь, режу мясо,
словом, налаживаю стряпню.
Затем вылезаю на ближайший торос и оглядываю окрестности.
Ветерок доносит с ближайшей суши гомон птиц, которые гнездятся в
скалах. Слушаю этот звук, следя глазами за стаями кайр, которые кружат над
моей головой; любуюсь белой полоской берега с черными пятнами скал.
Внезапно оттуда доносится собачий лай. Или мне показалось? Вздрагиваю и
прислушиваюсь. Но ничего больше не слышно, кроме горластых птиц. Впрочем,
нет: опять лай! Сомнений быть не может!
Тут я вспоминаю, что слышал вчера что-то похожее на два ружейных
выстрела, но приписал этот звук сжатию льда.
Кричу Иогансену, что в этой части суши слышны собаки.
-- Собаки? -- машинально повторяет он спросонья. -- Собаки?! Он сейчас
же встает и идет в разведку.
Мой спутник ни за что не желает мне верить. Он тоже слышал что-то вроде
собачьего лая, но гомон птичьего базара заглушал все. По его мнению, меня
просто обманул слух. Я, однако, уверен, что не ошибся.
За торопливым завтраком мы теряемся в догадках. Может быть, в этих
местах находится какая-нибудь экспедиция? Если так, то кто это? Англичане
или соотечественники? Что, если это та самая английская экспедиция, которая
собиралась обследовать Землю Франца-Иосифа, когда мы отправлялись в
плавание? Как нам тогда быть?
-- Очень просто! -- говорит Иогансен. -- Мы проведем с ними денек-
другой, а потом направимся к Шпицбергену. Иначе бог весть, когда мы попадем
домой!..
В этом отношении я с ним совершенно согласен. Займем у англичан
провизии, в которой мы так нуждаемся, и отправимся дальше.
Покончив с завтраком, я ухожу на рекогносцировку, а Иогансена оставляю
сторожить каяки.
Теперь я слышу только гомон птичьего базара и пронзительные крики кайр.
Возможно, что Иогансен прав. Пожалуй, я и в самом деле ошибся.
Вдруг я замечаю на снегу следы. Они слишком велики для песца. Значит,
здесь, в каких-нибудь ста метрах от нашего стана, прошли собаки. Почему же
они не лаяли? Как это мы их не видели? А может, это все-таки следы песцов?..
В голове у меня странная путаница. Я перехожу от сомнения к
уверенности, потом снова начинаю сомневаться. Неужели же сейчас настанет
конец нашим сверхчеловеческим трудам, всем нашим страданиям и лишениям? Мне
это кажется почти невероятным. И все же, быть может, это именно так.
Слышу лай, теперь уже гораздо более отчетливый, и повсюду вокруг вижу
следы, которые могут быть только собачьими. Потом опять ничего, кроме гама
крылатых стай. И меня вновь одолевает сомнение. Уж не сон ли все это?
Но нет! Это настоящие следы на настоящем снегу. Я вижу их своими
глазами, касаюсь руками...
Если действительно экспедиция обосновалась в этих местах, куда мы
добрались вчера, значит, мы находимся не на Земле Гиллиса или на
какой-нибудь новой суше, как я думал, а на южном побережье Земли
Франца-Иосифа, как мы и предполагали несколько дней тому назад.
Перебираюсь наконец со льда на сушу, и вдруг мне кажется, что я слышу
человеческий голос.
Первый, после трех лет, чужой голос! Сердце бьется так сильно, что того
и гляди разорвется.
Залезаю на скалу и кричу изо всех сил. Этот неизвестный голос среди
ледяной пустыни прозвучал для меня, как голос самой жизни, как приветствие
далеких земель, может быть, даже родины.
Вскоре я слышу другой голос, потом среди белых ледяных вершин вижу
черную фигуру. Потом еще одну черную фигуру... Человека. Человек!..
Уж не Джонсон ли это или один из его спутников? А может,
соотечественник? Идем навстречу друг другу. Махаю шапкой. Он тоже. Слышу,
как он разговаривает с собакой. Нет, не норвежец. Еще несколько шагов, и мне
кажется, что я узнаю начальника иностранной экспедиции, с которым уже
встречался однажды, до нашего отплытия.
Я приветствую его, и мы жмем друг другу руки.
Над нами полог тумана, под ногами -- шершавый, неровный лед. Вокруг
тонкая полоска суши, сплошь покрытой льдом и снегом. Идем рядом: щеголеватый
исследователь, который, видно, не отваживался заходить в глубь полной
опасностей полярной пустыни, лощеный господин в высоких резиновых сапогах,
распространяющий вокруг очень приятный запах мыла, к которому весьма
чувствительно острое обоняние такого примитивного человека, как я, и дикарь
в отрепьях, с длинными волосами и дремучей бородой, покрытый грязью и
копотью тюленьего жира, которым заправлена наша лампа. В таком виде сам черт
меня не узнал бы.
-- Очень счастлив вас встретить! -- говорит незнакомец.
-- Спасибо. Я тоже.
-- Ваше судно где-нибудь поблизости?
-- Нет. Оно не здесь.
-- Сколько вас?
-- Я и мой товарищ, который остался на кромке льда. Разговаривая таким
образом, мы направляемся к берегу. Вдруг не знакомец останавливается,
внимательно смотрит на меня и восклицает:
-- А вы, случайно, не Нансен?
-- Он самый.
-- Бог ты мой! Как я рад вас видеть!
Дружески улыбаясь, он горячо жмет мне руки, потом спрашивает:
-- Откуда вы?
-- На 84╟ северной широты, после двухлетнего плавания, я и мой товарищ
покинули наше судно "Фрам" на волю ветра и течения и достигли 86╟13'. Оттуда
мы добрались до Земли Франца-Иосифа, где и зимовали. А теперь направляемся к
Шпицбергену...
-- Рад слышать о вашей удаче. Вы совершили блестящее путешествие, и я в
восторге, что на мою долю выпало счастье первым поздравить вас!
Иностранец снова пожимает мне руку. В теплоте этого рукопожатия я
ощущаю нечто большее, чем простую вежливость. Он предлагает нам
гостеприимство в своем лагере и сообщает мне, что они со дня на день ожидают
судно с провизией для экспедиции. Как только приходит мой черед говорить, я
спрашиваю его о моей семье и узнаю, что когда, два года тому назад, он
отправлялся в плавание, жена моя и дочь были совершенно здоровы. Потом
спрашиваю о Норвегии, моей дорогой родине...
Затем каждый из нас делает по два выстрела, чтобы оповестить Иогансена.
Немного погодя мы встречаемся с целой группой участников экспедиции,
знакомимся, начинаются поздравления. Вскоре происходит встреча и с
остальными ее членами -- учеными разных специальностей, в том числе и
ботаниками. Ботаник Фишер говорит мне, что, увидев издали незнакомого
человека, он сразу подумал, что это мог быть только я, но потом, когда перед
ним предстал мужчина с черными, как смоль, волосами и бородой, решил, что
ошибся. Когда все собрались, начальник экспедиции сообщил, что мы достигли
86╟13'.
Громкое троекратное "ура" приветствовало эту новость...
За разговором мы незаметно дошли до стана экспедиции -- деревянного
дома русского образца.
Входим в это теплое гнездышко, затерянное среди ледяной неприютной
пустыни. Потолок и стены затянуты зеленым сукном, на стенах-- фотографии и
гравюры, этажерки заставлены книгами и приборами. Сушится одежда и обувь.
Посреди топится печка. Необыкновенное ощущение мира и радости охватывает
меня среди всех этих непривычных предметов, от которых мы успели отвыкнуть.
Три года тяжелой ответственности и постоянной тревоги мгновенно спадают с
моих плеч. Впервые чувствую себя в безопасности среди льдов. Мучительное
ожидание, которое было моим уделом в эти годы борьбы, исчезает в лучезарном
сиянии восходящего солнца. Мой долг выполнен, дело завершено.
Теперь мне остается только отдыхать и ждать прибытия парохода, который
доставит меня на родину.
Джэксон передает мне тщательно запечатанную шкатулку. В ней письма из
Норвегии. Он взял их наудачу, с тем чтобы передать мне, если нас сведет
случай. И случай доставил мне эту радость. Открываю шкатулку дрожащими
руками, с отчаянно бьющимся сердцем. Все письма приносят только добрые
вести.
На стол передо мной ставится все, что нужно для обильного завтрака:
хлеб, масло, молоко, сахар, кофе, вкус которых я забыл за полтора с лишним
года.
Но самое ценное благодеяние цивилизации я познал лишь тогда, когда
скинул с себя отрепья и выкупался. Грязи на нас накопилось столько, что мы
избавились от нее только после бесчисленных омовений. А когда мы оделись в
чистое, мягкое платье, побрились и остригли длинные, сбитые в войлок волосы,
превращение из дикарей в цивилизованных людей было завершено. Оно произошло
быстрее, чем наше преображение и приспособление в обратном смысле, которое
совершилось восемнадцать месяцев тому назад, когда мы с Иогансеном оказались
одни среди ледяной пустыни.
Мы живем в мире и уюте, поджидая судно, которое вернет нас на родину.
Вместе с научной экспедицией занимаемся проверкой наблюдений, тщательно
собранных нами за долгое путешествие.
26 июля... Наконец "Виндворд", судно с провизией, прибыло!.. Мы
грузимся, я поднимаюсь на палубу... Узнаем удивительные новости о том, что
произошло на свете за наше отсутствие. При помощи лучей Рентгена можно
фотографировать людей сквозь деревянные двери в несколько сантиметров
толщиной, а также засевшие в теле раненых пули! Шпицберген открыт для
туристов! Норвежское пароходное общество обеспечивает регулярное сообщение
между нашей страной и этим полярным краем. Там построена гостиница и
работает почтовое отделение с особыми марками. Швед Андре задумал добраться
до полюса на воздушном шаре и ждет только попутного ветра. Если бы мы дошли
до Шпицбергена, мы нашли бы там комфортабельную гостиницу и встретили бы
туристов, а не бедных рыбаков, как мы думали. Забавно получилось бы
оказаться в толпе туристов грязными, оборванными, в том виде, в каком мы
вышли из нашего зимнего логова.
7 августа... Настала минута прощания и с этим последним привалом на
нашем пути... "Виндворд" везет нас домой. Путешествие проходит быстро и
приятно.
Вечером 12 августа различаю впереди черную полоску, очень низко, на
линии горизонта. Что это такое? Это земля, земля Норвегии! Гляжу долго,
часами, как завороженный. Большую часть ночи провожу на палубе, любуясь этой
темной полоской. Меня пробирает лихорадочная дрожь: какие вести ждут нас
дома?
21 августа... Бросаем якорь в порту Хаммерфеста, самого северного
города нашей дорогой родины. Со всех концов земного шара проливается целый
поток поздравительных телеграмм. Но о "Фраме" нет никаких известий. Такое
запоздание начинает быть странным и внушает беспокойство.
Утром 26 августа меня будят. Какой-то человек настойчиво желает со мной
говорить.
-- Сию минуту! Только оденусь.
-- Ничего. Выходите так!..
Поспешно одеваюсь и нахожу заведующего почтово-телеграфным отделением с
депешей.
-- Очень важная для вас телеграмма из Скьерве! -- говорит он. --
Поэтому я решил вручить ее вам лично...
В эту минуту я не думаю ни о чем другом на свете, кроме как о "Фраме" и
судьбе моих спутников.
Дрожащими руками вскрываю депешу и читаю: Доктору Нансену
Фрам прибыл сюда сегодня. Все в порядке.
Все здоровы. Сейчас выходим в Тромсе. Приветствуем вас на родине.
Отто Свердруп.
Я так взволнован, что почти теряю дар слова.
-- Прибыл "Фрам"! -- наконец удается мне произнести.
Перечитываю телеграмму несколько раз, не веря своим глазам. В городе,
во всей Норвегии начинается всеобщее ликование.
На следующий день мы в Тромсе, где уже стоит на якоре "Фрам". Последний
раз, что я его видел, наше судно было наполовину погребено во льду. Я
оставил его вместе с нашими спутниками во власти дрейфующих льдов, чтобы
проверить океанские течения, что и составляло главную задачу экспедиции, а
сам отправился с Иогансеном по льду и разводьям, чтобы обследовать другие
пустынные области, где мы с ним и пробродили более полутора лет. Теперь наш
"Фрам" гордо бороздит воды родины. Повсюду его приветствуют криками "ура"!
Садимся на наше дорогое судно и плывем дальше.
Все время на нашем пути народ толпится на набережных, будто сама
Норвегия гордится нами и, как мать, встречая нас с распростертыми объятиями,
благодарит за все понесенные труды. Хотя мы лишь выполнили наш долг, доведя
до конца взятую на себя задачу.
Вот мы и вернулись к жизни, и она открывается перед нами, полная света
и надежд. Вечереет. Солнце садится за синее море и над тихими просторами вод
разливается осенняя грусть. Какая красота!.. Уж не сон ли все это? Нет.
Закатный свет озаряет знакомые, милые силуэты, от них веет миром и верой в
жизнь.
Ледяные пустыни и призрачный лунный свет полярных ночей кажутся теперь
далеким видением иного мира, оставшимся позади сном. Но какова была бы жизнь
без мечты и таких видений?!
Петруш, курносый мальчик с огоньком в глазах, перевернул последнюю
страницу книги.
Закинув голову, он пристально глядит на прибитую к стене карту
Северного Ледовитого океана. Ему больше не хочется спать. Локти так онемели,
что он их не чувствует.
Как незаметно пролетело время!
Он возбужден, взволнован. Воображение умчало его в страну вечных льдов,
по следам героического корабля "Фрам" и его тезки, белого медведя.
Через далекие от его страны моря и горы таинственно протянулась
невидимая нить, связавшая людей, животных и события, которых, казалось бы,
ничто не могло собрать в одно место и в одно время.
И все же невидимая связь эта осуществилась, оставив глубокий след во
многих жизнях. Старый Ларс, бывший матрос на "Фраме" Нансена, когда-то
окрестил именем судна, на котором плавал в молодости, медвежонка, пойманного
охотниками в вечных льдах. Медвежонок этот стал Фрамом, знаменитым белым
медведем цирка Струцкого. И много лет спустя на прощальном представлении
цирка в городе, куда ему больше никогда не суждено было вернуться, этот
ученый медведь пробудил неутолимый интерес к полярным экспедициям в
мальчугане, который вместе со всеми кричал в тот вечер: "Фрама! Фрама!"
И вот теперь этот курносый мальчуган с неугасимым огоньком в глазах
всем своим существом заново переживает перипетии Нансена. Переживает их
страницу за страницей, как они были записаны в дневнике великого
исследователя много лет тому назад в далекой белой пустыне, среди дрейфующих
льдов.
Петруш страдает вместе с ним, дрожит вместе с ним от холода и томится
от голода; вместе с ним чуть было не утонул в разводье и спасся, чтобы
вместе порадоваться пришедшей в конце концов победе.
Книга закрыта. Петруш глядит на карту. Потом мысль его снова уносится к
Фраму, белому медведю.
-- Где-то он теперь, наш Фрам?.. -- спрашивает себя мальчик,
укладываясь спать. -- Интересно, что он теперь делает в своей ледяной
пустыне?
На следующее утро мысль его работает гораздо бодрее.
Окруженный сверстниками, размахивая руками, он воодушевленно, с важным
видом рассказывает о других белых медведях и о различных происшествиях в
полярных краях. О том, как однажды белый медведь тихонько залез на зажатый
льдами корабль Нансена и уволок трех собак; о том, как Нансен чуть было не
утонул в такой холодной воде, что у него захватывало дух, и как спасся, о
том, как он вернулся на родину и с каким ликованием его встречали.
Зимой вся ребячья орава шумно принялась лепить из снега Фрама, ученого
белого медведя.
-- Стойте! Давайте сделаем ему глаза из угольков! -- кричит один из
приятелей Петруша.
Он бежит, спотыкается, падает на четвереньки и опрокидывает снежного
медведя.
Все хохочут, валят виновника в сугроб, ставят его в наказание вверх
ногами, потом начинают лепить медведя.
Без Петруша, однако, дело не ладится. Медведь едва держится, а если
получше вглядеться, то он вовсе и не похож на медведя: ноги не в меру
длинные, голова слишком велика.
-- Петруш! Петруш! Иди, помоги нам! Ты у нас настоящий мастер!.. Петруш
тут как тут. Он округляет рукой голову и морду Фрама, знает, как надо
вставить глаза -- угольки, чтобы вышло похоже на настоящего белого медведя.
Отступит на шаг-другой, взглянет, покачает головой и что-то поправит
или прибавит.
-- Брр! Ну и морозище! Я совсем замерз... Даже пальцев не чувствую, --
хнычет кто-то из ребят, дуя в кулачки.
-- То же богатырь!.. Трясешься при двух градусах мороза! -- отчитывает
его Петруш. -- А что бы ты сказал на полюсе, при сорока или пятидесяти
градусах?
-- Ничего бы не сказал, потому что мне там нечего делать. Отправляйся
туда сам -- ты ж у нас специалист по полярным экспедициям!
-- А вот и отправлюсь!
-- И вытерпишь мороз в сорок градусов?!
-- Вытерплю! Нансен и другие как терпели? Не видишь, что я даже не
чувствую холода?
И действительно, готовясь к путешествию в полярные льды, Петруш уже
теперь начал себя закалять. По утрам он с ног до головы обтирается снегом.
Никогда больше не кашляет. Никогда не чихает. На знает, что такое простуда,
болезнь.
Это -- здоровый, жизнерадостный мальчик. За последнее время он
вытянулся, и с каждым днем его все больше любят товарищи по играм и
одноклассники. Вырос он и в глазах учительницы: книги о полярных экспедициях
научили его зрело мыслить, принимать быстрые решения, не увиливать от
ответственности и не полагаться на случай.
Когда затевались экскурсии в окрестности города, в лес или на озеро,
его выбирали вожаком и он всегда оказывался на высоте.
Да и дома, в их бедном хозяйстве, в семье, у которой так много
трудностей, старшие братья и сестры уже не считают его раззявой и путаником,
как прежде. Теперь они полагаются на него и даже нередко обращаются к нему
за советом и помощью:
-- А ты, Петруш, как думаешь? Попробуй, может, у тебя лучше получится,
не зря ж ты занимаешься всякой всячиной.
Петруш и в самом деле умеет вязать морские узлы, которых и зубами не
развяжешь. Когда на дворе бушует метель, он так затыкает щели в дверях и
окнах, что в доме совсем не дует; умеет починить и санки, и коньки, и самые
старые лыжи мальчишек со всей улицы. Кроме того, он изобрел "снегоходы",
сплетенные из лозы и веревок, на которых можно ходить, не проваливаясь, и по
мягкому снегу, и по насту.
Но областью, в которой Петруш действительно не знал себе равных, были
рассказы из полярной жизни.
Даже голос его менялся. Весь раскрасневшийся, с еще более блестящими,
чем обычно, глазами, он заставлял других переживать все, что перечувствовал
сам, когда читал о приключениях исследователей.
-- Петруш, ты, мне кажется, прибавил кое-что от себя, -- заметит иногда
недоверчивый слушатель. -- Слишком уж ты приукрасил своих героев.
-- Прибавил от себя? Приукрасил?! -- возмущается Петруш. -- Вот я тебе
книгу принесу! Прочтешь своими глазами!.. И я еще не все рассказал!..
Готовься!..
Случилось как-то, что и сам он, читая, сначала не поверил своим глазам.
Все объяснилось только тогда, когда он прочел книгу от корки до корки.
Однажды учитель-пенсионер встретил его на улице. Петруш поздоровался и
хотел уже пройти дальше, но тот остановил его:
-- Погоди, Петруш, -- сказал дедушка белокурой Лилики. -- Почему ты
больше к нам не заходишь?
-- Боялся вас беспокоить. Я же перечитал все книги о белых медведях и
полярных экспедициях в вашей библиотеке...
Учитель улыбнулся и шутливо погрозил ему пальцем:
-- Очень мило! Значит, ты только из-за книг и приходил? А когда книги
кончились, нас забыл!
Петруш замялся.
-- Боялся вам надоесть... -- смущенно пробормотал он.
-- Час от часу не легче! -- все с той же доброй улыбкой продолжал
журить его старик. -- Разве я когда-нибудь давал тебе понять, что ты надоел?
Наоборот, мне всегда было приятно обсуждать с тобой прочитанные книги.
Не найдя ответа, мальчик опустил глаза. Отвечать ему было нечего.
Петруш чувствовал себя виноватым и действительно не знал, как это
получилось, что он вот уже целый месяц не заходил к старому учителю и его
светлокудрой внучке.
-- Не расстраивайся, Петруш, я на тебя не сержусь. А вот Лилика
действительно обижена. Но мы это уладим. Жаль только, что ты упустил случай
прочесть новую книжку.
-- Новую книжку? -- воодушевился Петруш.
-- Да! Новую книжку...
-- О белых медведях и полярных экспедициях?
-- Да, о белых медведях и полярных экспедициях. Только на этот раз
книжка гораздо более интересная, чем те, которые ты прочел до сих пор. Речь
в ней идет о знаменитых русских исследователях, которые первыми изучили
бескрайние просторы далекого Севера.
-- И эта книга еще у вас? -- взволнованно спросил Петруш, сгорая от
нетерпения. -- Вы ее еще никому не одолжили?
-- Любителей нашлось немало. Но я ее не отдал...
-- А мне дадите?
-- По справедливости, я должен был бы сначала дать ее тем, кто просил
до тебя, Петруш! -- ответил старый учитель. -- Но ты уже сам себя наказал:
вместо того чтобы прочесть ее на две недели раньше, ты начнешь ее только
завтра!
-- Сегодня! Я прочту ее сегодня! -- выпалил нетерпеливый Петруш.
-- Хорошо, Петруш. Если так, проводи меня домой и получай книгу.
-- Я прочту ее сегодня же вечером, а завтра верну,-- пообещал Петруш.
-- Не торопись с обещаниями! -- наставительно сказал бывший учитель. --
Я вовсе не требую от тебя такой спешки. Эту книгу нужно читать обстоятельно.
В самом деле, книга, которую получил на этот раз Петруш, была непохожа
на прежние. И, конечно, за один вечер он ее не одолел.
Сперва он читал ее без передышки три дня кряду после обеда.
Потом перечитывал ее, уже не торопясь, целую неделю.
Книга была толстая, напечатанная мелким шрифтом, с картинками, картами,
полная приключений, пережитых исследователями, и подробным описанием всех
происшествий. Каждая страница, каждая фотография рассказывала о неслыханных
подвигах отважных русских исследователей и первооткрывателей.
Одни разведывали на неисследованных островах месторождения нефти, угля
и металлов. Другие изучали животный и растительный мир северных морских
глубин. Были и такие, которые искали сохранившихся во льду гигантских
зверей, давно вымерших. Так были найдены в природных "холодильниках"
мамонты, жившие много десятков тысяч лет назад. Эти чудовища были гораздо
больше и тяжелее слонов "Ноева ковчега" цирка Струцкого. Они так хорошо
сохранились -- такими же, какими были в тот день, когда их засосал и покрыл
ледник, -- что охотничьи и ездовые собаки тамошних жителей кидались на них,
как на живых.
Петруш смотрит прибитую над столом карту, прослеживает глазами и
мысленно восстанавливает путь, проделанный русскими исследователями.
Потом, перед тем как лечь спать, опять спрашивает себя: "Где в этой
ледяной пустыне Фрам? И что-то он теперь делает?"
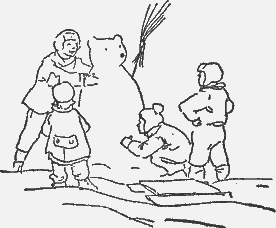 * * *
* * *
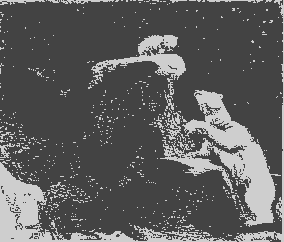 XIII. ФРАМ НАХОДИТ СЕБЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА
После первых зимних вьюг небо очистилось. Ветер стих. Открылся высокий
синий небосвод, засверкал мириадами звезд. Настала студеная, неземная,
сказочная полярная ночь.
Необъятные белые просторы иногда озаряла луна. Перламутром переливался
ледяной покров океана, перламутром сияли снега, перламутром лучились
обледенелые утесы.
Иногда светили одни звезды.
Потом на полнеба развернулось-заполыхало северное сияние.
Справа показались три радуги всех виданных и невиданных красок.
Показались, растаяли одна в другой, разделились и снова слились. А из-под их
таинственной, начертанной в небе дуги замерцали, затрепетали в
фантастической пляске огни. Голубые, белые, зеленые, фиолетовые и оранжевые,
желтые и пурпуровые, они сплетались и спадали шелковыми полотнищами, то
развертываясь, то неожиданно снова сходясь.
Вдруг все исчезло.
Потом опять началась колдовская пляска.
Как свечки на новогодней елке, загорались огоньки, реяли золотые нити.
Взвивались ракеты. Текли реки расплавленного золота и серебра. Рассыпались
фейерверком искры. Внезапно вся эта феерия превращалась под аркой радуги в
прозрачный занавес, по которому скользили светозарные голубые и алые,
фиолетовые и зеленые, желтые и оранжевые змейки.
Звонкий воздух огласился далекой, нежной, едва уловимой музыкой,
напоминавшей не то перезвон серебряных бубенцов на зимней дороге, не то
вздохи невидимого струнного оркестра. Это вздыхало само небо.
Взгромоздившись на высокую скалу, Фрам смотрел на фантастическую пляску
огней, слушал никогда не слышанную им музыку.
Имей медведь человеческий разум, он, наверно, спросил бы себя: для кого
все это великолепие в скованной морозом пустыне?
Кому здесь радоваться величию полярной ночи, ее волшебству? Не
пустынным же холодным, застывшим под ледяным зеркальным покровом просторам
океана!
Фрам залез в свое ледяное убежище, свернулся клубком, зарывшись мордой
в мягкую, густую шерсть на брюхе, и пытался заснуть.
Ни с того ни с сего разыгралась пурга. Черные тучи заволокли луну.
Поглотили звезды. Погасили мерцание северного сияния.
Покатились волны провеенной снежной пыли, рушились гребни скал, трещали
льды. Синей ночью вновь овладели и пошли куралесить духи мрака.
Угас волшебный свет.
Феерическое представление окончилось.
Заревела, застонала, засвистела на все лады обезумевшая пурга.
Закрыв глаза, Фрам мечтает о теплых странах, где каждый вечер
зажигаются огни, стоит лишь повернуть выключатель, где смеются дети и, сидя
у открытой жаркой печки, просят стариков рассказать им о чудесных
приключениях в полярных льдах.
Мечты переходят в сон.
Фрам скулит во сне точно так же, как он скулил по ночам в клетке цирка
Струцкого, когда ему снились эти пустынные дали.
Тогда он тосковал по здешней жизни.
Теперь, дрожа от холода, он тоскует по тамошней жизни.
Когда пурга улеглась, он вылез, голодный, из берлоги.
Остальные медведи куда-то исчезли. Фрама больше не ждет готовый обед,
как раньше, когда он поражал и пугал их своими сальто-мортале. Может быть,
медведи ушли в им одним известные места, где в полыньях еще высовывают
головы моржи и тюлени? А может, они залегли в берлогах, где у них припасено
мясо, и ждут в сонном оцепенении, когда на краю небосклона снова покажется
полярное солнце?
Один, мучимый голодом, Фрам шарит по щелям между скал. Его сопровождает
в лунном свете лишь собственная тень. Все следы замело. И все равно они были
старые. Ни одного свежего следа.
Пустыня.
Безмолвие.
Сверху смотрит стеклянная, неподвижная луна.
Фраму хочется поднять вверх морду и завыть по-волчьи.
Здесь нет никакой меры времени -- он не знает, долго ли еще ждать конца
этой бесконечной ночи.
В черном отчаянии он спускается на лед и бредет без цели, куда глаза
глядят. Ему теперь безразлично куда идти, лишь бы избавиться от жуткого
одиночества. Быть может, ледяной мост соединяет этот остров с другим? Может,
где-нибудь существует остров, где все же больше жизни, чем здесь?
Зачуяв пургу, он, как умел, строил себе из снега убежище и, лежа в нем,
часами ждал, когда стихнет ветер. Потом долго разминал онемевшие ноги,
повернувшись спиной к северному сиянию: чудо это не согревало его, не могло
утолить его голод.
Сколько времени он брел по льду? Неделю? Две? Больше?
Кто его знает!
Иногда ему хотелось растянуться на ледяном ложе и больше не вставать,
даже не поднимать головы, так он был изнурен.
Но остатки воли все же заставляли его встряхнуться. Собрав последние
силы, Фрам вставал на задние лапы и принюхивался к ветру: не принесет ли он
хоть далекого дыхания земли, запаха живой твари, а может быть, и человека?..
Холодный ветер больно резал ноздри, но ничего ниоткуда не приносил.
Заплетающимися шагами Фрам шел дальше, к неведомой цели.
Шел, опустив голову, не вглядываясь в дали.
Поэтому он не сразу заметил, когда в лунном свете на горизонте
показалась синеватая полоска, и не ускорил шага. Другой берег, другой
остров... Что ждет его там? Опять, верно, медведи, которые скалятся и
убегают при его приближении. Неужели он так и не найдет себе товарища,
друга? А ведь, кажется, пора уже. Фрам не терял надежды...
Не глядя вокруг, он вскарабкался по крутому ледяному берегу. Лунные
лучи падали косо. Рядом с ним ползла его тень. Она была его единственным
спутником в этой пустыне, лишь с ней делил он свое одиночество.
С ней, со своей верной тенью, он изъездил немало теплых стран. Она одна
знает, где они побывали, какие люди живут за рубежом полярной ночи, какой
там бархатный песок, какие сады, где цветет сирень и растет коротенькая,
мелкая, мягкая, как постель, трава, на которой усталой тени было так хорошо
отдыхать у его ног.
Косо падали лунные лучи.
А с другой стороны шагала рядом тень Фрама, его верная, неразлучная
подруга среди жуткого одиночества полярной ночи.
Повернув голову, не глядя себе под ноги, Фрам следит теперь только за
движениями своей тени по льду. Поднимет он лапу -- поднимет и она; ускорит
шаг -- ускорит и она; качнет головой -- качнет и она.
Но вот тень остановилась с поднятой лапой.
Она встретилась с другой тенью.
Та, другая тень, маленькая, черная, прыгала и танцевала.
Фрам повернулся к луне и вскинул глаза -- посмотреть, кому же
принадлежит эта новая, игривая тень.
В лунном свете на макушке высокой скалы плясал и прыгал белый
медвежонок.
Но Фрам тотчас же понял, что это лишь обманчивая видимость. Положение
медвежонка на макушке скалы было совсем не таким веселым. Как и зачем он
туда забрался, было известно лишь ему одному. А теперь у него не хватало
храбрости слезть. Когда медвежонок пробовал спуститься, лапы его скользили
по обледенелому камню, он испуганно цеплялся за скалу когтями и подтягивался
обратно. Потом скуля и дрожа от страха, кое-как возвращал себе утерянное
равновесие.
При виде этого малыша в беде Фраму стало весело.
Он поднялся на задние лапы и, прислонившись плечом к скале, сделал
медвежонку лапой ободряющий знак:
-- А ну, глупыш! Прыгай, не бойся! Гоп! У меня в жизни бывали положения
потруднее!
Медвежонок трусил.
Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш,
казалось, обрадовался и ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с
ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся.
Фрам снова подал ему знак, на этот раз обеими лапами:
-- Смелее, бесенок! Дядя поймает тебя, как мячик. Медвежонок закрыл
глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед
собой на снег, потом отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем свела его
судьба.
Медвежонок смотрел на него снизу.
А Фрам на него сверху.
-- У тебя, кажется, симпатичная рожица, -- дружелюбно проурчал он.
-- А ты, кажется, славный дядя! -- казалось, отвечало радостное урчание
медвежонка.
После этого по медвежьему закону они обнюхали друг друга нос к носу,
чтобы лучше познакомиться.
Малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе
неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг.
Их тени спутались на снегу.
Маленькая тень прыгала и вертелась вокруг большой, сливалась с ней и,
снова отделяясь, возвращалась на место.
Фрам погладил своего нового друга лапой по темени, как он когда-то
ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами.
Медвежонок не отскочил, не заворчал, а, наоборот, казался очень
довольным такой лаской.
Растроганный Фрам почесал у него под подбородком, потом приподнял его,
чтобы заглянуть ему в глаза. Вся его горечь рассеялась. Наконец-то он
встретил родича, который не показывает ему клыков и не удирает от него во
всю прыть!
-- А теперь надо придумать тебе кличку, -- проурчал он, опуская
медвежонка на снег и глядя на него с нежностью. -- Кажется, я уж придумал.
Нрав у тебя, видно, неугомонный, забрался ты куда не следовало, потому я
назову тебя "Непоседой". Это звучит не очень красиво, зато подходит тебе в
самый раз, дорогой мой Непоседа! Не огорчайся, потому что быть Непоседой все
же лучше, чем быть Пустоголовым...
Медвежонок не знал, что стал Непоседой, так как не понимал урчания
Фрама. Зато он тотчас же постарался оправдать свою кличку и стал цепляться
за взрослого дядю, чтобы тот опять взял его "на руки". Видно, ему впервые
пришлось испытать это удовольствие и теперь захотелось еще.
-- Нет, дружок! -- проурчал Фрам. -- Нечего привыкать! Ты, я вижу, уже
большой. И, вообще, для медвежонка стыдно проситься на руки. Хочешь лазить?
Пожалуйста, вот глыба льда! Или карабкайся вон на ту скалу.
Медвежонок понял, что его на руках носить не станут, и быстро свыкся с
мыслью, что придется идти самому.
Фрам посмотрел на него с грустью. От людей он научился осторожности.
Радость их встречи могла оказаться преждевременной, а дружба недолговечной.
Из-за скалы могла в любой момент появиться медведица, ощериться и броситься
на него с ревом и воем. И тогда ему опять придется обороняться обычными
акробатическими фигурами, прыжками и подножками, пока медведица не зароется
носом в снег и не откажется от борьбы с циркачом.
И все закончится так же, как неизменно кончались прежние встречи.
Разъяренная медведица повернется и влепит медвежонку две-три увесистых
оплеухи, чтобы научить его уму-разуму, чтобы не шатался без толку. Потом
поддаст лапой сзади, и когда малыш покатится кубарем, проворчит: "Марш
вперед! Я тебя догоню. Мы с тобой еще поговорим!.."
И Фрам опять останется один со своей тенью и опять будет слоняться как
зачумленный по ледяной пустыне.
Вот какую горькую думу думал Фрам, стоя на задних лапах и глядя на
медвежонка.
Непоседа тронул его лапой и проурчал на своем языке:
-- Эй, дядя! О чем задумался? Я тебе уже надоел? Фрам с жалостью пожал
плечами:
-- Что ты понимаешь? Ты еще маленький и глупый!.. Медвежонок, казалось,
понял его. Потому что он сразу погрустнел и тоненько заскулил:
-- Я, правда, еще маленький. Маленький и несчастный, посмотри, какая у
меня тут, на голове, ссадина... Но я совсем не такой глупый, как ты думаешь,
честное слово!
Он стоял перед Фрамом, освещенный луной, и почесывал маленькой лапой
голову, где действительно была видна незажившая ссадина.
Фрам нагнулся посмотреть болячку. Хотя он многое перенял от людей, но
как лечить раны, у ветеринара цирка Струцкого не научился. А потому
ограничился тем, что по звериному обычаю полизал глубокую ранку и проурчал:
-- Эге! Знаю я, что тебе тут помогло бы, господин Непоседа! Капелька
йоду! Пощипало бы чуточку и шкурка немного запачкалась бы. Но через неделю
не осталось бы и следа ни от ссадины, ни от пятна... Без йода так скоро не
заживет. Пусть подсохнет сама собой. А пока что когтями не расчесывай. Не то
мигом переменю тебе кличку и вместо Непоседы окрещу тебя Царапкой...
Медвежонку было решительно все равно: Непоседа или Царапка. Он ничего
из урчания Фрама не понял. Этот дядя говорил на каком-то другом языке,
непонятном в Заполярье. И совсем уже странной казалась ему перенятая у людей
привычка Фрама давать всем клички. Для медвежонка всякий медведь, большой
или маленький, пустоголовый или нет -- просто-напросто медведь и ничего
больше. Песец есть песец, а заяц -- заяц.
У него в голове не было, как у Фрама, полно всевозможных кличек. Зато
была ранка, которая здорово болела и к которой невольно тянулась его лапа.
Фрам отвел лапу и пожурил его:
-- Сказано: не трогать! Объясни лучше, как это ты заработал такую
ссадину?.. Ранка глубокая, похоже, что тебя задели когтем. Бьюсь об заклад,
что медвежьим. А ну-ка расскажи, как было дело?
Непоседа чувствовал себя очень несчастным. Стоял перед Фрамом и вся его
веселость исчезла. Урчание большого, доброго медведя он не понимал. Но
рассказать ему было что. С ним стряслась большая беда, он еле спасся...
Только как об этом расскажешь? Лучше отвести дядю на место происшествия.
Большой добрый медведь сам сообразит, как случилось, что он остался
сиротой, и почему страх загнал его на макушку высоченной скалы.
Он потянул Фрама лапой, точно так же, как детеныши людей тянут своих
дядей за полку пальто, приглашая их зайти в кондитерскую.
Фрам понял.
Понял и не стал расспрашивать, как и что. Они отправились на место
происшествия. Непоседа впереди, следом за ним Фрам. Между скал, при ярком
лунном свете на снегу виднелись следы. Определенно медвежьи. Следы были
тройные. Два следа большие, почти одинаковые, потом поменьше -- следы
Непоседы, которые вели к той самой скале, с которой снял его Фрам.
Медвежонок бросился вперед.
Фрам остановился.
Перед ними лежало на снегу большое белое тело.
Медвежонок бросился к нему, зарылся головой в мех, потом заскулил и
забегал вокруг.
Фрам осторожно приблизился. Сначала он подумал, что медведица просто
отдыхает на снегу. Что будет дальше, он уже знал: она вскочит, яростно
зарычит, потом бросится на него, заставит его проделать свое знаменитое
сальто-мортале, которое не могло принести ей никакого вреда, а лишь должно
было доказать в два счета, что драться с ним нет никакого смысла. Драться
Фраму очень не хотелось: драка положила бы конец его дружбе с Непоседой.
Но медведица не подавала никаких признаков жизни.
Она не поднялась на задние лапы, не заревела, гневно раскачивая
головой.
Внимание Фрама привлекли следы борьбы на снегу. Он увидел пятна крови и
понял печальную действительность.
Мать Непоседы была мертва и холодна, как кусок льда. Она была убита в
схватке, совсем непохожей на шуточные битвы Фрама. В схватке с медведем. Об
этом рассказывали следы.
Медвежонок совался мордочкой в мохнатое брюхо мертвой матери, где, он
знал, был источник теплого молока. Источник иссяк. Детеныш не мог понять
этого страшного чуда, точно так же, как Фрам когда-то, когда он остался
сиротой, не понимал того ужасного, что произошло с его матерью среди других
таких же суровых льдов.
Малыш жалобно скулил и катался по снегу, то и дело вскидывая глаза на
доброго большого медведя, словно ожидая от него объяснения.
Фрам погладил его по голове и обнял, отдаленно и смутно припоминая, как
тяжело остаться сиротой.
-- Нам тут больше нечего делать! -- проурчал он и потянул за собой
медвежонка. -- Мне все теперь ясно. Твоя мама погибла, защищая тебя. Убив
ее, медведь погнался за тобой и убил бы тебя тоже, если бы ты не залез на
скалу. Только тем ты и спасся. Вот бы встретиться с этим негодяем и вместе с
тобой проучить его. Обещаю, что ему придется туго!..
Медвежонок никак не мог оторваться от трупа матери. Фраму пришлось
поднять его и унести. Малыш глядел на мертвую медведицу через его плечо и
скулил.
-- Ну, будет! Довольно реветь. Будь мужчиной! -- ласково пожурил его
Фрам. -- Слезами тут не поможешь. Пока что нам с тобой не мешает
подкрепиться. Я-то привык поститься. А ты -- другое дело!
Медвежонок продолжал неутешно скулить и все оглядывался назад через
плечо Фрама.
Фрам решительно направился по следам убийцы.
XIII. ФРАМ НАХОДИТ СЕБЕ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА
После первых зимних вьюг небо очистилось. Ветер стих. Открылся высокий
синий небосвод, засверкал мириадами звезд. Настала студеная, неземная,
сказочная полярная ночь.
Необъятные белые просторы иногда озаряла луна. Перламутром переливался
ледяной покров океана, перламутром сияли снега, перламутром лучились
обледенелые утесы.
Иногда светили одни звезды.
Потом на полнеба развернулось-заполыхало северное сияние.
Справа показались три радуги всех виданных и невиданных красок.
Показались, растаяли одна в другой, разделились и снова слились. А из-под их
таинственной, начертанной в небе дуги замерцали, затрепетали в
фантастической пляске огни. Голубые, белые, зеленые, фиолетовые и оранжевые,
желтые и пурпуровые, они сплетались и спадали шелковыми полотнищами, то
развертываясь, то неожиданно снова сходясь.
Вдруг все исчезло.
Потом опять началась колдовская пляска.
Как свечки на новогодней елке, загорались огоньки, реяли золотые нити.
Взвивались ракеты. Текли реки расплавленного золота и серебра. Рассыпались
фейерверком искры. Внезапно вся эта феерия превращалась под аркой радуги в
прозрачный занавес, по которому скользили светозарные голубые и алые,
фиолетовые и зеленые, желтые и оранжевые змейки.
Звонкий воздух огласился далекой, нежной, едва уловимой музыкой,
напоминавшей не то перезвон серебряных бубенцов на зимней дороге, не то
вздохи невидимого струнного оркестра. Это вздыхало само небо.
Взгромоздившись на высокую скалу, Фрам смотрел на фантастическую пляску
огней, слушал никогда не слышанную им музыку.
Имей медведь человеческий разум, он, наверно, спросил бы себя: для кого
все это великолепие в скованной морозом пустыне?
Кому здесь радоваться величию полярной ночи, ее волшебству? Не
пустынным же холодным, застывшим под ледяным зеркальным покровом просторам
океана!
Фрам залез в свое ледяное убежище, свернулся клубком, зарывшись мордой
в мягкую, густую шерсть на брюхе, и пытался заснуть.
Ни с того ни с сего разыгралась пурга. Черные тучи заволокли луну.
Поглотили звезды. Погасили мерцание северного сияния.
Покатились волны провеенной снежной пыли, рушились гребни скал, трещали
льды. Синей ночью вновь овладели и пошли куралесить духи мрака.
Угас волшебный свет.
Феерическое представление окончилось.
Заревела, застонала, засвистела на все лады обезумевшая пурга.
Закрыв глаза, Фрам мечтает о теплых странах, где каждый вечер
зажигаются огни, стоит лишь повернуть выключатель, где смеются дети и, сидя
у открытой жаркой печки, просят стариков рассказать им о чудесных
приключениях в полярных льдах.
Мечты переходят в сон.
Фрам скулит во сне точно так же, как он скулил по ночам в клетке цирка
Струцкого, когда ему снились эти пустынные дали.
Тогда он тосковал по здешней жизни.
Теперь, дрожа от холода, он тоскует по тамошней жизни.
Когда пурга улеглась, он вылез, голодный, из берлоги.
Остальные медведи куда-то исчезли. Фрама больше не ждет готовый обед,
как раньше, когда он поражал и пугал их своими сальто-мортале. Может быть,
медведи ушли в им одним известные места, где в полыньях еще высовывают
головы моржи и тюлени? А может, они залегли в берлогах, где у них припасено
мясо, и ждут в сонном оцепенении, когда на краю небосклона снова покажется
полярное солнце?
Один, мучимый голодом, Фрам шарит по щелям между скал. Его сопровождает
в лунном свете лишь собственная тень. Все следы замело. И все равно они были
старые. Ни одного свежего следа.
Пустыня.
Безмолвие.
Сверху смотрит стеклянная, неподвижная луна.
Фраму хочется поднять вверх морду и завыть по-волчьи.
Здесь нет никакой меры времени -- он не знает, долго ли еще ждать конца
этой бесконечной ночи.
В черном отчаянии он спускается на лед и бредет без цели, куда глаза
глядят. Ему теперь безразлично куда идти, лишь бы избавиться от жуткого
одиночества. Быть может, ледяной мост соединяет этот остров с другим? Может,
где-нибудь существует остров, где все же больше жизни, чем здесь?
Зачуяв пургу, он, как умел, строил себе из снега убежище и, лежа в нем,
часами ждал, когда стихнет ветер. Потом долго разминал онемевшие ноги,
повернувшись спиной к северному сиянию: чудо это не согревало его, не могло
утолить его голод.
Сколько времени он брел по льду? Неделю? Две? Больше?
Кто его знает!
Иногда ему хотелось растянуться на ледяном ложе и больше не вставать,
даже не поднимать головы, так он был изнурен.
Но остатки воли все же заставляли его встряхнуться. Собрав последние
силы, Фрам вставал на задние лапы и принюхивался к ветру: не принесет ли он
хоть далекого дыхания земли, запаха живой твари, а может быть, и человека?..
Холодный ветер больно резал ноздри, но ничего ниоткуда не приносил.
Заплетающимися шагами Фрам шел дальше, к неведомой цели.
Шел, опустив голову, не вглядываясь в дали.
Поэтому он не сразу заметил, когда в лунном свете на горизонте
показалась синеватая полоска, и не ускорил шага. Другой берег, другой
остров... Что ждет его там? Опять, верно, медведи, которые скалятся и
убегают при его приближении. Неужели он так и не найдет себе товарища,
друга? А ведь, кажется, пора уже. Фрам не терял надежды...
Не глядя вокруг, он вскарабкался по крутому ледяному берегу. Лунные
лучи падали косо. Рядом с ним ползла его тень. Она была его единственным
спутником в этой пустыне, лишь с ней делил он свое одиночество.
С ней, со своей верной тенью, он изъездил немало теплых стран. Она одна
знает, где они побывали, какие люди живут за рубежом полярной ночи, какой
там бархатный песок, какие сады, где цветет сирень и растет коротенькая,
мелкая, мягкая, как постель, трава, на которой усталой тени было так хорошо
отдыхать у его ног.
Косо падали лунные лучи.
А с другой стороны шагала рядом тень Фрама, его верная, неразлучная
подруга среди жуткого одиночества полярной ночи.
Повернув голову, не глядя себе под ноги, Фрам следит теперь только за
движениями своей тени по льду. Поднимет он лапу -- поднимет и она; ускорит
шаг -- ускорит и она; качнет головой -- качнет и она.
Но вот тень остановилась с поднятой лапой.
Она встретилась с другой тенью.
Та, другая тень, маленькая, черная, прыгала и танцевала.
Фрам повернулся к луне и вскинул глаза -- посмотреть, кому же
принадлежит эта новая, игривая тень.
В лунном свете на макушке высокой скалы плясал и прыгал белый
медвежонок.
Но Фрам тотчас же понял, что это лишь обманчивая видимость. Положение
медвежонка на макушке скалы было совсем не таким веселым. Как и зачем он
туда забрался, было известно лишь ему одному. А теперь у него не хватало
храбрости слезть. Когда медвежонок пробовал спуститься, лапы его скользили
по обледенелому камню, он испуганно цеплялся за скалу когтями и подтягивался
обратно. Потом скуля и дрожа от страха, кое-как возвращал себе утерянное
равновесие.
При виде этого малыша в беде Фраму стало весело.
Он поднялся на задние лапы и, прислонившись плечом к скале, сделал
медвежонку лапой ободряющий знак:
-- А ну, глупыш! Прыгай, не бойся! Гоп! У меня в жизни бывали положения
потруднее!
Медвежонок трусил.
Сам Фрам, по-видимому, не внушал ему никакого страха. Наоборот, малыш,
казалось, обрадовался и ему не терпелось поскорее слезть со скалы, чтобы с
ним познакомиться. Зато высоты, куда его занесло, он явно боялся.
Фрам снова подал ему знак, на этот раз обеими лапами:
-- Смелее, бесенок! Дядя поймает тебя, как мячик. Медвежонок закрыл
глаза и съехал со скалы на спине. Фрам поймал его лапами, поставил перед
собой на снег, потом отступил на шаг, чтобы лучше видеть, с кем свела его
судьба.
Медвежонок смотрел на него снизу.
А Фрам на него сверху.
-- У тебя, кажется, симпатичная рожица, -- дружелюбно проурчал он.
-- А ты, кажется, славный дядя! -- казалось, отвечало радостное урчание
медвежонка.
После этого по медвежьему закону они обнюхали друг друга нос к носу,
чтобы лучше познакомиться.
Малыш потерся мордочкой о морду Фрама и даже позволил себе
неуважительно лизнуть его в нос, проявляя бурный восторг.
Их тени спутались на снегу.
Маленькая тень прыгала и вертелась вокруг большой, сливалась с ней и,
снова отделяясь, возвращалась на место.
Фрам погладил своего нового друга лапой по темени, как он когда-то
ласкал детенышей человека, подзывая их и делясь с ними конфетами.
Медвежонок не отскочил, не заворчал, а, наоборот, казался очень
довольным такой лаской.
Растроганный Фрам почесал у него под подбородком, потом приподнял его,
чтобы заглянуть ему в глаза. Вся его горечь рассеялась. Наконец-то он
встретил родича, который не показывает ему клыков и не удирает от него во
всю прыть!
-- А теперь надо придумать тебе кличку, -- проурчал он, опуская
медвежонка на снег и глядя на него с нежностью. -- Кажется, я уж придумал.
Нрав у тебя, видно, неугомонный, забрался ты куда не следовало, потому я
назову тебя "Непоседой". Это звучит не очень красиво, зато подходит тебе в
самый раз, дорогой мой Непоседа! Не огорчайся, потому что быть Непоседой все
же лучше, чем быть Пустоголовым...
Медвежонок не знал, что стал Непоседой, так как не понимал урчания
Фрама. Зато он тотчас же постарался оправдать свою кличку и стал цепляться
за взрослого дядю, чтобы тот опять взял его "на руки". Видно, ему впервые
пришлось испытать это удовольствие и теперь захотелось еще.
-- Нет, дружок! -- проурчал Фрам. -- Нечего привыкать! Ты, я вижу, уже
большой. И, вообще, для медвежонка стыдно проситься на руки. Хочешь лазить?
Пожалуйста, вот глыба льда! Или карабкайся вон на ту скалу.
Медвежонок понял, что его на руках носить не станут, и быстро свыкся с
мыслью, что придется идти самому.
Фрам посмотрел на него с грустью. От людей он научился осторожности.
Радость их встречи могла оказаться преждевременной, а дружба недолговечной.
Из-за скалы могла в любой момент появиться медведица, ощериться и броситься
на него с ревом и воем. И тогда ему опять придется обороняться обычными
акробатическими фигурами, прыжками и подножками, пока медведица не зароется
носом в снег и не откажется от борьбы с циркачом.
И все закончится так же, как неизменно кончались прежние встречи.
Разъяренная медведица повернется и влепит медвежонку две-три увесистых
оплеухи, чтобы научить его уму-разуму, чтобы не шатался без толку. Потом
поддаст лапой сзади, и когда малыш покатится кубарем, проворчит: "Марш
вперед! Я тебя догоню. Мы с тобой еще поговорим!.."
И Фрам опять останется один со своей тенью и опять будет слоняться как
зачумленный по ледяной пустыне.
Вот какую горькую думу думал Фрам, стоя на задних лапах и глядя на
медвежонка.
Непоседа тронул его лапой и проурчал на своем языке:
-- Эй, дядя! О чем задумался? Я тебе уже надоел? Фрам с жалостью пожал
плечами:
-- Что ты понимаешь? Ты еще маленький и глупый!.. Медвежонок, казалось,
понял его. Потому что он сразу погрустнел и тоненько заскулил:
-- Я, правда, еще маленький. Маленький и несчастный, посмотри, какая у
меня тут, на голове, ссадина... Но я совсем не такой глупый, как ты думаешь,
честное слово!
Он стоял перед Фрамом, освещенный луной, и почесывал маленькой лапой
голову, где действительно была видна незажившая ссадина.
Фрам нагнулся посмотреть болячку. Хотя он многое перенял от людей, но
как лечить раны, у ветеринара цирка Струцкого не научился. А потому
ограничился тем, что по звериному обычаю полизал глубокую ранку и проурчал:
-- Эге! Знаю я, что тебе тут помогло бы, господин Непоседа! Капелька
йоду! Пощипало бы чуточку и шкурка немного запачкалась бы. Но через неделю
не осталось бы и следа ни от ссадины, ни от пятна... Без йода так скоро не
заживет. Пусть подсохнет сама собой. А пока что когтями не расчесывай. Не то
мигом переменю тебе кличку и вместо Непоседы окрещу тебя Царапкой...
Медвежонку было решительно все равно: Непоседа или Царапка. Он ничего
из урчания Фрама не понял. Этот дядя говорил на каком-то другом языке,
непонятном в Заполярье. И совсем уже странной казалась ему перенятая у людей
привычка Фрама давать всем клички. Для медвежонка всякий медведь, большой
или маленький, пустоголовый или нет -- просто-напросто медведь и ничего
больше. Песец есть песец, а заяц -- заяц.
У него в голове не было, как у Фрама, полно всевозможных кличек. Зато
была ранка, которая здорово болела и к которой невольно тянулась его лапа.
Фрам отвел лапу и пожурил его:
-- Сказано: не трогать! Объясни лучше, как это ты заработал такую
ссадину?.. Ранка глубокая, похоже, что тебя задели когтем. Бьюсь об заклад,
что медвежьим. А ну-ка расскажи, как было дело?
Непоседа чувствовал себя очень несчастным. Стоял перед Фрамом и вся его
веселость исчезла. Урчание большого, доброго медведя он не понимал. Но
рассказать ему было что. С ним стряслась большая беда, он еле спасся...
Только как об этом расскажешь? Лучше отвести дядю на место происшествия.
Большой добрый медведь сам сообразит, как случилось, что он остался
сиротой, и почему страх загнал его на макушку высоченной скалы.
Он потянул Фрама лапой, точно так же, как детеныши людей тянут своих
дядей за полку пальто, приглашая их зайти в кондитерскую.
Фрам понял.
Понял и не стал расспрашивать, как и что. Они отправились на место
происшествия. Непоседа впереди, следом за ним Фрам. Между скал, при ярком
лунном свете на снегу виднелись следы. Определенно медвежьи. Следы были
тройные. Два следа большие, почти одинаковые, потом поменьше -- следы
Непоседы, которые вели к той самой скале, с которой снял его Фрам.
Медвежонок бросился вперед.
Фрам остановился.
Перед ними лежало на снегу большое белое тело.
Медвежонок бросился к нему, зарылся головой в мех, потом заскулил и
забегал вокруг.
Фрам осторожно приблизился. Сначала он подумал, что медведица просто
отдыхает на снегу. Что будет дальше, он уже знал: она вскочит, яростно
зарычит, потом бросится на него, заставит его проделать свое знаменитое
сальто-мортале, которое не могло принести ей никакого вреда, а лишь должно
было доказать в два счета, что драться с ним нет никакого смысла. Драться
Фраму очень не хотелось: драка положила бы конец его дружбе с Непоседой.
Но медведица не подавала никаких признаков жизни.
Она не поднялась на задние лапы, не заревела, гневно раскачивая
головой.
Внимание Фрама привлекли следы борьбы на снегу. Он увидел пятна крови и
понял печальную действительность.
Мать Непоседы была мертва и холодна, как кусок льда. Она была убита в
схватке, совсем непохожей на шуточные битвы Фрама. В схватке с медведем. Об
этом рассказывали следы.
Медвежонок совался мордочкой в мохнатое брюхо мертвой матери, где, он
знал, был источник теплого молока. Источник иссяк. Детеныш не мог понять
этого страшного чуда, точно так же, как Фрам когда-то, когда он остался
сиротой, не понимал того ужасного, что произошло с его матерью среди других
таких же суровых льдов.
Малыш жалобно скулил и катался по снегу, то и дело вскидывая глаза на
доброго большого медведя, словно ожидая от него объяснения.
Фрам погладил его по голове и обнял, отдаленно и смутно припоминая, как
тяжело остаться сиротой.
-- Нам тут больше нечего делать! -- проурчал он и потянул за собой
медвежонка. -- Мне все теперь ясно. Твоя мама погибла, защищая тебя. Убив
ее, медведь погнался за тобой и убил бы тебя тоже, если бы ты не залез на
скалу. Только тем ты и спасся. Вот бы встретиться с этим негодяем и вместе с
тобой проучить его. Обещаю, что ему придется туго!..
Медвежонок никак не мог оторваться от трупа матери. Фраму пришлось
поднять его и унести. Малыш глядел на мертвую медведицу через его плечо и
скулил.
-- Ну, будет! Довольно реветь. Будь мужчиной! -- ласково пожурил его
Фрам. -- Слезами тут не поможешь. Пока что нам с тобой не мешает
подкрепиться. Я-то привык поститься. А ты -- другое дело!
Медвежонок продолжал неутешно скулить и все оглядывался назад через
плечо Фрама.
Фрам решительно направился по следам убийцы.
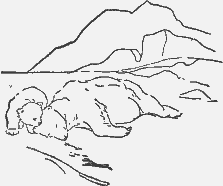 * * *
* * *
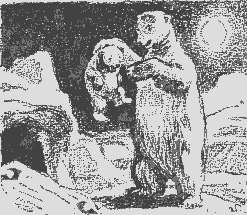 XIV. ФРАМ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ДРУГОМ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Через некоторое время медвежонок начал проявлять беспокойство и страх.
Его молодое обоняние, не притупленное жизнью среди людей и обитателей
циркового зверинца, обоняние свободного дикого зверя почувствовало
приближение опасности. Непоседа узнал запах медведя, который гнался за ним и
убил его мать. Фрам замедлил шаг.
Луна проливала на все вокруг таинственный холодный свет, такой чистый и
прозрачный, какой бывает только в полярных краях.
На голубом снегу, как рисунок на бумаге, четко обозначался каждый след.
Местами следы сопровождались пятнами крови.
Медвежонок тихонько заскулил. Фрам закрыл ему пасть лапой. Малыш понял
и смолк.
Теперь Фрам бесшумно крался длинным упругим шагом, как бенгальские
тигры, когда они приближаются к добыче.
Он опустил малыша на снег и, потеревшись носом о его мордочку, тихонько
проурчал ему на ухо то, что на человеческом языке означало бы примерно:
-- Сиди смирно, малыш! И чтоб я тебя не слышал! Жди!.. Ручаюсь, тебе
понравится то, что ты увидишь...
Медвежонок, конечно, не понимал чужого языка, на котором Фрам
объяснялся с людьми. Да и сам Фрам, возможно, сказал не совсем то что мы
передали, то есть именно этими самыми словами: при всей своей выучке, он все
же не обладал даром слова, да и ум у него не мог рассуждать по-человечески.
Тем не менее медвежонок замер на месте. Для нашей повести этого
достаточно.
Не шевелясь, затаив дыхание, он прислушивался к тиканью своего сердца.
Фрам обогнул отвесный утес с подветренной стороны, чтобы легкий ветерок
на мог его выдать, и неожиданно предстал на задних лапах перед
медведем-убийцей.
Тот поднял на него скорее удивленные, чем сердитые глаза, заворчал и
замотал головой. Может быть, в эту минуту он чувствовал некоторое презрение.
Он видел, что Фрам худой и облезлый, отощавший от голода. Сам же он был
гладкий и сильный и только что попробовал свои силы, расправившись с
медведицей. Ему было противно связываться с таким дохлым медведем.
В его глухом рычании слышалось приказание облезлому убираться
подобру-поздорову. И пусть считает себя счастливым, что дешево отделался --
застал его в хорошем настроении.
Но Фрам, казалось, не понял угрозы. Он приближался молча, не выказывая
никаких признаков робости и не торопясь, потирал передние лапы одну о другую
и даже прихлопывал в ладоши, как он делал на арене цирка, когда приглашал
охотников помериться с ним силами в борьбе или боксе.
Такой самонадеянности медведь-убийца еще не видывал. Надо было
немедленно наказать нахала.
Он уперся всеми лапами и устремился головой в брюхо Фрама --
безошибочный прием, который всегда опрокидывает противника. На этот раз,
однако, голова не встретила на своем пути ничего: вместо вражеского брюха
она ударила мимо. Фрам завертелся волчком и теперь ждал, что будет дальше.
Убийца ткнулся носом в снег, поднялся, отряхнулся и с гневным ревом
пошел на противника на задних лапах, намереваясь охватить его и перегрызть
ему горло -- словом, покончить с ним в два счета.
Фрам подпустил его совсем близко, немного отступил, прикинувшись
испуганным, потом неожиданно ударил снизу вверх под подбородок, как его
учили в цирке: бац! Злодей прикусил язык. От ярости и боли у него помутнело
в глазах.
Он завыл и вытянул лапы, чтобы обнять Фрама за шею, но подножка и удар
в брюхо повалили его мордой в снег. Фрам вскочил ему на спину, вцепился
обеими лапами в загривок и принялся мерно колотить его носом об лед: один
раз, два, три, десять раз, двадцать...
Напрасно извивался противник, выл, пытался подняться и стряхнуть с себя
Фрама. Глаза его слезились, голова шла кругом, сил с каждым ударом
становилось все меньше.
Из-за утеса медвежонок со страхом глядел на этот невиданный поединок,
не подходивший ни под какие правила Заполярья. Не удержавшись, он тоже
бросился в бой и принялся кусать убийцу за лапы, рвать ему шубу. Хотелось
поскорей увидеть его мертвым на льду, как лежала его мать с потухшими
глазами и иссякшим источником молока.
Фрам, однако, таких жестоких намерений как будто не имел. Ему хотелось
только вывести противника из строя и немного притупить ему клыки. Это,
видно, ему вполне удалось, потому что нескольких клыков тот потом не
досчитался.
Сочтя свой долг выполненным, Фрам слез со спины убийцы.
Дикарь бросился было кусаться, но Фрам схватил его за загривок,
завертел и ударил мордой об гранитный утес. Едва очухавшись, тот зарычал и
снова ринулся в бой.
Фрам повторил маневр. Три раза кряду кидался на него убийца и три раза
прикладывался в том же месте к гранитной стенке, пока, наконец, ему стало не
до драки.
Он лежал, скорчившись, тер лапами окровавленную морду и ревел, не
понимая, что с ним произошло.
Фрам подозвал Непоседу, и они отправились дальше.
А за ними в ночном безмолвии еще долго раздавались вой и стоны медведя
с выбитыми зубами.
Но Фрам их не слушал: он поступил так, как считал справедливым.
Однако глаза семенившего рядом с ним медвежонка, казалось, спрашивали
его с удивленным недоумением:
-- Почему ты не убил его, как он убил маму? Что это за драка?! Какой же
ты после этого медведь? Никогда не видел такой драки и таких медведей!..
Подняв морду и принюхавшись к ветру, Непоседа вдруг радостно заурчал.
-- В чем дело? -- спросил Фрам на своем языке, ласково подталкивая его
мордой. -- Что ты там учуял?
-- Что-то вкусное... Мясо... Сало! -- ответило урчание Непоседы. В
ледяной пустыне медвежонок оказался более подготовленным к вольной и опасной
жизни, чем Фрам. Он быстрее улавливал доносимый ветром запах дичи. Быстрее
чувствовал опасность.
Нюх Фрама был слабее и нередко обманывал его. Обоняние его притупили в
зверинце запахи сотни разных зверей. Из-за этого и по многим другим причинам
он жестоко страдал теперь от голода и чувствовал себя в Заполярье, как
последний нищий.
Фрам брел, задумчиво покачивая головой. Медвежонок торопил его, теребя
зубами за шкуру:
-- Ну же, дядя! Дождешься, что нас опередят другие! Не пойму, что ты за
медведь!..
Когда запах еды усилился, Непоседа помчался вперед, спотыкаясь, падая и
снова поднимаясь.
Чуткий нос его не обманул...
На скалистом склоне берега, где зияло устье пещеры, лежала громадная
мерзлая туша моржа: припрятанная добыча. А в самом устье пещеры оказалась
еще одна, обе едва тронутые. Только голова и шея были обглоданы. Зимние
запасы хозяйственного и бережливого медведя.
-- Кажется, мы набрели на кладовую Щербатого! -- весело проурчал Фрам.
-- Вот это удача! На ночь -- то есть на зиму -- нам с тобой хватит с
избытком.
Медвежонок не стал дожидаться приглашения и набросился на одну из туш
своими маленькими, еще молочными зубами, пытаясь порвать ее толстую,
замерзшую, блестящую шкуру. Но его зубки скользили, как по стеклу. Малыш
валился через голову, вставал, снова ворча и сопя принимался то за одну
тушу, то за другую, потом карабкался на них: недаром его звали Непоседой!
Он издавал сердитые, жадные звуки. Слушая их, можно было подумать, что
медвежонок собирается в один присест сожрать обе огромные туши -- сотни
килограммов мяса и сала. Но зубы его ничего не могли ухватить, и Непоседа то
и дело скатывался кувырком в снег.
-- Вот так история! -- проурчал он наконец, усевшись на снег и глядя на
Фрама. -- Научи меня, как быть! Я выбился из сил!
Вид у него был такой жалкий и огорченный, а озорная мордашка такая
симпатичная, что Фрам решил научить его одной хитрости, которую сам он
перенял у людей и которая могла пригодиться малышу в будущем.
Он начал с того, что вырвал когтями два куска мяса из брюха одного из
моржей. Два замерзших, твердых, как камень, куска. Потом улегся на них,
согревая их своей шерстью. Медвежонок глядел на него, ничего не понимая.
Пробовал сунуться мордой под брюхо Фраму: он еще никогда не видел белого
медведя в роли наседки.
Немного погодя Фрам достал из-под себя размякшее, теплое мясо. И
Непоседа вынужден был честно признаться, что его взрослый друг не только
добряк и первоклассный борец, но еще знает множество всяких штук, одна
другой хитрее, каких еще не видывали медведи Заполярья.
Оба наелись до отвала. Облизав себе морду, Непоседа поднялся на задние
лапы и спросил глазами:
-- Ну, дядя? Теперь куда?
Но Фрам еще не закончил выучки. Кое-что малышу еще следовало
показать...
Он вошел в пещеру и тщательно ее обследовал. Она показалась ему
подходящим убежищем, удобным для хранения провизии. С трудом перетащив
моржовые туши, он сложил их в глубине пещеры и придвинул к ее устью тяжелую
ледяную глыбу. Теперь у них была дверь.
-- А теперь пора и отдохнуть... Видишь, и луна заходит!
-- А мне спать совсем не хочется! -- заявил на своем языке Непоседа.
-- Хочется -- не хочется, пока ты со мной, мое слово -- закон! Усвой
раз навсегда!..
Проворчав это, Фрам схватил медвежонка за загривок, пятясь, втащил его
в берлогу и задвинул за собой ледяную глыбу.
Через пять минут медвежонок храпел, уткнувшись мордочкой в косматое
брюхо Фрама.
Так завязалась их дружба, которая продлилась всю полярную ночь.
Провизии у них было вдоволь. Когда бушевала пурга, они загораживали
устье берлоги ледяной глыбой, а когда в проясневшем небе снова показывалась
луна, выходили на разведку.
Им дважды встречался медведь-убийца. Он брел шатаясь, худой, отощавший.
Завидев Фрама с медвежонком, он тотчас же прятался за скалы.
Урока повторять не пришлось. Возможно, Щербатый встречался за это время
с другими медведями, может, даже дрался с ними и понял, что сила его
потеряна навсегда, вместе с зубами.
Но вот небо начало понемногу светлеть. Звезды растаяли одна за другой.
На востоке появилась огненная полоска. Приближалось полярное утро, весна.
Непоседа подрос и окреп. Кругленький, в теплой зимней шубке, он
резвился без угомону. Однако из повиновения своего взрослого, умного и
доброго друга не выходил.
Лишь только, бывало, заслышит его призывное урчание, сейчас прибежит и
замахает у его ног своим смешным коротеньким хвостиком.
Медвежонок оказался на редкость смышленым. Видно было, что из него со
временем получится первостатейный охотник. Несколько раз, почуяв песцов,
привлеченных запахами берлоги, он смело вступал с ними в бой и получал
хорошую встрепку. Доставалось от его клыков и песцам. Так или иначе, но они
больше не возвращались.
Однажды утром, уже в преддверии весны, разразилась пурга и пробушевала
целую неделю.
Когда ветер улегся и дали очистились, над горизонтом поднялось в
медвежий рост солнце. Подул ласковый, теплый ветерок. Ледяной покров океана
взломался, оставив у берега глубокие зеленые разводья.
Прилетели первые полярные крачки, потом первые серебристые и сизые
чайки. Прилетели и те редкостные птицы, которых называют чайками Росса -- с
голубой спинкой, розовым брюшком и черным бархатным ободком вокруг шейки.
Возвращаясь с побережья, Фрам с медвежонком в третий раз встретили
медведя-убийцу.
Он превратился в тень. Едва плелся, то и дело падая, поднимался и,
сделав несколько шагов, снова падал.
Завидев Фрама и Непоседу, он не выказал прежнего страха. Даже не
попытался удрать.
Ему теперь было все равно.
Он, вероятно, тащился к своему прежнему логову, в пещеру, чтобы уснуть
там вечным, беспробудным сном.
Медвежонок накинулся на него с грозным рычанием, принялся кусать и
рвать его шкуру: старый долг еще не был выплачен сполна. Вместо того чтобы
защищаться, Щербатый покачнулся, ища глазами, куда бы лечь.
Поведение Фрама навсегда осталось непонятным медвежонку. Он с сердитым
рычанием одним движением лапы отшвырнул Непоседу от его жертвы, поднял за
шиворот и посадил на высокую скалу -- обычное место Непоседы. Затем знаком
приказал ему сидеть смирно, а не то не миновать взбучки.
Потом направился к Щербатому.
Убийца лежал с закрытыми глазами, положив морду на вытянутые лапы.
Зная, какой способ борьбы предпочитает этот чудак, он не сомневался, что его
сейчас схватят за загривок и начнут колотить мордой об лед.
Но лапа Фрама не схватила его, не встряхнула, не ударила об лед, а
только легонько толкнула. Щербатый застонал, прося пощады.
-- Вставай! -- проворчал Фрам. -- Пора сообразить, что я тебя не трону.
Поднимайся и иди за мной!
Щербатый дрожал, не открывая глаз, и жалобно скулил. Фрам сгреб его,
взвалил себе на спину и точно так же, как таскал когда-то, под хохот
галерки, вокруг арены глупого Августина, отнес Щербатого в берлогу, к
остаткам моржовых туш. Там он положил его мордой к мерзлому мясу. Щербатый
со стоном открыл глаза. Порванные ноздри его расширились, он облизал
разбитый нос и попробовал было откусить кусок, но беззубые десна только
скользнули по мясу. Он уже не мог встать на ноги и откусить хороший кус,
тряся головой, как прежде, когда у него были все зубы.
Фрам оттолкнул его. Щербатый испуганно съежился и застонал. То, что он
увидел, было превыше его понимания.
Ученый циркач оторвал когтями кусок моржовой туши и, чтобы согреть его,
сунул себе под брюхо. Потом, когда мясо достаточно размякло, положил его
голодному Щербатому под нос. Тот принялся медленно жевать, как жуют беззубые
старики. Он не знал, что ожидает его дальше, но пока что свершилось чудо:
его кормят! Он получил теплый, мягкий кусок моржатины из лап того, от кого
он ожидал смерти.
Кончив есть, он поднял на Фрама испуганные глаза.
-- Чего тебе еще? -- проворчал тот, теряя терпение. -- Уж не
воображаешь ли ты, что я буду нянчиться с тобой всю жизнь? Научился
обращаться с мерзлым мясом и ступай себе подобру-поздорову!
Фрам направился к выходу из берлоги.
Щербатый оторопело глядел ему вслед. Вероятно, он принял все, что было,
за хитрость и боялся, как бы этот чудной медведь не вернулся и не перегрыз
ему глотку.
У входа в пещеру Фрам нашел медвежонка, который старался подглядеть,
что происходит внутри. Фрам не обратил на это никакого внимания, -- забыл,
что велел Непоседе смирно сидеть на скале, куда сам посадил его. В отличном
настроении, он знаком приказал медвежонку собираться в дорогу.
Берлогу они оставили Щербатому.
Пришла весна. Места было довольно для всех. Где-нибудь найдется логово
и для них.
Сначала они шли рядом. Но медвежонок то и дело оглядывался и стал
понемногу отставать. Фрам долго ничего не замечал, а когда хватился,
медвежонка уже с ним не оказалось. Он остановился... Принялся звать его,
сердито рыча... Никакого ответа! Тогда он пошел обратно по маленьким следам,
ускоряя шаг по мере того, как ему становилось ясно, куда они ведут. Им
овладела тревога.
Следы терялись в устье берлоги.
Фрам прислушался. Тишина... Это не обрадовало, а еще больше встревожило
его. Он кинулся в берлогу.
Медвежонок преспокойно облизывался. Щербатый лежал с вытаращенными
глазами и перегрызенным горлом.
Медвежонок расправился с ним по закону диких медведей Заполярья.
У малыша был старый должок, и он его уплатил.
А теперь облизывал себе морду.
В первую минуту Фраму захотелось задать ему хорошую трепку, чтобы тот
запомнил ее на всю жизнь, как Фрам помнил трепки, которые он сам, тогда еще
глупый медвежонок, получал от дрессировщика цирка Струцкого. Он даже занес
было лапу, но глаза Непоседы выражали такую невинную гордость, что лапа
Фрама повисла в воздухе.
Он опустил ее, не тронув медвежонка.
Дальнейшую судьбу свою медвежонок нашел сам, и она была такой, какой и
должна была быть в этих суровых местах. Жизнь для него едва лишь начиналась.
Ей предстояло быть долгой и протечь здесь, в стране вечных льдов, по законам
Заполярья.
Фрам подтолкнул его сзади лапой и угрюмо проворчал:
-- Ну, потешил себя! Теперь ступай...
Выходя, оба оглянулись на труп убийцы, растянувшийся возле остатков
моржовых туш.
Взгляд Фрама выражал почти человеческие чувства.
Глаза медвежонка сияли гордостью.
Они долго скитались по острову. Им не раз попадались Другие медведи,
уплетавшие свежепойманных в разводьях тюленей. Пользуясь испытанными
приемами, избавлявшими его от драки, укусов и переломанных костей, Фрам
неизменно оставался хозяином поля. Он поднимался на задние лапы, козырял,
прыгал через голову, ходил колесом, проделывал сальто-мортале; и дикий
медведь пускался наутек. Потом, отбежав подальше, останавливался и изумленно
оглядывался на чудовище.
С неменьшим изумлением смотрел на Фрама и медвежонок.
То, что он видел, превосходило все, чему научился от своего взрослого
друга с такими странными повадками.
Повадки эти нравились ему. В них было что-то веселое, невиданное и в то
же время устрашающее даже для самых могучих белых медведей, которых Фрам
обращал в бегство без особых для себя хлопот. Это было какое-то колдовство.
Приложенная к виску лапа, сальто-мортале, колесо, несколько плавных движений
вальса и, пожалуйста!.. Обед готов!
Они вдоволь наедались и уходили, оставляя излишки хозяевам. Знали, что
в другом месте найдут другой такой же дешевый и сытный обед. Медведей на
острове было много.
И все они, наверное, были опытными, искусными охотниками. Друзьям не
грозила голодовка.
Принюхиваясь поднятым по ветру носом, медвежонок первым сигналил о
близости еды. Потом поглядывал украдкой на Фрама, пытаясь разгадать, в чем
заключается его таинственная сила, обращавшая в бегство самых больших и
могучих медведей. Непоседе все это казалось ужасно забавным.
Он весело смотрел вслед удиравшему с непроглоченным куском медведю,
наблюдая, как беглец останавливается и с удивлением оглядывается на
диковинное и страшное существо, способное на такие штуки.
Солнце между тем не спеша продвигалось к середине неба.
И снова по освободившемуся от ледяного покрова океану поплыли на юг,
как таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, ледяные горы.
Иногда Фрам останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу
вглядывался в дали. Потом переводил взор на стоявшего рядом медвежонка и
назад, на полный медведей и дичи остров. И с каждым разом его все сильнее
грызла тоска, еще невнятная и безотчетная.
Однажды под берегом, у своих ног, на широком и плоском, омытом прибоем
камне они увидели гревшегося на солнце детеныша тюленя. Маленького,
круглого, блестящего. Его подсадила туда мордой мать, а сама нырнула в
зеленую пучину за живым кормом для него же.
Непоседа вскинул глаза на Фрама. Потом глянул вниз и начал проявлять
нетерпение.
Перехватив удивленный взгляд невинных круглых глаз тюлененка, Фрам
отвернулся. Он знал наперед, что произойдет, но ничего поделать не мог.
Непоседа проворно соскользнул с утеса на своих белых панталонах, как на
салазках. Внизу он одним прыжком очутился на ничего не подозревавшем
детеныше тюленя, и череп жертвы хрустнул под его молодыми острыми клыками.
У берега билась старая тюлениха, стараясь короткими толчками ластов
выбраться из воды на помощь детенышу. Когда ей наконец это удалось, Непоседа
уже был высоко, на половине подъема: волочил за собой добычу.
Мать жалобно застонала. А медвежонок с довольным урчанием принялся за
еду: он праздновал свой первый охотничий успех.
Потом облизываясь, сытый и гордый, завертелся вокруг Фрама.
Фрам же старался не глядеть на него, чувствуя в эту минуту, как что-то
навсегда отдалило его от маленького жестокого друга, бессознательно
жестокого, потому что закон ледяной пустыни требовал жестокости.
Вскоре у Фрама появилась новая причина для серьезных размышлений. И на
этот раз решающая.
Он спал, растянувшись на солнце, и видел, как всегда теперь, сон о
далеком, покинутом им человеческом мире.
Непоседа куда-то запропастился. Когда Фрам засыпал, медвежонок улегся с
ним рядом. Теперь его не было.
Хрустнув суставами, Фрам поднялся и принялся за поиски. Глянул направо
-- нету, налево -- нету. Он спустился в распадок, где по ледяному дну
сочилась тоненькая струйка талой воды, и остановился, ошеломленный.
Непоседа спрятался здесь, чтобы беспрепятственно разучивать цирковые
номера Фрама. Отдавал честь, танцевал вальс, добросовестно старался
проделать сальто-мортале. Падал с разбегу то на нос то на спину. Неудачи не
останавливали его. Он упрямо повторял все сызнова и опять катился кубарем по
льду.
Почувствовав на себе взгляд Фрама, медвежонок радостно заурчал.
Возможно, он ждал от него похвалы, и двинулся навстречу ему на задних лапах,
комично раскланиваясь и кружась в вальсе. Потом остановился и козырнул,
приложив лапу к виску. Его взрослый друг, думал он, не мог не порадоваться
успехам такого талантливого и прилежного ученика.
Но взрослый друг схватил его за шиворот, поднял в воздух и принялся
безжалостно шлепать. И не раз, не два, а несколько десятков раз кряду
опустилась лапа Фрама на спину малыша.
Тот корчился, рычал, скулил. Но Фрам продолжал тузить его, пока не
устал. Потом повернул его к себе мордой и влепил ему дюжину оплеух.
Когда же он наконец отпустил медвежонка, Непоседа плюхнулся на снег,
как мешок, и не мог даже скулить.
-- Понял теперь? -- гневно урчал Фрам. -- Можешь делать все, что тебе
угодно. Устраивай свою жизнь по здешним законам. Но не превращайся в такого
же клоуна, как я! Этого я ни за что не допущу. Одного паяца довольно
Заполярью!
Медвежонок ползал у его ног, ластился к нему, просил прощения, сам не
зная за что.
Потом, испуганный, побрел вслед за Фрамом, сохраняя почтительное
расстояние. Остановится Фрам, остановится и он. Двинется Фрам вперед,
двинется и он.
Медвежонку хотелось умилостивить своего взрослого друга, добиться
прощения, но за что?
Протоптанная ими в снегу стежка вела к берегу.
Фрам шел, задумчиво опустив голову.
В нем созрело решение. Он принял его не без горечи: предстояло
расстаться с единственным существом его племени, с которым он сблизился в
этой пустыне. Но так будет лучше для медвежонка. Непоседа будет предоставлен
самому себе. Смышленый, отважный, вполне подготовленный к самостоятельной
жизни в родном краю, он со временем станет хорошим охотником. Это видно уже
сейчас.
Оставшись с ним, малыш наверняка превратится в клоуна. В никчемного
медведя, глупого Августина полярных льдов.
Фрам ускорил шаг.
Сверху, с высокого берега, перед ним открывался необъятный зеленый
океан, по которому плыли к горизонту, из неизвестности в неизвестность, как
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, большие и малые
льдины.
Одна такая льдина причалила к берегу и зацепилась за выступ скалы,
раскачиваясь на волнах, готовая уплыть дальше. Она, казалось, ждала его.
Фрам, не оборачиваясь, соскользнул вниз, прыгнул на нее и оттолкнулся
лапой от скалы.
Льдина качнулась, повернулась, подхваченная течением, вышла в открытое
море и устремилась туда, куда плыли остальные ледяные галеры без парусов,
без руля и без гребцов. На ней, повернувшись спиной к острову, плыл
одинокий, взъерошенный белый медведь.
Наверху, на высоком берегу, бегал взад и вперед, скуля и вытягивая шею,
медвежонок. Он звал Фрама назад, просил взять его с собой.
Но Фрам, белый, как его льдина, не оборачивался.
Малыш остановился, слившись с ледяным берегом. Он уже не жаловался, а
только смотрел вслед уплывавшей льдине и белой тени на ней. Она становилась
все меньше и меньше, пока наконец на растаяла на зеленой линии горизонта.
XIV. ФРАМ РАССТАЕТСЯ СО СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ДРУГОМ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Через некоторое время медвежонок начал проявлять беспокойство и страх.
Его молодое обоняние, не притупленное жизнью среди людей и обитателей
циркового зверинца, обоняние свободного дикого зверя почувствовало
приближение опасности. Непоседа узнал запах медведя, который гнался за ним и
убил его мать. Фрам замедлил шаг.
Луна проливала на все вокруг таинственный холодный свет, такой чистый и
прозрачный, какой бывает только в полярных краях.
На голубом снегу, как рисунок на бумаге, четко обозначался каждый след.
Местами следы сопровождались пятнами крови.
Медвежонок тихонько заскулил. Фрам закрыл ему пасть лапой. Малыш понял
и смолк.
Теперь Фрам бесшумно крался длинным упругим шагом, как бенгальские
тигры, когда они приближаются к добыче.
Он опустил малыша на снег и, потеревшись носом о его мордочку, тихонько
проурчал ему на ухо то, что на человеческом языке означало бы примерно:
-- Сиди смирно, малыш! И чтоб я тебя не слышал! Жди!.. Ручаюсь, тебе
понравится то, что ты увидишь...
Медвежонок, конечно, не понимал чужого языка, на котором Фрам
объяснялся с людьми. Да и сам Фрам, возможно, сказал не совсем то что мы
передали, то есть именно этими самыми словами: при всей своей выучке, он все
же не обладал даром слова, да и ум у него не мог рассуждать по-человечески.
Тем не менее медвежонок замер на месте. Для нашей повести этого
достаточно.
Не шевелясь, затаив дыхание, он прислушивался к тиканью своего сердца.
Фрам обогнул отвесный утес с подветренной стороны, чтобы легкий ветерок
на мог его выдать, и неожиданно предстал на задних лапах перед
медведем-убийцей.
Тот поднял на него скорее удивленные, чем сердитые глаза, заворчал и
замотал головой. Может быть, в эту минуту он чувствовал некоторое презрение.
Он видел, что Фрам худой и облезлый, отощавший от голода. Сам же он был
гладкий и сильный и только что попробовал свои силы, расправившись с
медведицей. Ему было противно связываться с таким дохлым медведем.
В его глухом рычании слышалось приказание облезлому убираться
подобру-поздорову. И пусть считает себя счастливым, что дешево отделался --
застал его в хорошем настроении.
Но Фрам, казалось, не понял угрозы. Он приближался молча, не выказывая
никаких признаков робости и не торопясь, потирал передние лапы одну о другую
и даже прихлопывал в ладоши, как он делал на арене цирка, когда приглашал
охотников помериться с ним силами в борьбе или боксе.
Такой самонадеянности медведь-убийца еще не видывал. Надо было
немедленно наказать нахала.
Он уперся всеми лапами и устремился головой в брюхо Фрама --
безошибочный прием, который всегда опрокидывает противника. На этот раз,
однако, голова не встретила на своем пути ничего: вместо вражеского брюха
она ударила мимо. Фрам завертелся волчком и теперь ждал, что будет дальше.
Убийца ткнулся носом в снег, поднялся, отряхнулся и с гневным ревом
пошел на противника на задних лапах, намереваясь охватить его и перегрызть
ему горло -- словом, покончить с ним в два счета.
Фрам подпустил его совсем близко, немного отступил, прикинувшись
испуганным, потом неожиданно ударил снизу вверх под подбородок, как его
учили в цирке: бац! Злодей прикусил язык. От ярости и боли у него помутнело
в глазах.
Он завыл и вытянул лапы, чтобы обнять Фрама за шею, но подножка и удар
в брюхо повалили его мордой в снег. Фрам вскочил ему на спину, вцепился
обеими лапами в загривок и принялся мерно колотить его носом об лед: один
раз, два, три, десять раз, двадцать...
Напрасно извивался противник, выл, пытался подняться и стряхнуть с себя
Фрама. Глаза его слезились, голова шла кругом, сил с каждым ударом
становилось все меньше.
Из-за утеса медвежонок со страхом глядел на этот невиданный поединок,
не подходивший ни под какие правила Заполярья. Не удержавшись, он тоже
бросился в бой и принялся кусать убийцу за лапы, рвать ему шубу. Хотелось
поскорей увидеть его мертвым на льду, как лежала его мать с потухшими
глазами и иссякшим источником молока.
Фрам, однако, таких жестоких намерений как будто не имел. Ему хотелось
только вывести противника из строя и немного притупить ему клыки. Это,
видно, ему вполне удалось, потому что нескольких клыков тот потом не
досчитался.
Сочтя свой долг выполненным, Фрам слез со спины убийцы.
Дикарь бросился было кусаться, но Фрам схватил его за загривок,
завертел и ударил мордой об гранитный утес. Едва очухавшись, тот зарычал и
снова ринулся в бой.
Фрам повторил маневр. Три раза кряду кидался на него убийца и три раза
прикладывался в том же месте к гранитной стенке, пока, наконец, ему стало не
до драки.
Он лежал, скорчившись, тер лапами окровавленную морду и ревел, не
понимая, что с ним произошло.
Фрам подозвал Непоседу, и они отправились дальше.
А за ними в ночном безмолвии еще долго раздавались вой и стоны медведя
с выбитыми зубами.
Но Фрам их не слушал: он поступил так, как считал справедливым.
Однако глаза семенившего рядом с ним медвежонка, казалось, спрашивали
его с удивленным недоумением:
-- Почему ты не убил его, как он убил маму? Что это за драка?! Какой же
ты после этого медведь? Никогда не видел такой драки и таких медведей!..
Подняв морду и принюхавшись к ветру, Непоседа вдруг радостно заурчал.
-- В чем дело? -- спросил Фрам на своем языке, ласково подталкивая его
мордой. -- Что ты там учуял?
-- Что-то вкусное... Мясо... Сало! -- ответило урчание Непоседы. В
ледяной пустыне медвежонок оказался более подготовленным к вольной и опасной
жизни, чем Фрам. Он быстрее улавливал доносимый ветром запах дичи. Быстрее
чувствовал опасность.
Нюх Фрама был слабее и нередко обманывал его. Обоняние его притупили в
зверинце запахи сотни разных зверей. Из-за этого и по многим другим причинам
он жестоко страдал теперь от голода и чувствовал себя в Заполярье, как
последний нищий.
Фрам брел, задумчиво покачивая головой. Медвежонок торопил его, теребя
зубами за шкуру:
-- Ну же, дядя! Дождешься, что нас опередят другие! Не пойму, что ты за
медведь!..
Когда запах еды усилился, Непоседа помчался вперед, спотыкаясь, падая и
снова поднимаясь.
Чуткий нос его не обманул...
На скалистом склоне берега, где зияло устье пещеры, лежала громадная
мерзлая туша моржа: припрятанная добыча. А в самом устье пещеры оказалась
еще одна, обе едва тронутые. Только голова и шея были обглоданы. Зимние
запасы хозяйственного и бережливого медведя.
-- Кажется, мы набрели на кладовую Щербатого! -- весело проурчал Фрам.
-- Вот это удача! На ночь -- то есть на зиму -- нам с тобой хватит с
избытком.
Медвежонок не стал дожидаться приглашения и набросился на одну из туш
своими маленькими, еще молочными зубами, пытаясь порвать ее толстую,
замерзшую, блестящую шкуру. Но его зубки скользили, как по стеклу. Малыш
валился через голову, вставал, снова ворча и сопя принимался то за одну
тушу, то за другую, потом карабкался на них: недаром его звали Непоседой!
Он издавал сердитые, жадные звуки. Слушая их, можно было подумать, что
медвежонок собирается в один присест сожрать обе огромные туши -- сотни
килограммов мяса и сала. Но зубы его ничего не могли ухватить, и Непоседа то
и дело скатывался кувырком в снег.
-- Вот так история! -- проурчал он наконец, усевшись на снег и глядя на
Фрама. -- Научи меня, как быть! Я выбился из сил!
Вид у него был такой жалкий и огорченный, а озорная мордашка такая
симпатичная, что Фрам решил научить его одной хитрости, которую сам он
перенял у людей и которая могла пригодиться малышу в будущем.
Он начал с того, что вырвал когтями два куска мяса из брюха одного из
моржей. Два замерзших, твердых, как камень, куска. Потом улегся на них,
согревая их своей шерстью. Медвежонок глядел на него, ничего не понимая.
Пробовал сунуться мордой под брюхо Фраму: он еще никогда не видел белого
медведя в роли наседки.
Немного погодя Фрам достал из-под себя размякшее, теплое мясо. И
Непоседа вынужден был честно признаться, что его взрослый друг не только
добряк и первоклассный борец, но еще знает множество всяких штук, одна
другой хитрее, каких еще не видывали медведи Заполярья.
Оба наелись до отвала. Облизав себе морду, Непоседа поднялся на задние
лапы и спросил глазами:
-- Ну, дядя? Теперь куда?
Но Фрам еще не закончил выучки. Кое-что малышу еще следовало
показать...
Он вошел в пещеру и тщательно ее обследовал. Она показалась ему
подходящим убежищем, удобным для хранения провизии. С трудом перетащив
моржовые туши, он сложил их в глубине пещеры и придвинул к ее устью тяжелую
ледяную глыбу. Теперь у них была дверь.
-- А теперь пора и отдохнуть... Видишь, и луна заходит!
-- А мне спать совсем не хочется! -- заявил на своем языке Непоседа.
-- Хочется -- не хочется, пока ты со мной, мое слово -- закон! Усвой
раз навсегда!..
Проворчав это, Фрам схватил медвежонка за загривок, пятясь, втащил его
в берлогу и задвинул за собой ледяную глыбу.
Через пять минут медвежонок храпел, уткнувшись мордочкой в косматое
брюхо Фрама.
Так завязалась их дружба, которая продлилась всю полярную ночь.
Провизии у них было вдоволь. Когда бушевала пурга, они загораживали
устье берлоги ледяной глыбой, а когда в проясневшем небе снова показывалась
луна, выходили на разведку.
Им дважды встречался медведь-убийца. Он брел шатаясь, худой, отощавший.
Завидев Фрама с медвежонком, он тотчас же прятался за скалы.
Урока повторять не пришлось. Возможно, Щербатый встречался за это время
с другими медведями, может, даже дрался с ними и понял, что сила его
потеряна навсегда, вместе с зубами.
Но вот небо начало понемногу светлеть. Звезды растаяли одна за другой.
На востоке появилась огненная полоска. Приближалось полярное утро, весна.
Непоседа подрос и окреп. Кругленький, в теплой зимней шубке, он
резвился без угомону. Однако из повиновения своего взрослого, умного и
доброго друга не выходил.
Лишь только, бывало, заслышит его призывное урчание, сейчас прибежит и
замахает у его ног своим смешным коротеньким хвостиком.
Медвежонок оказался на редкость смышленым. Видно было, что из него со
временем получится первостатейный охотник. Несколько раз, почуяв песцов,
привлеченных запахами берлоги, он смело вступал с ними в бой и получал
хорошую встрепку. Доставалось от его клыков и песцам. Так или иначе, но они
больше не возвращались.
Однажды утром, уже в преддверии весны, разразилась пурга и пробушевала
целую неделю.
Когда ветер улегся и дали очистились, над горизонтом поднялось в
медвежий рост солнце. Подул ласковый, теплый ветерок. Ледяной покров океана
взломался, оставив у берега глубокие зеленые разводья.
Прилетели первые полярные крачки, потом первые серебристые и сизые
чайки. Прилетели и те редкостные птицы, которых называют чайками Росса -- с
голубой спинкой, розовым брюшком и черным бархатным ободком вокруг шейки.
Возвращаясь с побережья, Фрам с медвежонком в третий раз встретили
медведя-убийцу.
Он превратился в тень. Едва плелся, то и дело падая, поднимался и,
сделав несколько шагов, снова падал.
Завидев Фрама и Непоседу, он не выказал прежнего страха. Даже не
попытался удрать.
Ему теперь было все равно.
Он, вероятно, тащился к своему прежнему логову, в пещеру, чтобы уснуть
там вечным, беспробудным сном.
Медвежонок накинулся на него с грозным рычанием, принялся кусать и
рвать его шкуру: старый долг еще не был выплачен сполна. Вместо того чтобы
защищаться, Щербатый покачнулся, ища глазами, куда бы лечь.
Поведение Фрама навсегда осталось непонятным медвежонку. Он с сердитым
рычанием одним движением лапы отшвырнул Непоседу от его жертвы, поднял за
шиворот и посадил на высокую скалу -- обычное место Непоседы. Затем знаком
приказал ему сидеть смирно, а не то не миновать взбучки.
Потом направился к Щербатому.
Убийца лежал с закрытыми глазами, положив морду на вытянутые лапы.
Зная, какой способ борьбы предпочитает этот чудак, он не сомневался, что его
сейчас схватят за загривок и начнут колотить мордой об лед.
Но лапа Фрама не схватила его, не встряхнула, не ударила об лед, а
только легонько толкнула. Щербатый застонал, прося пощады.
-- Вставай! -- проворчал Фрам. -- Пора сообразить, что я тебя не трону.
Поднимайся и иди за мной!
Щербатый дрожал, не открывая глаз, и жалобно скулил. Фрам сгреб его,
взвалил себе на спину и точно так же, как таскал когда-то, под хохот
галерки, вокруг арены глупого Августина, отнес Щербатого в берлогу, к
остаткам моржовых туш. Там он положил его мордой к мерзлому мясу. Щербатый
со стоном открыл глаза. Порванные ноздри его расширились, он облизал
разбитый нос и попробовал было откусить кусок, но беззубые десна только
скользнули по мясу. Он уже не мог встать на ноги и откусить хороший кус,
тряся головой, как прежде, когда у него были все зубы.
Фрам оттолкнул его. Щербатый испуганно съежился и застонал. То, что он
увидел, было превыше его понимания.
Ученый циркач оторвал когтями кусок моржовой туши и, чтобы согреть его,
сунул себе под брюхо. Потом, когда мясо достаточно размякло, положил его
голодному Щербатому под нос. Тот принялся медленно жевать, как жуют беззубые
старики. Он не знал, что ожидает его дальше, но пока что свершилось чудо:
его кормят! Он получил теплый, мягкий кусок моржатины из лап того, от кого
он ожидал смерти.
Кончив есть, он поднял на Фрама испуганные глаза.
-- Чего тебе еще? -- проворчал тот, теряя терпение. -- Уж не
воображаешь ли ты, что я буду нянчиться с тобой всю жизнь? Научился
обращаться с мерзлым мясом и ступай себе подобру-поздорову!
Фрам направился к выходу из берлоги.
Щербатый оторопело глядел ему вслед. Вероятно, он принял все, что было,
за хитрость и боялся, как бы этот чудной медведь не вернулся и не перегрыз
ему глотку.
У входа в пещеру Фрам нашел медвежонка, который старался подглядеть,
что происходит внутри. Фрам не обратил на это никакого внимания, -- забыл,
что велел Непоседе смирно сидеть на скале, куда сам посадил его. В отличном
настроении, он знаком приказал медвежонку собираться в дорогу.
Берлогу они оставили Щербатому.
Пришла весна. Места было довольно для всех. Где-нибудь найдется логово
и для них.
Сначала они шли рядом. Но медвежонок то и дело оглядывался и стал
понемногу отставать. Фрам долго ничего не замечал, а когда хватился,
медвежонка уже с ним не оказалось. Он остановился... Принялся звать его,
сердито рыча... Никакого ответа! Тогда он пошел обратно по маленьким следам,
ускоряя шаг по мере того, как ему становилось ясно, куда они ведут. Им
овладела тревога.
Следы терялись в устье берлоги.
Фрам прислушался. Тишина... Это не обрадовало, а еще больше встревожило
его. Он кинулся в берлогу.
Медвежонок преспокойно облизывался. Щербатый лежал с вытаращенными
глазами и перегрызенным горлом.
Медвежонок расправился с ним по закону диких медведей Заполярья.
У малыша был старый должок, и он его уплатил.
А теперь облизывал себе морду.
В первую минуту Фраму захотелось задать ему хорошую трепку, чтобы тот
запомнил ее на всю жизнь, как Фрам помнил трепки, которые он сам, тогда еще
глупый медвежонок, получал от дрессировщика цирка Струцкого. Он даже занес
было лапу, но глаза Непоседы выражали такую невинную гордость, что лапа
Фрама повисла в воздухе.
Он опустил ее, не тронув медвежонка.
Дальнейшую судьбу свою медвежонок нашел сам, и она была такой, какой и
должна была быть в этих суровых местах. Жизнь для него едва лишь начиналась.
Ей предстояло быть долгой и протечь здесь, в стране вечных льдов, по законам
Заполярья.
Фрам подтолкнул его сзади лапой и угрюмо проворчал:
-- Ну, потешил себя! Теперь ступай...
Выходя, оба оглянулись на труп убийцы, растянувшийся возле остатков
моржовых туш.
Взгляд Фрама выражал почти человеческие чувства.
Глаза медвежонка сияли гордостью.
Они долго скитались по острову. Им не раз попадались Другие медведи,
уплетавшие свежепойманных в разводьях тюленей. Пользуясь испытанными
приемами, избавлявшими его от драки, укусов и переломанных костей, Фрам
неизменно оставался хозяином поля. Он поднимался на задние лапы, козырял,
прыгал через голову, ходил колесом, проделывал сальто-мортале; и дикий
медведь пускался наутек. Потом, отбежав подальше, останавливался и изумленно
оглядывался на чудовище.
С неменьшим изумлением смотрел на Фрама и медвежонок.
То, что он видел, превосходило все, чему научился от своего взрослого
друга с такими странными повадками.
Повадки эти нравились ему. В них было что-то веселое, невиданное и в то
же время устрашающее даже для самых могучих белых медведей, которых Фрам
обращал в бегство без особых для себя хлопот. Это было какое-то колдовство.
Приложенная к виску лапа, сальто-мортале, колесо, несколько плавных движений
вальса и, пожалуйста!.. Обед готов!
Они вдоволь наедались и уходили, оставляя излишки хозяевам. Знали, что
в другом месте найдут другой такой же дешевый и сытный обед. Медведей на
острове было много.
И все они, наверное, были опытными, искусными охотниками. Друзьям не
грозила голодовка.
Принюхиваясь поднятым по ветру носом, медвежонок первым сигналил о
близости еды. Потом поглядывал украдкой на Фрама, пытаясь разгадать, в чем
заключается его таинственная сила, обращавшая в бегство самых больших и
могучих медведей. Непоседе все это казалось ужасно забавным.
Он весело смотрел вслед удиравшему с непроглоченным куском медведю,
наблюдая, как беглец останавливается и с удивлением оглядывается на
диковинное и страшное существо, способное на такие штуки.
Солнце между тем не спеша продвигалось к середине неба.
И снова по освободившемуся от ледяного покрова океану поплыли на юг,
как таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, ледяные горы.
Иногда Фрам останавливался на краю какого-нибудь утеса и подолгу
вглядывался в дали. Потом переводил взор на стоявшего рядом медвежонка и
назад, на полный медведей и дичи остров. И с каждым разом его все сильнее
грызла тоска, еще невнятная и безотчетная.
Однажды под берегом, у своих ног, на широком и плоском, омытом прибоем
камне они увидели гревшегося на солнце детеныша тюленя. Маленького,
круглого, блестящего. Его подсадила туда мордой мать, а сама нырнула в
зеленую пучину за живым кормом для него же.
Непоседа вскинул глаза на Фрама. Потом глянул вниз и начал проявлять
нетерпение.
Перехватив удивленный взгляд невинных круглых глаз тюлененка, Фрам
отвернулся. Он знал наперед, что произойдет, но ничего поделать не мог.
Непоседа проворно соскользнул с утеса на своих белых панталонах, как на
салазках. Внизу он одним прыжком очутился на ничего не подозревавшем
детеныше тюленя, и череп жертвы хрустнул под его молодыми острыми клыками.
У берега билась старая тюлениха, стараясь короткими толчками ластов
выбраться из воды на помощь детенышу. Когда ей наконец это удалось, Непоседа
уже был высоко, на половине подъема: волочил за собой добычу.
Мать жалобно застонала. А медвежонок с довольным урчанием принялся за
еду: он праздновал свой первый охотничий успех.
Потом облизываясь, сытый и гордый, завертелся вокруг Фрама.
Фрам же старался не глядеть на него, чувствуя в эту минуту, как что-то
навсегда отдалило его от маленького жестокого друга, бессознательно
жестокого, потому что закон ледяной пустыни требовал жестокости.
Вскоре у Фрама появилась новая причина для серьезных размышлений. И на
этот раз решающая.
Он спал, растянувшись на солнце, и видел, как всегда теперь, сон о
далеком, покинутом им человеческом мире.
Непоседа куда-то запропастился. Когда Фрам засыпал, медвежонок улегся с
ним рядом. Теперь его не было.
Хрустнув суставами, Фрам поднялся и принялся за поиски. Глянул направо
-- нету, налево -- нету. Он спустился в распадок, где по ледяному дну
сочилась тоненькая струйка талой воды, и остановился, ошеломленный.
Непоседа спрятался здесь, чтобы беспрепятственно разучивать цирковые
номера Фрама. Отдавал честь, танцевал вальс, добросовестно старался
проделать сальто-мортале. Падал с разбегу то на нос то на спину. Неудачи не
останавливали его. Он упрямо повторял все сызнова и опять катился кубарем по
льду.
Почувствовав на себе взгляд Фрама, медвежонок радостно заурчал.
Возможно, он ждал от него похвалы, и двинулся навстречу ему на задних лапах,
комично раскланиваясь и кружась в вальсе. Потом остановился и козырнул,
приложив лапу к виску. Его взрослый друг, думал он, не мог не порадоваться
успехам такого талантливого и прилежного ученика.
Но взрослый друг схватил его за шиворот, поднял в воздух и принялся
безжалостно шлепать. И не раз, не два, а несколько десятков раз кряду
опустилась лапа Фрама на спину малыша.
Тот корчился, рычал, скулил. Но Фрам продолжал тузить его, пока не
устал. Потом повернул его к себе мордой и влепил ему дюжину оплеух.
Когда же он наконец отпустил медвежонка, Непоседа плюхнулся на снег,
как мешок, и не мог даже скулить.
-- Понял теперь? -- гневно урчал Фрам. -- Можешь делать все, что тебе
угодно. Устраивай свою жизнь по здешним законам. Но не превращайся в такого
же клоуна, как я! Этого я ни за что не допущу. Одного паяца довольно
Заполярью!
Медвежонок ползал у его ног, ластился к нему, просил прощения, сам не
зная за что.
Потом, испуганный, побрел вслед за Фрамом, сохраняя почтительное
расстояние. Остановится Фрам, остановится и он. Двинется Фрам вперед,
двинется и он.
Медвежонку хотелось умилостивить своего взрослого друга, добиться
прощения, но за что?
Протоптанная ими в снегу стежка вела к берегу.
Фрам шел, задумчиво опустив голову.
В нем созрело решение. Он принял его не без горечи: предстояло
расстаться с единственным существом его племени, с которым он сблизился в
этой пустыне. Но так будет лучше для медвежонка. Непоседа будет предоставлен
самому себе. Смышленый, отважный, вполне подготовленный к самостоятельной
жизни в родном краю, он со временем станет хорошим охотником. Это видно уже
сейчас.
Оставшись с ним, малыш наверняка превратится в клоуна. В никчемного
медведя, глупого Августина полярных льдов.
Фрам ускорил шаг.
Сверху, с высокого берега, перед ним открывался необъятный зеленый
океан, по которому плыли к горизонту, из неизвестности в неизвестность, как
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов, большие и малые
льдины.
Одна такая льдина причалила к берегу и зацепилась за выступ скалы,
раскачиваясь на волнах, готовая уплыть дальше. Она, казалось, ждала его.
Фрам, не оборачиваясь, соскользнул вниз, прыгнул на нее и оттолкнулся
лапой от скалы.
Льдина качнулась, повернулась, подхваченная течением, вышла в открытое
море и устремилась туда, куда плыли остальные ледяные галеры без парусов,
без руля и без гребцов. На ней, повернувшись спиной к острову, плыл
одинокий, взъерошенный белый медведь.
Наверху, на высоком берегу, бегал взад и вперед, скуля и вытягивая шею,
медвежонок. Он звал Фрама назад, просил взять его с собой.
Но Фрам, белый, как его льдина, не оборачивался.
Малыш остановился, слившись с ледяным берегом. Он уже не жаловался, а
только смотрел вслед уплывавшей льдине и белой тени на ней. Она становилась
все меньше и меньше, пока наконец на растаяла на зеленой линии горизонта.
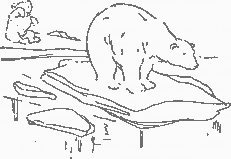 * * *
* * *
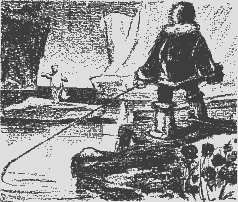 XV. НАНУК
Океан был пепельно-зеленым, студеным и страшным. О приветливой, веселой
синеве теплых морей в нем не было и помина.
Даже при ослепительном свете полярного солнца во время полугодового
полярного дня красота Ледовитого океана остается суровой, дикой и полной
тревоги. Так, по крайней мере, говорят все побывавшие там путешественники.
На сколько бы времени их ни заносило в эти неприютные просторы, вначале
их всегда поражало необыкновенное величие редкого зрелища. Его новизна. Его
трепетная красота. Неподвижно стоящее в небе солнце. Лучи, играющие на
серебряной ряби. А кругом ровный, водный горизонт, без единой полоски суши.
Не видно ни корабля, ни лодки. Нигде ни души. Лишь безбрежность зеленых
вод, по которым, влекомые течением, скользят к югу ледяные горы --
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов.
И редко когда от одного края горизонта до другого перечеркнет небо,
шелестя крыльями, станица невесть откуда и куда летящих птиц.
Во всем этом есть красота. Непонятная, тревожная.
Вначале путешественник заворожен. Но уже через неделю красота эта
начинает тяготить его, нагнетая в душу безысходную жуть. Превращается в
муку, в давящий кошмар.
Все то же неподвижное солнце среди неба. Все то же сверкание лучей в
чешуйках ряби. Все те же пустынные дали. Все те же льды, плывущие из одной
неизвестности в другую.
Утомленный однообразием этого зрелища глаз требует перемены.
Хоть бы увидеть корабль или сушу! Хоть бы услышать человеческий голос!
Пристать бы сейчас к берегу с теплым, мягким песком, с садами, где звенят
соловьиные трели! Несбыточная мечта!
Здесь суровая пустыня Ледовитого океана.
Здесь властвуют одиночество и мороз. Угнетает даже ослепительный свет.
Хочется другого освещения: утреннего, закатного, осеннего, весеннего, а не
этого вечного полдня с пригвожденным к голубому небосводу солнцем, холодным,
сверкающим, зубастым.
А если здесь и бывают перемены, то только к худшему: шторм, пурга или
туман.
Тогда небо окутывается снежной пеленой. Плавучие льды возникают из
тумана и снова исчезают, как призраки, как тени из мира теней.
Именно такой непроглядный туман скрыл солнце, когда Фрам уплывал на
своей льдине. Он опустился внезапно, окружил льдину, заволок небо, спрятал
дали. Белый, непроницаемый, ватный полог, который заглушил даже плеск воды.
Фрам свернулся клубком на своем ледяном ложе и закрыл глаза, безразличный ко
всему на свете.
В туман ли, в ясную ли погоду, плавучая льдина одинаково понесет его к
другим пустынным просторам. Ему хотелось надолго заснуть и проснуться у
зеленого берега, с лужайками и цветами, с людьми и музыкой, с аллеями в
парках, где играют на желтом песке, гоняясь за серсо, дети в белом, синем,
красном.
Но это было возможно разве что во сне.
Во сне Фрам видел себя снова посреди арены в цирке Струцкого. Ему
кричат: "Браво!", аплодируют. Он снова со своим закадычным другом, глупым
Августином. Они соревнуются в сальто-мортале. Парик клоуна кирпичного цвета,
а нос похож на спелый помидор. И снова ласковая, дружеская рука гладит его
белую шкуру, и он понимает все, что ему говорят. Видит, как нежные детские
пальчики робко протягивают ему корзиночку с леденцами. Он знаками подзывает
другого малыша и делится с ним гостинцем. Да, там его любили и понимали. А
здесь неизвестно куда занесет его влекомая течением льдина.
Позади остался маленький, смешной, верный и шустрый друг. Фрам бросил
его, чтобы не нарушать распорядка той жизни, для которой был рожден
медвежонок: простой, дикой и суровой, управляемой законами Заполярья. Теперь
он опять один как перст. Пристанет ли к острову его льдина через час или
через неделю, он знал, что жизнь в этих пустынях будет для него повсюду одна
и та же. Везде он будет глупым Августином в медвежьем обличье. Клоуном,
которого ждет одинокая старость. Несчастным шутом, которому нельзя иметь
друга, потому что те, с кем ему захочется подружится, переймут его цирковые
номера. Они не станут учеными медведями, но перестанут быть дикими, будут ни
то, ни се.
Фрам дремал на плавучей льдине, среди обступившего его со всех сторон
тумана -- не то грезил, не то видел сны.
Иногда из гущи тумана возникала и оставалась позади громадная тень.
Может быть, суша, а может, другая льдина, еще тяжелее, еще больше той, на
которой он плыл. Лежа с полузакрытыми глазами, Фрам не ощущал необходимости
встать и дойти до края своего ледяного корабля, чтобы лучше рассмотреть, что
он оставил позади.
Он дремал, мечтая о далеком мире, о людях, о городах с ярко освещенными
улицами.
Когда туман рассеялся и снова показалось солнце, Фрам обвел
безрадостным взором горизонт. Он был по-прежнему пустынным. Ни одной
окутанной дымкой полоски -- далекого острова, ни одного утеса над зеленой
водой, ничего! Ну и пускай! Даже если бы вдали и показались очертания
неведомого острова, что доброе ждало бы его там?
Плавучие льды редели. Часть их рассеялась в океанских просторах, часть
отстала, иные уплыли вперед.
Океан стал еще пустыннее. Фрам почувствовал себя еще более одиноким.
Повернувшись на другой бок, он заснул.
Прошло немало времени, пока его не разбудил сильный толчок, оборвавший
чудесный сон. Ему хотелось, чтобы этот сон никогда не кончился, настолько он
был прекрасен.
Первым делом Фрам лениво зевнул. Потянулся. Потом открыл глаза --
посмотреть, что случилось. Глаза изумленно расширились. Он поднялся.
Льдина его вошла в глубокий, узкий фиорд с высокими берегами. Такого он
еще никогда не видывал за все свои скитания по северным пустыням.
Справа и слева высились, похожие на хрустальные стены, отвесные ледяные
берега. Они отражались в лежавшей между ними узкой полоске тихой воды, и
поэтому казалось, что в ней затонули другие такие же хрустальные стены.
Сквозь прозрачный лед этих стен струился мягкий иссиня-зеленый
сказочный свет. И никак нельзя было понять, откуда он. Сверху, из небесной
лазури? Снизу, отраженный зеркалом фиорде? Или же это -- сверкание льдов?
Возможно, все вместе... Разные источники света, слитые воедино, как нежное,
успокоительное освещение осеннего дня в теплых странах, когда в воздухе
разлита беспричинная, сладостно-щемящая грусть, грусть близкого конца...
Льдина занесла Фрама в один из самых живописных уголков мира, тех чудес
природы, ради которых люди едут за тридевять земель с фотографическими
аппаратами или натянутым на подрамник холстом; чудес, о которых пишут книги,
сказки и поэмы.
Но красота эта, как и все, что Фрам видел за последнее время в полярных
пустынях, не вызвала у него никакого восторга. От былого нетерпения, с
которым он так жадно разглядывал с палубы парохода первый представший его
взору остров, не осталось и следа. Красотой не заменишь ни обеда, ни тепла.
Еще один пустынный остров -- только и всего!.. Высоко, между
хрустальных стен, виднелось небо. И то же небо повторялось опрокинутым в
неподвижной глади фиорда.
Очень красиво, а какая польза?
Но раз уже льдина занесла его сюда, Фрам решил обследовать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
XV. НАНУК
Океан был пепельно-зеленым, студеным и страшным. О приветливой, веселой
синеве теплых морей в нем не было и помина.
Даже при ослепительном свете полярного солнца во время полугодового
полярного дня красота Ледовитого океана остается суровой, дикой и полной
тревоги. Так, по крайней мере, говорят все побывавшие там путешественники.
На сколько бы времени их ни заносило в эти неприютные просторы, вначале
их всегда поражало необыкновенное величие редкого зрелища. Его новизна. Его
трепетная красота. Неподвижно стоящее в небе солнце. Лучи, играющие на
серебряной ряби. А кругом ровный, водный горизонт, без единой полоски суши.
Не видно ни корабля, ни лодки. Нигде ни души. Лишь безбрежность зеленых
вод, по которым, влекомые течением, скользят к югу ледяные горы --
таинственные галеры без парусов, без руля и без гребцов.
И редко когда от одного края горизонта до другого перечеркнет небо,
шелестя крыльями, станица невесть откуда и куда летящих птиц.
Во всем этом есть красота. Непонятная, тревожная.
Вначале путешественник заворожен. Но уже через неделю красота эта
начинает тяготить его, нагнетая в душу безысходную жуть. Превращается в
муку, в давящий кошмар.
Все то же неподвижное солнце среди неба. Все то же сверкание лучей в
чешуйках ряби. Все те же пустынные дали. Все те же льды, плывущие из одной
неизвестности в другую.
Утомленный однообразием этого зрелища глаз требует перемены.
Хоть бы увидеть корабль или сушу! Хоть бы услышать человеческий голос!
Пристать бы сейчас к берегу с теплым, мягким песком, с садами, где звенят
соловьиные трели! Несбыточная мечта!
Здесь суровая пустыня Ледовитого океана.
Здесь властвуют одиночество и мороз. Угнетает даже ослепительный свет.
Хочется другого освещения: утреннего, закатного, осеннего, весеннего, а не
этого вечного полдня с пригвожденным к голубому небосводу солнцем, холодным,
сверкающим, зубастым.
А если здесь и бывают перемены, то только к худшему: шторм, пурга или
туман.
Тогда небо окутывается снежной пеленой. Плавучие льды возникают из
тумана и снова исчезают, как призраки, как тени из мира теней.
Именно такой непроглядный туман скрыл солнце, когда Фрам уплывал на
своей льдине. Он опустился внезапно, окружил льдину, заволок небо, спрятал
дали. Белый, непроницаемый, ватный полог, который заглушил даже плеск воды.
Фрам свернулся клубком на своем ледяном ложе и закрыл глаза, безразличный ко
всему на свете.
В туман ли, в ясную ли погоду, плавучая льдина одинаково понесет его к
другим пустынным просторам. Ему хотелось надолго заснуть и проснуться у
зеленого берега, с лужайками и цветами, с людьми и музыкой, с аллеями в
парках, где играют на желтом песке, гоняясь за серсо, дети в белом, синем,
красном.
Но это было возможно разве что во сне.
Во сне Фрам видел себя снова посреди арены в цирке Струцкого. Ему
кричат: "Браво!", аплодируют. Он снова со своим закадычным другом, глупым
Августином. Они соревнуются в сальто-мортале. Парик клоуна кирпичного цвета,
а нос похож на спелый помидор. И снова ласковая, дружеская рука гладит его
белую шкуру, и он понимает все, что ему говорят. Видит, как нежные детские
пальчики робко протягивают ему корзиночку с леденцами. Он знаками подзывает
другого малыша и делится с ним гостинцем. Да, там его любили и понимали. А
здесь неизвестно куда занесет его влекомая течением льдина.
Позади остался маленький, смешной, верный и шустрый друг. Фрам бросил
его, чтобы не нарушать распорядка той жизни, для которой был рожден
медвежонок: простой, дикой и суровой, управляемой законами Заполярья. Теперь
он опять один как перст. Пристанет ли к острову его льдина через час или
через неделю, он знал, что жизнь в этих пустынях будет для него повсюду одна
и та же. Везде он будет глупым Августином в медвежьем обличье. Клоуном,
которого ждет одинокая старость. Несчастным шутом, которому нельзя иметь
друга, потому что те, с кем ему захочется подружится, переймут его цирковые
номера. Они не станут учеными медведями, но перестанут быть дикими, будут ни
то, ни се.
Фрам дремал на плавучей льдине, среди обступившего его со всех сторон
тумана -- не то грезил, не то видел сны.
Иногда из гущи тумана возникала и оставалась позади громадная тень.
Может быть, суша, а может, другая льдина, еще тяжелее, еще больше той, на
которой он плыл. Лежа с полузакрытыми глазами, Фрам не ощущал необходимости
встать и дойти до края своего ледяного корабля, чтобы лучше рассмотреть, что
он оставил позади.
Он дремал, мечтая о далеком мире, о людях, о городах с ярко освещенными
улицами.
Когда туман рассеялся и снова показалось солнце, Фрам обвел
безрадостным взором горизонт. Он был по-прежнему пустынным. Ни одной
окутанной дымкой полоски -- далекого острова, ни одного утеса над зеленой
водой, ничего! Ну и пускай! Даже если бы вдали и показались очертания
неведомого острова, что доброе ждало бы его там?
Плавучие льды редели. Часть их рассеялась в океанских просторах, часть
отстала, иные уплыли вперед.
Океан стал еще пустыннее. Фрам почувствовал себя еще более одиноким.
Повернувшись на другой бок, он заснул.
Прошло немало времени, пока его не разбудил сильный толчок, оборвавший
чудесный сон. Ему хотелось, чтобы этот сон никогда не кончился, настолько он
был прекрасен.
Первым делом Фрам лениво зевнул. Потянулся. Потом открыл глаза --
посмотреть, что случилось. Глаза изумленно расширились. Он поднялся.
Льдина его вошла в глубокий, узкий фиорд с высокими берегами. Такого он
еще никогда не видывал за все свои скитания по северным пустыням.
Справа и слева высились, похожие на хрустальные стены, отвесные ледяные
берега. Они отражались в лежавшей между ними узкой полоске тихой воды, и
поэтому казалось, что в ней затонули другие такие же хрустальные стены.
Сквозь прозрачный лед этих стен струился мягкий иссиня-зеленый
сказочный свет. И никак нельзя было понять, откуда он. Сверху, из небесной
лазури? Снизу, отраженный зеркалом фиорде? Или же это -- сверкание льдов?
Возможно, все вместе... Разные источники света, слитые воедино, как нежное,
успокоительное освещение осеннего дня в теплых странах, когда в воздухе
разлита беспричинная, сладостно-щемящая грусть, грусть близкого конца...
Льдина занесла Фрама в один из самых живописных уголков мира, тех чудес
природы, ради которых люди едут за тридевять земель с фотографическими
аппаратами или натянутым на подрамник холстом; чудес, о которых пишут книги,
сказки и поэмы.
Но красота эта, как и все, что Фрам видел за последнее время в полярных
пустынях, не вызвала у него никакого восторга. От былого нетерпения, с
которым он так жадно разглядывал с палубы парохода первый представший его
взору остров, не осталось и следа. Красотой не заменишь ни обеда, ни тепла.
Еще один пустынный остров -- только и всего!.. Высоко, между
хрустальных стен, виднелось небо. И то же небо повторялось опрокинутым в
неподвижной глади фиорда.
Очень красиво, а какая польза?
Но раз уже льдина занесла его сюда, Фрам решил обследовать и эту
пустыню с ее бесполезной красотой. Его глаза стали искать подходящее место,
где можно было бы высадиться и вскарабкаться наверх.
Тщетная попытка!
Прозрачные стены фиорда отвесно уходили вглубь. Ни выступа, ни трещины:
два гладких ледяных зеркала от неба до зеленой пучины.
Мерно, едва уловимо покачивался ледяной плот. Фрам оттолкнулся лапой,
чтобы он вышел из фиорда и течение вынесло его к другому, более удобному для
высадки острову. Льдина накренилась, сделала полоборота и стала,
приткнувшись к прозрачной отвесной стене. Фрам уперся передними лапами и
оттолкнулся сильнее. Но вместо того чтобы направиться к выходу, льдина в
нерешительности остановилась посреди фиорда, закачалась, повернулась и не
спеша тронулась в глубь залива, в его скрытый от глаз конец.
Фрам вытянул лапы и положил на них морду.
В конце концов ему было все равно.
Пусть плывет куда хочет!
Полоска воды еще более сузилась. Свет стал слабее и мягче.
Потом ледяные стены вдруг раздвинулись, как полотнища занавеса.
Перед глазами Фрама открылась полого спускающаяся к воде полукруглая
котловина, окаймленная высокими ледяными берегами; она заканчивалась
настоящим пляжем.
Идеальное убежище, словно крепостной стеной защищенное от ветров и
океанских бурь, согреваемое полярным полуденным солнцем. Небольшой оазис
среди льдов, с пробивающейся сквозь снег травкой, с алыми и желтыми пятнами
полярных маков на зеленом бархате мха.
У самой воды стоял мальчик с удочкой.
Мальчик был одет в кожу и меха; на ногах у него были пимы -- меховые
сапоги выше колен. За поясом, в ножнах, нож по мерке хозяина; на голове --
непомерно большая меховая шапка. Лицо чугунно-бронзовое; глаза маленькие и
раскосые.
Мальчик так напряженно следил за своей удочкой, что не заметил
приближения льдины и поднял глаза лишь тогда, когда дрогнула вода.
Увидев белого медведя на льдине, он вскрикнул. Фрам хорошо знал не
только свое клоунское ремесло, но и детей. Знал, что у него есть только один
способ рассеять страх рыболова.
Поэтому, не покидая своего ледяного плота, он принялся козырять,
кувыркаться, проделывать сальто-мортале и даже завертелся в вальсе.
Мальчик протер глаза, моргнул и вытаращил их. Попятился, однако не
убежал.
Фрам продолжал представление, пока льдина не пристала к берегу.
Проделав великолепное сальто-мортале, он оказался рядом с маленьким
эскимосом. Тот уже раскаивался, что не бросился бежать, не позвал на помощь,
не поднял тревоги.
Но было слишком поздно.
Его ноги прилипли к земле. Голос замер в горле.
С легким вздохом он стал покорно ждать своей участи, ждать, когда
медведь, по своему медвежьему обычаю, навалится ему на грудь.
Удочка задрожала в руке. Мальчик выронил ее.
Он не смел даже нагнуться, чтобы ее поднять, так же, как не решался
бежать или крикнуть.
Фрам смотрел на него с нежностью.
Почему его так боится этот детеныш эскимоса? Ему неизвестно, что он,
Фрам, друг и радость детей? Вспомнив о своих далеких маленьких друзьях, Фрам
протянул лапу, собираясь погладить его по головке.
Рыболов закрыл глаза и задрожал, как осиновый лист, решив, что настал
его последний час...
Но лапа легонько погладила сперва шапку, потом лицо мальчугана. Это
была ласка. Да, ласка! Никто и никогда еще не ласкал его так нежно в хижине,
приютившейся за обледенелой прибрежной скалой!
Мальчик с опаской открыл раскосые глаза. Нет, они не обманули его, и
это не сон: перед ним действительно медведь, самый настоящий белый медведь
из костей, мяса и шкуры. И медведь гладит его по голове!
Все было точь-в-точь, как в тех сказках, которые рассказываются в
хижинах зимой, когда начинается долгая полярная ночь. Тогда все собираются
вокруг светильника с тюленьим жиром, и старики начинают сказку про
заколдованных медведей.
То прерываясь, то снова начинаясь, сказка неторопливо рассказывается
дремлющим дедом или бабкой, словно разматывается нитка с большого, путаного
клубка. И сказка эта похожа на все сказки мира.
Только там, в теплых странах, речь идет о садах с золотыми яблочками, о
медных лесах, о вещих конях и жар-птицах. Здесь же, в полярных льдах, о чем
рассказывать, как не о белых медведях?
И в самом деле, в эскимосских сказках всегда выступают заколдованные
медведи, которые были когда-то людьми и умеют говорить и у которых где-то,
еще севернее, есть свое медвежье царство.
Понемногу юный эскимос пришел в себя и осмелел. Значит, в сказках
говорится правда! -- обрадовался он. Есть такие медведи!
Словно угадав его мысли, Фрам отступил на шаг и показал три искусных
сальто-мортале, которые, он знал, безошибочно и навсегда завоевывают доверие
и любовь детворы.
Потом поднял лапой удочку и вложил ее в руку ошеломленного рыболова.
Сомнений больше быть не могло.
Это был настоящий заколдованный медведь!
Мальчик радостно засмеялся, раскрыв рот до ушей, и осмелился
дотронуться до шкуры Фрама: живой, всамделишный медведь! Не кусается, не
норовит повалить наземь и растерзать. Не ревет, а, наоборот, ласково гладит
по головке и показывает разные интересные штуки. Умеет прыгать через голову.
Во всем племени эскимосов не найти такого ловкача!
Такое чудо должны видеть и другие. Все остальные эскимосы, которые
сейчас зарывают в лед охотничью добычу за стойбищем, в другом конце
котловины. Мальчик рванулся было -- хотел сбегать туда и позвать их, -- но
Фрам остановил его, опять положив ему лапу на голову.
Ему была известна другая, более правдивая сказка, без заколдованных
медведей.
Сказка о том, как однажды охотник-эскимос застрелил медведицу, как
связанного медвежонка отнесли в стойбище и бросили в угол хижины; о том, как
он уцелел только благодаря счастливой случайности. Поэтому Фрам вовсе не
торопился знакомиться с родичами мальчика. Боялся как бы встреча не
кончилась плохо.
Повернув мальчику голову, он лапой подал ему знак стоять на месте.
Тот послушался, понимая, что заколдованному медведю нужно повиноваться.
Странным казалось только, почему он молчит. В стариковских сказках ясно
говорилось, что заколдованные медведи умеют петь, плясать и разговаривать.
Этот же всего только пляшет.
Чтобы узнать, говорит ли и этот медведь, он решил себя назвать:
-- Меня зовут Нанук. А тебя как?
Фрам заурчал в ответ. Когда-то его научили писать палочкой на песке:
"ФРАМ".
Но произнести свое имя было другое дело. Даром речи он не обладал. Он
был всего лишь дрессированным медведем, а не заколдованным.
Нанук был разочарован. Заколдованный медведь не разговаривает!
Он ждал большего. Впрочем, может быть, медведь говорит не на
эскимосском, а на другом языке, как говорят белолицые рыболовы и охотники на
тюленей, чьи корабли каждый год заходят в их фиорд, чтобы обменять крепкие
напитки, ружья, патроны, дробь, порох и бусы на шкуры белых медведей,
тюленей, песцов и черно-бурых лисиц. Такая возможность не была исключена.
На первых порах, желая удивить заколдованного медведя, он позвал его,
чтобы показать свои игрушки. Фрам последовал за ним вдоль изгиба бухты до
суженного льдами устья фиорда. Там у Нанука были спрятаны все его сокровища.
В тени, куда никогда не заглядывали солнечные лучи, у него была построена из
льда и снега круглая хижина с ледяными окнами и входом, похожим на устье
печи, -- точная копия настоящих ледяных хижин, в которых живут эскимосы.
Маленькая хижина, построенная маленьким человеком.
Оттуда, засунув по локоть руку, Нанук вытащил пару маленьких,
вырезанных из кости, лыж. Потом коньки, тоже костяные. Рыболовные крючки,
клубок волосяной лески.
Желая убедиться, насколько восхищен Фрам, мальчик вскинул на него
глаза.
-- Погоди, это еще не все... -- сказал он. -- Приготовься увидеть
такое, чего ты уже наверно не ждал...
Из тайника в глубине маленькой хижины он вытащил ржавый нож с
отломанным концом, лук и стрелы с костяным наконечником, маленькое копье,
сделанное по образцу тех, которыми бьют тюленей, несколько стреляных гильз,
наконец пращу.
Достав все эти предметы, он разложил их рядком, поднялся на ноги и
уперев руку в бедро, стал ждать, что скажет, как выразит заколдованный
медведь свое изумление и одобрение.
Может быть, он думал, что одним мановением лапы тот обратит его игрушки
в настоящее, смертоносное оружие, которым охотились его отец и все его
родичи. Это вовсе не удивило бы его. Ведь именно так происходило в сказках о
заколдованных медведях! Когда встретишь такого медведя, достаточно пожелать
чего-нибудь, чтоб твое желание тотчас исполнилось. Его поэтому не удивило
бы, если бы его маленькая хижина вдруг выросла, лыжи и коньки тоже, потом
копье и лук со стрелами. Если бы сломанный нож обратился в грозный клинок, а
тот, что он носит за поясом -- другая железка, выброшенная за ненадобностью
кем-то в их хижине, -- в кинжал, которым убивают медведей.
Все это нисколько не удивило бы его.
Зато его очень удивило, что заколдованный медведь смотрит на его
сокровища совершенно равнодушно.
И в самом деле, Фрам смотрел на них с совсем другими чувствами, и,
обладай он даром речи, вероятно, мог бы много чего сказать по этому поводу.
Как непохожи были эти игрушки на те, которыми играли ребята в далеких
теплых странах!
Мячи. Серсо. Жестяные заводные автомобили. Триктрак. Разноцветные
кубики. Занимательные книжки с рассказами и с картинками. Плюшевые медведи с
бусинками вместо глаз. Смешные плюшевые обезьянки с музыкой в животе. Губные
гармошки. Паяцы на пружинах. Волшебные фонари. Воздушные шары... Да мало ли
еще чего!
Все игрушки Нанука представляли собой его будущее оружие. Оно еще не
было смертоносно, так как он изготовил его сам, по собственному разумению из
того, что было брошено другими.
Все они подражали настоящему охотничьему оружию, тому, которым ему
предстояло пользоваться через несколько лет, когда он начнет охотиться на
белых медведей, песцов и тюленей: ножи, топоры, копья, луки, стрелы...
Он жил, повинуясь суровым законам Заполярья, где охота и рыбная ловля
составляют основное занятие людей чуть не с младенческого возраста.
Так же, как и медвежонок, которого Фрам оставил на высоком берегу
острова, Нанук был прирожденным охотником.
Фрам еще раз погладил его по голове с нежностью, понятной только ему
самому.
-- Я вижу, ты ничего не говоришь, -- молвил разочарованный Нанук. --
Если ты действительно заколдованный медведь, обрати все это в охотничье
оружие. Ну пожалуйста!
Фраму хотелось ему удружить! Ему всегда было приятно доставлять ребятам
радость и удовольствие. Но этот эскимосский мальчик требовал от него
невозможного. Он попробовал развлечь его смешными цирковыми фигурами и
направить его мысли по другому руслу; отобрав у него удочку, он
сбалансировал ее на кончике носа; метнул ножом в цель, вонзив его в верхушку
игрушечной хижины из льда и снега.
Нанук не проявил особого восторга.
На что ему заколдованный медведь, который занимается шутовскими
выходками вместо того, чтобы обратить игрушечное оружие в настоящее?
Значит, это не заколдованный, а просто впавший в детство, поглупевший
медведь. Может, и вовсе лишившийся рассудка, вроде того выжившего из ума
старика в их стойбище, который то смеется, то плачет беспричинно. Зовут его
Бабук. Когда-то давно, рассказывают другие старики, он был самым искусным,
непревзойденным охотником, замечательным стрелком, рука которого ни разу не
дрогнула. Однажды он нашел на берегу выброшенный волнами ящик с какого-то
разбитого бурей корабля. В ящике оказались бутылки, а в бутылках жидкость,
которая обжигала глотку, как огонь. Охотник выпил одну бутылку, другую,
третью... Пил, пока не потерял рассудок. С тех пор он ни к чему не пригоден:
сторожит хижины, детей и женщин, когда мужчины уходят на охоту. Жалуется,
плачет, кривляется, поет, смеется, катается по земле, и никто уже больше не
спрашивает его, что ему надо. Все называют его дармоедом.
Таким был Бабук, наказание и позор своего племени. И именно таким
казался теперь мальчику этот медведь, который даже не был заколдованным:
самый обыкновенный белый медведь!
Отбросив всякую робость, Нанук посмотрел на Фрама с таким же
презрением, с каким смотрели в их племени на старого сумасшедшего Бабука.
Раз медведь этот не был заколдованным, он уже не внушал ему ни страха, ни
удивления. Какой от него прок, если он даже не умеет разговаривать, не в
силах обратить его игрушки в настоящее оружие, с которым можно было бы
побежать в стойбище и поразить всех, стариков и детей!..
Фрам почувствовал происшедшую в маленьком эскимосе перемену.
Он вопросительно заурчал, требуя, казалось, ответа:
-- Что у тебя на уме? Мне не нравится этот взгляд!
Действительно, Нанук теперь смотрел на него иначе.
В голове его зрела жестокая и честолюбивая мысль, достойная
прирожденного охотника.
В их племени убить белого медведя считалось подвигом, о котором все
потом рассказывали целый год, а то и два или больше, сопровождая рассказ
восторженными похвалами, потому что слава охотника растет пропорционально
числу убитых медведей. Что, если попробовать? Что, если спрятаться
куда-нибудь, наставить стрелу и пустить ее в глаз этому глупому,
сумасбродному медведю? Судя по виду, он особенно защищаться не станет. Одну
стрелу в глаз, другую в ухо. Это, он знал, самое верное. Все удивятся. Все
соберутся вокруг него. Не поверят своим глазам... Неужто Нанук один, без
чужой помощи, совершил такой подвиг?.. Потом все стойбище примется свежевать
добычу, и шкуру отдадут ему. Это его право! А мясо поделят между собой и
зароют в ледяном погребе, где прячутся запасы провизии на зиму, на долгую
полярную ночь. Нанук прославится на все племя. Его перестанут считать
ребенком. Молва о нем распространится и по другим племенам. И еще много,
много лет по всем эскимосским стойбищам будут говорить о его несравненном
подвиге. Еще бы! Мальчик убил медведя из игрушечного лука, игрушечной
стрелой! Чудесная сказка, которую сто лет кряду будут рассказывать старики
под вой пурги в бесконечные полярные ночи, когда вся семья собирается в
хижине вокруг плошки с тюленьим жиром.
Нанук приготовил лук, осмотрел стрелы с костяным наконечником.
Фрам смотрел на него непонимающими глазами.
В его взгляде было столько кротости, что маленький эскимос решил:
пожалуй, даже не стоит прятаться. Достаточно будет отступить на несколько
шагов, прицелиться, натянуть тетиву...
Мальчик попятился, изготовил лук.
Фрам наконец начал понимать. Его глаза загорелись хитринкой. Он смотрел
и ждал.
Нанук стрельнул. Прогудела тетива, засвистела стрела. Мальчик метил в
глаз. Но стрела почему-то оказалась в лапе у Фрама. Он поймал ее на лету,
как ловил на арене цирка брошенные ему апельсины.
Уверенность маленького эскимоса поколебалась. В голове мелькнула
тревожная мысль.
А если медведь и в самом деле заколдованный? Ведь он, Нанук, хорошо
целился. В этом он уверен -- недаром его считают лучшим среди всех ребят
племени стрелком из лука.
Стрела, вместо того чтобы вонзиться в глаз, оказалась у медведя в лапе.
И теперь медведь смотрит на него с упреком.
Не рычит, не бросается на него, чтобы раздавить лапой.
Гм! Непонятная история! Если это заколдованный медведь, что может
помешать ему мигом обратить своего обидчика в ледяную глыбу? Так в
стариковских сказках наказывают заколдованные медведи людей, когда хотят им
за что-нибудь отомстить. Посмотрят на него, сделают шаг вперед, остановятся
и опять посмотрят, -- смотрят, пока человек не застынет и не обратится в
льдину...
Рука Нанука дрожит на луке.
Но он упрям и хочет попробовать еще раз. Вскидывает лук, целится в
другой глаз, стреляет. Фрам ловит стрелу другой лапой.
Так и есть! Заколдованный медведь!
Медведь, который не боится стрел, который без всякого страха шутя
играет стрелами.
Разве может быть иначе? Как это он вообразил, что убьет такого
игрушечной стрелой? Медведь заколдованный. Никаких сомнений быть не может!
Мальчик оглянулся -- куда бежать? Но ноги его прикованы к земле. Их
приковал взгляд заколдованного медведя.
Фрам шагнул вперед.
Он шел медленно, раскачиваясь на задних лапах, держа стрелы под мышкой.
Нанук лишился голоса. Ему казалось, что он зовет на помощь, но голоса
своего он не слышал.
Настал смертный час.
Он ждал неминуемой гибели.
Первый взгляд заколдованного медведя обратит его ноги в лед до колен.
От второго он замерзнет по пояс. А от третьего превратится с головы до пят в
ледяную глыбу.
Когда охотники, которые сейчас зарывают в лед запасы мяса на зиму,
придут за ним, они найдут ледяного Нанука. И только так узнают, что здесь
побывал заколдованный медведь.
Теперь Фрама отделял от маленького эскимоса всего один шаг.
В глазах медведя не было гнева. Не было в них и колдовства, способного
обращать детей в ледышки. В них читалось лишь грустное удивление.
Ему хотелось проучить мальчика. Не очень строго, но все-таки проучить.
Он схватил его за шиворот. Нанук болтался в воздухе и молчал как рыба.
Может, он ждал, что его закинут в небо, где он приклеется к солнцу своими
кожаными штанишками.
Фрам хорошенько его встряхнул и несколько раз не очень сильно шлепнул
лапой пониже спины: он и сам, видно, не очень-то верил в пользу такого
наказания.
Потом поставил его на ноги. Нанук не смел пошевельнуться; и только с
врожденным коварством косился на него из-под опущенных ресниц.
Фрам подобрал лук, стрелы, копье, нож, изломал их на мелкие куски,
бросил широким веером в воду, а сам прыгнул на льдину, которая все еще
качалась у берега, и оттолкнулся лапой. Делать ему тут было нечего. Льдина
поплыла к устью фиорда.
По обе стороны высились хрустальные ледяные стены неописуемой красоты.
Сквозь них струился мягкий, ласковый свет. Все замерло в таинственной,
безмолвной неподвижности. .
Только его льдина неторопливо скользила между ледяных утесов, над их
отражением в глубине вод.
Все это было чудо как хорошо! Но покидая этот сказочный оазис,
затерянный среди полярной пустыни, незлобивый Фрам снова оставлял чуждый,
враждебный ему мир. Он был всего лишь белым медведем, но нередко вел себя
человечнее людей. Этого ему не прощали медведи, этого не могли понять многие
люди.
Вытянув лапы на своем прозрачном плоту, Фрам положил на них морду.
Хрустальные стены уходили все дальше и дальше...
А Нанук все еще стоял, как вкопанный, не решаясь ни бежать, ни подать
голоса.
Он только шевелил руками, словно желая удостовериться, что они еще не
оледенели, да еще тер кулаками глаза, чтобы убедиться, что все происшедшее
не было сном.
Когда наконец к нему вернулся голос, Фрам был уже далеко в открытом
море. Льдина несла его к другим островам.
А позже, когда Нанук рассказал о случившемся с ним неслыханном
происшествии, ему никто не поверил и он в скором времени прослыл таким
бессовестным лгунишкой, каких еще никогда не бывало среди ребят Заполярья.
 * * *
* * *
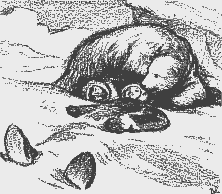 XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ревом перегонявший сугробы с одного
конца в другой. Над островами, разводьями и ледяными полями.
Двое подползли на четвереньках к вздыбленной льдине. Они надеялись
найти здесь убежище. Однако убежище оказалось обманчивым. Пурга заметала их
снегом, люди боролись с ней, стараясь не задохнуться. Но стоило высунуть из
сугроба голову, как в лицо им ударяла тонкая, словно толченое стекло,
колючая снежная пыль и забивала глаза и рот.
Их все больше сковывал мороз.
-- Эгон, ты еще чувствуешь руки?
-- Нет, Отто, давно уже не чувствую. Ни рук, ни ног...
Им приходилось кричать: из-за воя пурги они не слышали друг друга.
Усилие это было мукой для изнуренных, обессилевших людей.
-- Хлопай в ладоши, Эгон! Хлопай, не переставая, в ладоши. Шевели
пальцами, разгоняй кровь! Если кровь застынет -- конец!
Его товарищ только простонал в ответ.
Некоторое время оба молчали.
Слышалась лишь дикая свистопляска пурги, тараном бившей в торос, под
которым они искали защиты, и крутившей смерчи из стеклянистой снежной пыли.
-- Эгон... Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят.
Никогда я их больше не увижу! Никогда... Марии скоро будет два года. Через
две недели... Она забудет слово "папа". Слышишь, Эгон? Она забудет слово
"папа"...
Эгон попробовал ответить, но пурга заткнула ему рот, залепила глаза.
Да и стоило ли говорить? Что он может сказать?
И его дома ждет дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и
думает об отце: "Что-то он теперь делает, мой папа?" Или разучивает
экзерсисы на фортепьяно... Она уже большая. Ей минуло семь. Ходит в школу.
Ее фотография спрятана у него между крышками часов. Но к чему сейчас все эти
воспоминания? Все потеряно! Разумнее просто ждать смерти, потому что
спасение невозможно; оно не может прийти ниоткуда, ни от кого.
Неделю назад под ними вдруг треснул лед. То, что последовало,
приготовило им эту приближавшуюся теперь смерть. Лед словно по велению злых
духов разверзся. Нарты, собак, ружья и патроны, меховые спальные мешки и
мешки с провизией -- все поглотила зеленая пучина океана... В тот же миг
полынья закрылась, а они остались в чем были, в легкой одежде, без оружия,
на пустынном ледяном поле.
Сперва они обменялись полными ужаса взглядами. Смерили глазами дали,
небо с высоко стоявшим солнцем. Потом к ним вернулось мужество -- они были
не из тех, что сдаются без борьбы.
-- До берега двое суток хода, -- сказал Отто. -- Мы шли оттуда двое
суток, не торопясь. Если мы тронемся сейчас же и будем идти, без остановки,
есть надежда дойти. Приключение, как многие другие. Будет о чем рассказывать
дома. Вспомни Нансена. Сколько он вытерпел, в каких только передрягах ни
бывал, а надежды никогда не терял. Небо ясное. Сорокавосьмичасовая прогулка
без еды и без отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, Эгон.
Верно ? Мы с тобой бывали в худших переделках.
Они были закадычными друзьями и занимались охотой на белых медведей.
Уже много лет они охотились вместе в полярных льдах. Жили в разных
городах, а встречались всегда в одном и том же порту перед самым отплытием
на Север. Потом пять, а иногда и шесть месяцев жили жизнью, неизвестной
соотечественникам в далеких городах. Приключения, опасности, общие радости и
успехи связали их тесной дружбой, сделали братьями.
Рыболовное судно доставляло их на остров, где водились белые медведи.
Они построили себе там хижину и из года в год находили ее нетронутой. Она их
ждала. Там у них были теплые меховые постели и вдоволь провизии, были лампы
и книги. Тут же была устроена кладовая шкур, а рядом -- клетка для белых
медвежат.
Корабль высаживал их на берег в начале полярного дня и уходил дальше.
То же судно забирало их на обратном пути со всей добычей: шкурами убитых ими
белых медведей, песцов и черно-бурых лисиц и пойманными ими белыми
медвежатами, которых они потом продавали зоопаркам, зверинцам и циркам. В
редких случаях их доставлял на остров пароход. Это бывало тогда, когда
организовывался туристский рейс вроде того, недавнего, когда они захватили с
собой Фрама и высадили его на пустынном острове по поручению цирка
Струцкого.
Но промысловое судно неизменно заходило за ними и ждало их у острова в
конце каждой полярной осени, перед тем, как начинались вьюги и океан
покрывался ледяным панцирем. В этом году добыча была богаче обычного,
кладовая набита мехами, а в клетке сидели три белых медвежонка.
До прихода корабля оставалось еще две недели. Время проходило
незаметно. Друзья строили планы на те шесть месяцев, которые им предстояло
провести дома, в теплых странах. Там их ждут дети, которым они будут
рассказывать о своих удивительных приключениях. Этим летом они привезли с
собой в Заполярье радиоприемник и часто слушали голоса далекого мира.
Концерты, хоровое пение, известия о разных празднествах и переменах
правительств. Собаки у них были сытые, гладкие и веселые: сибирские псы,
привычные к морозу и нартам. Ничто, казалось, не угрожало благополучию
охотников.
Год этот отличался редким изобилием дичи; охота была успешной.
Оба мечтали о теплых морях, на берегах которых цветут апельсинные
деревья и зреют сочные золотистые плоды. Оба стосковались по дому, по детям,
садам, где благоухают розы.
Особенное нетерпение выказывал Эгон. Ему казалось, что они с Отто
обленились и начинают жиреть.
-- Почему бы нам не отправиться в дальний конец острова? -- предложил
он товарищу. -- Ведь нам здесь сидеть еще целых две недели. Почему бы не
провести кое-какие наблюдения и исследования? Научные общества скажут нам
спасибо... А то живем как пенсионеры!..
-- Будь по-твоему! -- согласился Отто.
Они всегда понимали друг друга с двух слов.
Приготовления длились недолго: положили белым медвежатам в клетку корма
на неделю, погрузили на нарты провизию, ружья, патроны, запрягли собак и
пустились в путь. Все предвещало приятное и веселое путешествие. Никаких
хлопот и осложнений не предвиделось.
Недалеко от их острова лежал другой, поменьше.
Там они еще издали увидели в бинокль двух разгуливающих у берега
медведей.
-- Эти будут наши! -- сказал Эгон, радостно потирая руки.
-- Ну-с, господа белые медведи, готовьтесь расстаться со шкурой! --
прибавил Отто. -- Мы сейчас пошлем вам по маленькой пульке, от которой у вас
зачешется в ушах.
С острова на остров перешли по льду. Охота удалась на славу. Два
выстрела, два убитых медведя, две навьюченные на нарты шкуры.
А как насчет ученых наблюдений?
Ими была исписана целая тетрадка. Нет, друзья не потеряли времени зря!
Беда подстерегала их на обратном пути. Лед треснул, и открывшаяся
полынья поглотила и собак, и нарты с провизией, ружьями, патронами и еще
теплыми шкурами. Поглотила и тут же закрылась, как ящик, ледяной крышкой.
Оба они были сильные и мужественные, закаленные полной риска и
неожиданностей жизнью. И хотя у них невольно сжалось сердце, они подсчитали,
что до хижины всего сорок восемь часов ходу, если идти прямо и без
остановок, и, не долго думая, выступили в поход.
-- Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички! -- сказал Эгон и
даже попробовал рассмеяться.
Он закурил. Шли, посвистывая.
Потеряны были ружья, патроны, провизия, тетрадь с записями, две
великолепные медвежьи шкуры, нарты.
Печальнее всего была гибель собак. Псы эти были верными товарищами
охотников, послушные, смелые, привычные к условиям полярной жизни. Не раз
они вместе выходили из трудных, опасных положений. Собаки погибли, и их
смерть омрачила обратный путь охотников.
Эгон перестал свистеть.
-- Мне особенно жаль Сибирь! -- сказал он вполголоса. -- Помнишь, как
она спасла меня два года назад от белого медведя, который повалил меня и
вцепился мне в плечо? Шрам остался до сих пор. Сибирь впилась ему в глотку.
Дед Мартын отпустил меня, чтобы разделаться с псом. Я вскочил на ноги,
схватил ружье... Бац! Медведь перекувырнулся через голову и растянулся на
снегу...
Отто не слушал его. Остановившись, он тревожно вглядывался в небо. Дул
северный ветерок, и там, на севере, над горизонтом темнели свинцовые тучи.
-- Дело дрянь!.. -- сказал Отто и покачал головой.
Эгон промолчал. Оба ускорили шаг.
Но надвигавшаяся пурга была проворнее их.
Она догнала охотников. Через час уже нельзя было отличить небо от
ледяного покрова океана. Впереди не было видно ни зги. Они спотыкались,
падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро
обнаружилось, что вместо того чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте.
Другого выхода, как укрыться за торосом, не было. Пурга крепчала...
Потянулись длинные часы... В ушах все так же свистел ветер, все так же
хлестали в лицо волны колючего снега. Руки и ноги немели. Охотники не могли
больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть,
превращающая тело в ледяную глыбу.
Наконец стихия угомонилась, ветер стих. Еще один порыв, и небо вдруг
очистилось. Засияло клонившееся к западу солнце.
Охотники прислушались, подняли головы, то есть попытались встать. Увы,
их мышцы отказались повиноваться. Головы беспомощно упали на снег.
Изнуренные голодом, полузамерзшие, друзья были не в силах двинуться,
покинуть снежное ложе.
-- Ее зовут Мария... Она забудет слова "папа"... -- начал бредить Отто.
Потом уставился остекленевшими, вытаращенными глазами в стеклянное
небо.
Эгон лежал на боку и не видел неба. Перед ним расстилался обледенелый,
заснеженный остров, в дальнем конце которого находилась их хижина с теплыми
меховыми одеялами, запасом провизии и приемником, которому теперь уже не для
кого будет принимать из эфира позывные далекого мира.
Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках.
Но вдруг в его поле зрения возникло не иначе, как бредовое видение.
Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того чтобы идти, как все
медведи, на четырех лапах, этот двигался прыжками, кувыркался через голову,
отдавал честь, вертелся в вальсе или шел как на параде, печатая шаг...
Эгон закрыл глаза.
Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец, подумал он, и
стал ждать смерти -- жуткой смерти от мороза, когда после обманчивых видений
в сердце застывает кровь.
Едва показавшись из-под век, слезы превращались в ледяные шарики.
Дочка... Может быть, она сейчас беззаботно разыгрывает гаммы. Или
разглядывает альбом с фотографиями... Смотрит на его фотографию, которая
висит на стене. "Мамочка, как ты думаешь, папа привезет белого медвежонка,
которого он мне обещал?.. -- может, спрашивает она. -- Скажи, мамочка!..
Чего ж ты плачешь?..
Эгон почувствовал, что он погружается в тот глубокий сон, от которого
еще никто не пробуждался...
Но щеку его вдруг обдало горячее дыхание; теплый, влажный нос коснулся
его лица.
Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности, лизал ему щеки,
глаза, нос, пятился и, выждав немного, снова принимался лизать. Он никак не
мог понять, отчего эти люди лежат пластом, почему молчат, не просыпаются, не
поднимают рук.
Это было непонятно.
Запах их он узнал издалека. Чутье, обманывавшее его, когда речь шла о
зверях, издали возвестило ему, что здесь люди, люди из далеких, теплых
стран. Учуяв их, он побежал во всю прыть, чтобы принять дорогих гостей,
доказать им свою дружбу, приветствовать их веселым кувырканием и
сальто-мортале, что, наверно, доставит им удовольствие, чтобы отдать им
по-военному честь. И вдруг нашел их в таком странном состоянии.
Фрам отступил на три шага и замер, приложив лапу к виску:
-- Ну, же, люди!.. Меня запросто не проведешь!
Он уже узнал в одной из лежащих фигур того самого охотника, который
когда-то сопровождал его на пароходе и выпустил на свободу на пустынный
остров, позаботившись оставить на первое время запас провизии в расселине
скал. Другого способа выразить радость встречи, кроме клоунских прыжков и
кувыркания, у него не было.
Эгон открыл глаза и собрал последние силы:
-- Отто! Это же Фрам! Фрам!.. Ты слышишь меня? Фрам, из цирка
Струцкого!
-- Ее зовут Мария... -- бредил Отто. -- Она уже никого больше не
назовет папой. Она забудет это слово...
Он ничего не слышал. Он смотрел в пустое небо пустыми глазами. Только
теперь развитому общением с людьми медвежьему разуму открылся смысл
происходящего.
Не мешкая, Фрам отгреб лапами снег, уложил охотников рядом, а сам
улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от
своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Охотники уже настолько
отрешились от всего земного и были настолько обессилены, что даже не
пытались понять, что с ними делается. Белый медведь. Правда, он когда-то
выступал в пирке, но с тех пор, конечно, одичал; чего от него ждать?
Оба много лет кряду убивали белых медведей. Теперь настал их черед.
Безоружные, обессиленные, они попались в лапы белого медведя и станут его
добычей. Но почему же он медлит, почему клыки его еще не раздробили им
черепа, как моржам и тюленям? Уж кончал бы скорее, настал бы конец этой
муке!..
-- Ее зовут Мария... -- продолжал бредить один. -- Ей скоро исполнится
два года... Она никогда больше не скажет слово "папа", никогда...
Другой повторял, как заведенный:
-- Это Фрам... Я хорошо его помню... Фрам со своими прыжками. Ну же,
Фрам, скорей... Терзай нас, кусай... Приканчивай!.. Сжалься над нами, Фрам,
не томи понапрасну, кончай разом!..
Их голоса понемногу стихли. Бред перешел в сон. Странный сон. Сон,
принесший тепло. Может, это и есть смерть? Так, говорят, умирают
замерзающие. Сначала коченеют руки и ноги, потом в жилах застывает,
останавливается кровь. А человеку, между тем, снится, что ему тепло, он
чувствует жар в лице, в груди, в глазах...
Таким был и этот сон. Сколько он длился? Целую вечность... Открыв
наконец глаза, они почувствовали на груди тяжесть теплой медвежьей шубы.
Попробовали шевельнуть руками, потом ногами. Руки слушались. Ноги тоже.
-- Эгон!
-- Отто!
Это были их голоса. Оба слышали и узнавали свой голос.
Значит, это не смерть. Не глубокий, беспробудный сон замерзающих.
Давившая на них шуба задвигалась. Поднялась сама. Их грело живое
одеяло.
Фрам стал сначала на все четыре лапы, потом поднялся на задние и
церемонно отдал честь.
Воскресшие охотники приподнялись на локтях, переглянулись и уставились
на медведя.
-- Дай-ка трубку, Отто! Все это кажется мне сном. Только трубка решит
загадку, жив я или мертв!..
Эгон и в самом деле ощупывал себя, желая убедиться, что он жив. Как
будто все было в порядке. Руки действовали, ноги тоже. С ни с чем не
сравнимым удовольствием он хрустнул суставами пальцев. А цирковой медведь
все еще стоял навытяжку, приложив лапу к голове.
-- Фрам и есть! Я ж тебе сразу сказал, что это Фрам!..
Эгон вскочил на ноги. Его шатало от голода. Он прислонился к торосу,
потом подошел заплетающимися шагами к своему избавителю.
Язык еще плохо слушался, не мог выразить мыслей, которые рождались и
росли в усталом мозгу.
-- То, что ты сделал, Фрам... То, что ты сделал, Фрам!.. -- повторил он
несколько раз, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как
ребенок.
Отто тоже поднялся.
Оба медвежатника стояли теперь, беспомощно прислонясь к груди
медведя...
Фрам осторожно отстранил их лапой. Он привык иметь дело с сильными и
гордыми людьми. Да и понимал, казалось, что сейчас не время лить слезы. У
него поблизости берлога с запасами -- добычей, отобранной у других медведей
уже известным нам способом: клоунскими прыжками и сальто-мортале, неизменно
обращавшими хозяев добычи в бегство.
Туда он и приглашал охотников.
-- Что нам делать? -- спросил Отто.
-- По-моему, его знаки имеют определенный смысл, -- ответил Эгон.
-- Держу пари, что он приглашает нас обедать... Что меня вовсе не
удивило бы!..
Он оказался прав.
Обед, который Фрам предложил своим гостям, был скромен и состоял всего
из одного блюда: тюленьего мяса, его ежедневного меню.
Охотники наелись. У них прибавилось сил. Они начали с беспокойством
поглядывать на запад, где солнце уже клонилось к горизонту. Наступали
полярные сумерки.
Это была последняя неделя полярной навигации, последняя неделя, когда
суда еще решались бороздить пустынный Ледовитый океан.
Охотниками овладела тревога: а что, если промысловое судно уже прибыло
и уйдет, не дождавшись их?
Медлить было нельзя. Взвалив на плечи по куску мороженого тюленьего
мяса, они направились в конец острова.
-- Лишь бы не повстречаться с белым медведем! -- сказал Отто, --
Безоружных, он съест нас за милую душу.
Эгон показал на Фрама, который, как огромный пес, шел рядом с ними,
покачиваясь на четырех лапах.
-- Пока этот попутчик с нами, бояться нечего!.. Уверен, что он умеет
обращаться со своими родичами. Верно, Фрам?
Услышав свою кличку, Фрам поднялся на задние лапы, козырнул, как
солдат, который говорит: "Рад стараться!", потом вернулся в прежде положение
и пошел дальше.
И если он не мог выразить это словами, то всем своим видом показывал,
что для родичей у него действительно есть средство, но куда более
безобидное, чем пули, которыми пользуются люди.
Обратный путь занял не сорок восемь, а все шестьдесят часов: усталость
заставляла охотников часто останавливаться и отдыхать.
Корабль еще не прибыл. Зато друзей ждала их хижина с теплыми меховыми
одеялами и приемником. И трое белых медвежат в клетке, которые жалобно
скулили от голода.
Фрам несколько раз обошел вокруг клетки. Сердито ворча, посмотрел на
людей, посмотрел на дверцу, потом тихонько отодвинул засов. Медвежата не
решались выйти. Фраму пришлось вытаскивать их по одному зубами. Вытащив
последнего, он дал каждому пинка: ступайте, мол, на все четыре стороны!
Охотники смотрели на эту сцену, засунув руки в карманы и попыхивая
трубками.
-- Бьюсь об заклад, что у этого медведя человеческие мозги! -- сказал
Эгон. -- Видал, как он открыл клетку? Меня это не удивило: мало ли чему он
научился у людей в своем цирке?.. Удивительно другое: как ему пришла в
голову мысль освободить медвежат, своих соплеменников?
-- Когда мы будем рассказывать об этом происшествии, над нами станут
смеяться, скажут, что это охотничьи басни. Как по-твоему, Фрам?..
Фрам заурчал в ответ. Умей медведь говорить, он, наверно, рассказал бы
о том, что в одном эскимосском стойбище у него есть знакомый мальчик,
который тоже, вероятно, прослыл великим выдумщиком, прежде чем стать
охотником. Он снова заурчал и выжидательно посмотрел на хижину, где
находилась волшебная поющая коробка.
-- Фрам просит включить радио, -- рассмеялся Эгон. -- Я не встречал
более страстного любителя музыки!..
Он вошел в хижину и включил приемник.
Из далекой теплой страны потекла по волнам эфира мелодия. Положив морду
на вытянутые лапы, Фрам слушал с закрытыми глазами. Волновала его не столько
сама музыка, сколько воспоминания, которые она будила... О далеких городах,
согретых жарким солнцем, с ярко освещенными по вечерам улицами, с парками и
цветущими садами. О ребятах, которые протягивали ему кулечки с конфетами,
чтобы он поделил их с другими, о детских ручках, которые едва осмеливались с
робкой лаской прикоснуться к его шкуре. О курносом мальчугане с сияющими
глазами, который кричал ему "Браво!" на прощальном представлении цирка в
одном из тех далеких городов.
Промысловое судно наконец прибыло и, бросив якорь в открытом море,
прислало две лодки за шкурами. По всему было видно, что капитан торопится.
Фрам смотрел и все понимал. Глаза у него были грустные.
Люди глядели на него с недоумением.
-- Жалко оставлять его здесь! -- сказал Эгон. -- Расстаешься с ним, как
с близким другом.
-- Да ведь он создан для здешней жизни! -- заметил Отто. -- Такова его
участь. Ты, верно, помнишь, что цирк Струцкого отправил его сюда с тобой
именно потому, что он тосковал по родине...
Охотники вошли в хижину посмотреть, не забыто ли что-нибудь. Когда они
вышли, Фрама уже не было. Они бросились его искать, звали.
-- Жаль все-таки, что мы с ним не простились... Видел, с каким
удивлением смотрели на него матросы?
Эгон забрался на высокую скалу, откуда было видно далеко кругом. Видны
были и две стоявшие у берега лодки.
-- Смотри! -- крикнул он товарищу. -- Мы ищем Фрама, а он уже в лодке.
Опередил нас!
XVI. ЭПИЛОГ
Свистела пурга, поднимая смерчи снежной пыли, стоном отдавалась в
ледяных утесах, в скалах и торосах, с воем гуляла по белой пустыне.
Все смешалось. Небо слилось с землей, льды с водой.
Снежной буре не видно конца.
Осталось ли еще где-нибудь ясное небо?
Есть ли еще где-нибудь уютный дом с открытой топящейся печкой, к
которой тянутся тонкие детские ручонки, чтоб их согрело трепетное пламя?
Есть ли еще где-нибудь люди, которые жалуются на жару, покрываются испариной
и обмахиваются платком?
Все, казалось, замела разбушевавшаяся стихия, похоронила под снегом.
Всем Заполярьем завладел белый ураган, с ревом перегонявший сугробы с одного
конца в другой. Над островами, разводьями и ледяными полями.
Двое подползли на четвереньках к вздыбленной льдине. Они надеялись
найти здесь убежище. Однако убежище оказалось обманчивым. Пурга заметала их
снегом, люди боролись с ней, стараясь не задохнуться. Но стоило высунуть из
сугроба голову, как в лицо им ударяла тонкая, словно толченое стекло,
колючая снежная пыль и забивала глаза и рот.
Их все больше сковывал мороз.
-- Эгон, ты еще чувствуешь руки?
-- Нет, Отто, давно уже не чувствую. Ни рук, ни ног...
Им приходилось кричать: из-за воя пурги они не слышали друг друга.
Усилие это было мукой для изнуренных, обессилевших людей.
-- Хлопай в ладоши, Эгон! Хлопай, не переставая, в ладоши. Шевели
пальцами, разгоняй кровь! Если кровь застынет -- конец!
Его товарищ только простонал в ответ.
Некоторое время оба молчали.
Слышалась лишь дикая свистопляска пурги, тараном бившей в торос, под
которым они искали защиты, и крутившей смерчи из стеклянистой снежной пыли.
-- Эгон... Слышишь, Эгон? Я думаю о том, что меня дома ждут двое ребят.
Никогда я их больше не увижу! Никогда... Марии скоро будет два года. Через
две недели... Она забудет слово "папа". Слышишь, Эгон? Она забудет слово
"папа"...
Эгон попробовал ответить, но пурга заткнула ему рот, залепила глаза.
Да и стоило ли говорить? Что он может сказать?
И его дома ждет дочка. Может, она сейчас греется у открытой печки и
думает об отце: "Что-то он теперь делает, мой папа?" Или разучивает
экзерсисы на фортепьяно... Она уже большая. Ей минуло семь. Ходит в школу.
Ее фотография спрятана у него между крышками часов. Но к чему сейчас все эти
воспоминания? Все потеряно! Разумнее просто ждать смерти, потому что
спасение невозможно; оно не может прийти ниоткуда, ни от кого.
Неделю назад под ними вдруг треснул лед. То, что последовало,
приготовило им эту приближавшуюся теперь смерть. Лед словно по велению злых
духов разверзся. Нарты, собак, ружья и патроны, меховые спальные мешки и
мешки с провизией -- все поглотила зеленая пучина океана... В тот же миг
полынья закрылась, а они остались в чем были, в легкой одежде, без оружия,
на пустынном ледяном поле.
Сперва они обменялись полными ужаса взглядами. Смерили глазами дали,
небо с высоко стоявшим солнцем. Потом к ним вернулось мужество -- они были
не из тех, что сдаются без борьбы.
-- До берега двое суток хода, -- сказал Отто. -- Мы шли оттуда двое
суток, не торопясь. Если мы тронемся сейчас же и будем идти, без остановки,
есть надежда дойти. Приключение, как многие другие. Будет о чем рассказывать
дома. Вспомни Нансена. Сколько он вытерпел, в каких только передрягах ни
бывал, а надежды никогда не терял. Небо ясное. Сорокавосьмичасовая прогулка
без еды и без отдыха тебя, я думаю, пугает так же мало, как и меня, Эгон.
Верно ? Мы с тобой бывали в худших переделках.
Они были закадычными друзьями и занимались охотой на белых медведей.
Уже много лет они охотились вместе в полярных льдах. Жили в разных
городах, а встречались всегда в одном и том же порту перед самым отплытием
на Север. Потом пять, а иногда и шесть месяцев жили жизнью, неизвестной
соотечественникам в далеких городах. Приключения, опасности, общие радости и
успехи связали их тесной дружбой, сделали братьями.
Рыболовное судно доставляло их на остров, где водились белые медведи.
Они построили себе там хижину и из года в год находили ее нетронутой. Она их
ждала. Там у них были теплые меховые постели и вдоволь провизии, были лампы
и книги. Тут же была устроена кладовая шкур, а рядом -- клетка для белых
медвежат.
Корабль высаживал их на берег в начале полярного дня и уходил дальше.
То же судно забирало их на обратном пути со всей добычей: шкурами убитых ими
белых медведей, песцов и черно-бурых лисиц и пойманными ими белыми
медвежатами, которых они потом продавали зоопаркам, зверинцам и циркам. В
редких случаях их доставлял на остров пароход. Это бывало тогда, когда
организовывался туристский рейс вроде того, недавнего, когда они захватили с
собой Фрама и высадили его на пустынном острове по поручению цирка
Струцкого.
Но промысловое судно неизменно заходило за ними и ждало их у острова в
конце каждой полярной осени, перед тем, как начинались вьюги и океан
покрывался ледяным панцирем. В этом году добыча была богаче обычного,
кладовая набита мехами, а в клетке сидели три белых медвежонка.
До прихода корабля оставалось еще две недели. Время проходило
незаметно. Друзья строили планы на те шесть месяцев, которые им предстояло
провести дома, в теплых странах. Там их ждут дети, которым они будут
рассказывать о своих удивительных приключениях. Этим летом они привезли с
собой в Заполярье радиоприемник и часто слушали голоса далекого мира.
Концерты, хоровое пение, известия о разных празднествах и переменах
правительств. Собаки у них были сытые, гладкие и веселые: сибирские псы,
привычные к морозу и нартам. Ничто, казалось, не угрожало благополучию
охотников.
Год этот отличался редким изобилием дичи; охота была успешной.
Оба мечтали о теплых морях, на берегах которых цветут апельсинные
деревья и зреют сочные золотистые плоды. Оба стосковались по дому, по детям,
садам, где благоухают розы.
Особенное нетерпение выказывал Эгон. Ему казалось, что они с Отто
обленились и начинают жиреть.
-- Почему бы нам не отправиться в дальний конец острова? -- предложил
он товарищу. -- Ведь нам здесь сидеть еще целых две недели. Почему бы не
провести кое-какие наблюдения и исследования? Научные общества скажут нам
спасибо... А то живем как пенсионеры!..
-- Будь по-твоему! -- согласился Отто.
Они всегда понимали друг друга с двух слов.
Приготовления длились недолго: положили белым медвежатам в клетку корма
на неделю, погрузили на нарты провизию, ружья, патроны, запрягли собак и
пустились в путь. Все предвещало приятное и веселое путешествие. Никаких
хлопот и осложнений не предвиделось.
Недалеко от их острова лежал другой, поменьше.
Там они еще издали увидели в бинокль двух разгуливающих у берега
медведей.
-- Эти будут наши! -- сказал Эгон, радостно потирая руки.
-- Ну-с, господа белые медведи, готовьтесь расстаться со шкурой! --
прибавил Отто. -- Мы сейчас пошлем вам по маленькой пульке, от которой у вас
зачешется в ушах.
С острова на остров перешли по льду. Охота удалась на славу. Два
выстрела, два убитых медведя, две навьюченные на нарты шкуры.
А как насчет ученых наблюдений?
Ими была исписана целая тетрадка. Нет, друзья не потеряли времени зря!
Беда подстерегала их на обратном пути. Лед треснул, и открывшаяся
полынья поглотила и собак, и нарты с провизией, ружьями, патронами и еще
теплыми шкурами. Поглотила и тут же закрылась, как ящик, ледяной крышкой.
Оба они были сильные и мужественные, закаленные полной риска и
неожиданностей жизнью. И хотя у них невольно сжалось сердце, они подсчитали,
что до хижины всего сорок восемь часов ходу, если идти прямо и без
остановок, и, не долго думая, выступили в поход.
-- Хорошо еще, что у меня уцелели трубка и спички! -- сказал Эгон и
даже попробовал рассмеяться.
Он закурил. Шли, посвистывая.
Потеряны были ружья, патроны, провизия, тетрадь с записями, две
великолепные медвежьи шкуры, нарты.
Печальнее всего была гибель собак. Псы эти были верными товарищами
охотников, послушные, смелые, привычные к условиям полярной жизни. Не раз
они вместе выходили из трудных, опасных положений. Собаки погибли, и их
смерть омрачила обратный путь охотников.
Эгон перестал свистеть.
-- Мне особенно жаль Сибирь! -- сказал он вполголоса. -- Помнишь, как
она спасла меня два года назад от белого медведя, который повалил меня и
вцепился мне в плечо? Шрам остался до сих пор. Сибирь впилась ему в глотку.
Дед Мартын отпустил меня, чтобы разделаться с псом. Я вскочил на ноги,
схватил ружье... Бац! Медведь перекувырнулся через голову и растянулся на
снегу...
Отто не слушал его. Остановившись, он тревожно вглядывался в небо. Дул
северный ветерок, и там, на севере, над горизонтом темнели свинцовые тучи.
-- Дело дрянь!.. -- сказал Отто и покачал головой.
Эгон промолчал. Оба ускорили шаг.
Но надвигавшаяся пурга была проворнее их.
Она догнала охотников. Через час уже нельзя было отличить небо от
ледяного покрова океана. Впереди не было видно ни зги. Они спотыкались,
падали, поднимались, ослепленные колючей, как стекло, снежной пылью. Скоро
обнаружилось, что вместо того чтобы подвигаться вперед, они кружат на месте.
Другого выхода, как укрыться за торосом, не было. Пурга крепчала...
Потянулись длинные часы... В ушах все так же свистел ветер, все так же
хлестали в лицо волны колючего снега. Руки и ноги немели. Охотники не могли
больше двигаться. Они медленно замерзали. Их ждала страшная смерть,
превращающая тело в ледяную глыбу.
Наконец стихия угомонилась, ветер стих. Еще один порыв, и небо вдруг
очистилось. Засияло клонившееся к западу солнце.
Охотники прислушались, подняли головы, то есть попытались встать. Увы,
их мышцы отказались повиноваться. Головы беспомощно упали на снег.
Изнуренные голодом, полузамерзшие, друзья были не в силах двинуться,
покинуть снежное ложе.
-- Ее зовут Мария... Она забудет слова "папа"... -- начал бредить Отто.
Потом уставился остекленевшими, вытаращенными глазами в стеклянное
небо.
Эгон лежал на боку и не видел неба. Перед ним расстилался обледенелый,
заснеженный остров, в дальнем конце которого находилась их хижина с теплыми
меховыми одеялами, запасом провизии и приемником, которому теперь уже не для
кого будет принимать из эфира позывные далекого мира.
Из глаз Эгона катились слезы и замерзали на щеках.
Но вдруг в его поле зрения возникло не иначе, как бредовое видение.
Прямо на них шел белый медведь. Но вместо того чтобы идти, как все
медведи, на четырех лапах, этот двигался прыжками, кувыркался через голову,
отдавал честь, вертелся в вальсе или шел как на параде, печатая шаг...
Эгон закрыл глаза.
Уж если начинаются галлюцинации, значит, близок конец, подумал он, и
стал ждать смерти -- жуткой смерти от мороза, когда после обманчивых видений
в сердце застывает кровь.
Едва показавшись из-под век, слезы превращались в ледяные шарики.
Дочка... Может быть, она сейчас беззаботно разыгрывает гаммы. Или
разглядывает альбом с фотографиями... Смотрит на его фотографию, которая
висит на стене. "Мамочка, как ты думаешь, папа привезет белого медвежонка,
которого он мне обещал?.. -- может, спрашивает она. -- Скажи, мамочка!..
Чего ж ты плачешь?..
Эгон почувствовал, что он погружается в тот глубокий сон, от которого
еще никто не пробуждался...
Но щеку его вдруг обдало горячее дыхание; теплый, влажный нос коснулся
его лица.
Медведь толкал человека, удивляясь его неподвижности, лизал ему щеки,
глаза, нос, пятился и, выждав немного, снова принимался лизать. Он никак не
мог понять, отчего эти люди лежат пластом, почему молчат, не просыпаются, не
поднимают рук.
Это было непонятно.
Запах их он узнал издалека. Чутье, обманывавшее его, когда речь шла о
зверях, издали возвестило ему, что здесь люди, люди из далеких, теплых
стран. Учуяв их, он побежал во всю прыть, чтобы принять дорогих гостей,
доказать им свою дружбу, приветствовать их веселым кувырканием и
сальто-мортале, что, наверно, доставит им удовольствие, чтобы отдать им
по-военному честь. И вдруг нашел их в таком странном состоянии.
Фрам отступил на три шага и замер, приложив лапу к виску:
-- Ну, же, люди!.. Меня запросто не проведешь!
Он уже узнал в одной из лежащих фигур того самого охотника, который
когда-то сопровождал его на пароходе и выпустил на свободу на пустынный
остров, позаботившись оставить на первое время запас провизии в расселине
скал. Другого способа выразить радость встречи, кроме клоунских прыжков и
кувыркания, у него не было.
Эгон открыл глаза и собрал последние силы:
-- Отто! Это же Фрам! Фрам!.. Ты слышишь меня? Фрам, из цирка
Струцкого!
-- Ее зовут Мария... -- бредил Отто. -- Она уже никого больше не
назовет папой. Она забудет это слово...
Он ничего не слышал. Он смотрел в пустое небо пустыми глазами. Только
теперь развитому общением с людьми медвежьему разуму открылся смысл
происходящего.
Не мешкая, Фрам отгреб лапами снег, уложил охотников рядом, а сам
улегся на них, согревая их своим мехом. Этому он научился в молодости от
своего дрессировщика, выступая в пантомиме. Охотники уже настолько
отрешились от всего земного и были настолько обессилены, что даже не
пытались понять, что с ними делается. Белый медведь. Правда, он когда-то
выступал в пирке, но с тех пор, конечно, одичал; чего от него ждать?
Оба много лет кряду убивали белых медведей. Теперь настал их черед.
Безоружные, обессиленные, они попались в лапы белого медведя и станут его
добычей. Но почему же он медлит, почему клыки его еще не раздробили им
черепа, как моржам и тюленям? Уж кончал бы скорее, настал бы конец этой
муке!..
-- Ее зовут Мария... -- продолжал бредить один. -- Ей скоро исполнится
два года... Она никогда больше не скажет слово "папа", никогда...
Другой повторял, как заведенный:
-- Это Фрам... Я хорошо его помню... Фрам со своими прыжками. Ну же,
Фрам, скорей... Терзай нас, кусай... Приканчивай!.. Сжалься над нами, Фрам,
не томи понапрасну, кончай разом!..
Их голоса понемногу стихли. Бред перешел в сон. Странный сон. Сон,
принесший тепло. Может, это и есть смерть? Так, говорят, умирают
замерзающие. Сначала коченеют руки и ноги, потом в жилах застывает,
останавливается кровь. А человеку, между тем, снится, что ему тепло, он
чувствует жар в лице, в груди, в глазах...
Таким был и этот сон. Сколько он длился? Целую вечность... Открыв
наконец глаза, они почувствовали на груди тяжесть теплой медвежьей шубы.
Попробовали шевельнуть руками, потом ногами. Руки слушались. Ноги тоже.
-- Эгон!
-- Отто!
Это были их голоса. Оба слышали и узнавали свой голос.
Значит, это не смерть. Не глубокий, беспробудный сон замерзающих.
Давившая на них шуба задвигалась. Поднялась сама. Их грело живое
одеяло.
Фрам стал сначала на все четыре лапы, потом поднялся на задние и
церемонно отдал честь.
Воскресшие охотники приподнялись на локтях, переглянулись и уставились
на медведя.
-- Дай-ка трубку, Отто! Все это кажется мне сном. Только трубка решит
загадку, жив я или мертв!..
Эгон и в самом деле ощупывал себя, желая убедиться, что он жив. Как
будто все было в порядке. Руки действовали, ноги тоже. С ни с чем не
сравнимым удовольствием он хрустнул суставами пальцев. А цирковой медведь
все еще стоял навытяжку, приложив лапу к голове.
-- Фрам и есть! Я ж тебе сразу сказал, что это Фрам!..
Эгон вскочил на ноги. Его шатало от голода. Он прислонился к торосу,
потом подошел заплетающимися шагами к своему избавителю.
Язык еще плохо слушался, не мог выразить мыслей, которые рождались и
росли в усталом мозгу.
-- То, что ты сделал, Фрам... То, что ты сделал, Фрам!.. -- повторил он
несколько раз, потом зарыл лицо в косматой белой шкуре и заплакал, как
ребенок.
Отто тоже поднялся.
Оба медвежатника стояли теперь, беспомощно прислонясь к груди
медведя...
Фрам осторожно отстранил их лапой. Он привык иметь дело с сильными и
гордыми людьми. Да и понимал, казалось, что сейчас не время лить слезы. У
него поблизости берлога с запасами -- добычей, отобранной у других медведей
уже известным нам способом: клоунскими прыжками и сальто-мортале, неизменно
обращавшими хозяев добычи в бегство.
Туда он и приглашал охотников.
-- Что нам делать? -- спросил Отто.
-- По-моему, его знаки имеют определенный смысл, -- ответил Эгон.
-- Держу пари, что он приглашает нас обедать... Что меня вовсе не
удивило бы!..
Он оказался прав.
Обед, который Фрам предложил своим гостям, был скромен и состоял всего
из одного блюда: тюленьего мяса, его ежедневного меню.
Охотники наелись. У них прибавилось сил. Они начали с беспокойством
поглядывать на запад, где солнце уже клонилось к горизонту. Наступали
полярные сумерки.
Это была последняя неделя полярной навигации, последняя неделя, когда
суда еще решались бороздить пустынный Ледовитый океан.
Охотниками овладела тревога: а что, если промысловое судно уже прибыло
и уйдет, не дождавшись их?
Медлить было нельзя. Взвалив на плечи по куску мороженого тюленьего
мяса, они направились в конец острова.
-- Лишь бы не повстречаться с белым медведем! -- сказал Отто, --
Безоружных, он съест нас за милую душу.
Эгон показал на Фрама, который, как огромный пес, шел рядом с ними,
покачиваясь на четырех лапах.
-- Пока этот попутчик с нами, бояться нечего!.. Уверен, что он умеет
обращаться со своими родичами. Верно, Фрам?
Услышав свою кличку, Фрам поднялся на задние лапы, козырнул, как
солдат, который говорит: "Рад стараться!", потом вернулся в прежде положение
и пошел дальше.
И если он не мог выразить это словами, то всем своим видом показывал,
что для родичей у него действительно есть средство, но куда более
безобидное, чем пули, которыми пользуются люди.
Обратный путь занял не сорок восемь, а все шестьдесят часов: усталость
заставляла охотников часто останавливаться и отдыхать.
Корабль еще не прибыл. Зато друзей ждала их хижина с теплыми меховыми
одеялами и приемником. И трое белых медвежат в клетке, которые жалобно
скулили от голода.
Фрам несколько раз обошел вокруг клетки. Сердито ворча, посмотрел на
людей, посмотрел на дверцу, потом тихонько отодвинул засов. Медвежата не
решались выйти. Фраму пришлось вытаскивать их по одному зубами. Вытащив
последнего, он дал каждому пинка: ступайте, мол, на все четыре стороны!
Охотники смотрели на эту сцену, засунув руки в карманы и попыхивая
трубками.
-- Бьюсь об заклад, что у этого медведя человеческие мозги! -- сказал
Эгон. -- Видал, как он открыл клетку? Меня это не удивило: мало ли чему он
научился у людей в своем цирке?.. Удивительно другое: как ему пришла в
голову мысль освободить медвежат, своих соплеменников?
-- Когда мы будем рассказывать об этом происшествии, над нами станут
смеяться, скажут, что это охотничьи басни. Как по-твоему, Фрам?..
Фрам заурчал в ответ. Умей медведь говорить, он, наверно, рассказал бы
о том, что в одном эскимосском стойбище у него есть знакомый мальчик,
который тоже, вероятно, прослыл великим выдумщиком, прежде чем стать
охотником. Он снова заурчал и выжидательно посмотрел на хижину, где
находилась волшебная поющая коробка.
-- Фрам просит включить радио, -- рассмеялся Эгон. -- Я не встречал
более страстного любителя музыки!..
Он вошел в хижину и включил приемник.
Из далекой теплой страны потекла по волнам эфира мелодия. Положив морду
на вытянутые лапы, Фрам слушал с закрытыми глазами. Волновала его не столько
сама музыка, сколько воспоминания, которые она будила... О далеких городах,
согретых жарким солнцем, с ярко освещенными по вечерам улицами, с парками и
цветущими садами. О ребятах, которые протягивали ему кулечки с конфетами,
чтобы он поделил их с другими, о детских ручках, которые едва осмеливались с
робкой лаской прикоснуться к его шкуре. О курносом мальчугане с сияющими
глазами, который кричал ему "Браво!" на прощальном представлении цирка в
одном из тех далеких городов.
Промысловое судно наконец прибыло и, бросив якорь в открытом море,
прислало две лодки за шкурами. По всему было видно, что капитан торопится.
Фрам смотрел и все понимал. Глаза у него были грустные.
Люди глядели на него с недоумением.
-- Жалко оставлять его здесь! -- сказал Эгон. -- Расстаешься с ним, как
с близким другом.
-- Да ведь он создан для здешней жизни! -- заметил Отто. -- Такова его
участь. Ты, верно, помнишь, что цирк Струцкого отправил его сюда с тобой
именно потому, что он тосковал по родине...
Охотники вошли в хижину посмотреть, не забыто ли что-нибудь. Когда они
вышли, Фрама уже не было. Они бросились его искать, звали.
-- Жаль все-таки, что мы с ним не простились... Видел, с каким
удивлением смотрели на него матросы?
Эгон забрался на высокую скалу, откуда было видно далеко кругом. Видны
были и две стоявшие у берега лодки.
-- Смотри! -- крикнул он товарищу. -- Мы ищем Фрама, а он уже в лодке.
Опередил нас!
 И действительно, Фрам, не дожидаясь охотников, залез в лодку. Он стоял
в ней, повернувшись спиной к берегу. Матросы пытались согнать его на берег.
Но Фрам словно слился с лодкой.
-- Итак... -- начал Отто.
-- Итак, мы берем его с собой! -- договорил Эгон. -- Таково его
желание. Высказать его он не может, но всем своим видом ясно показывает, что
это именно так.
Охотники спустились по скалистому берегу. Весла у гребцов были
наготове, чтобы погнать лодку к стоявшему в открытом море кораблю. Эгон
положил руку на шею медведя.
-- Дорогой Фрам, -- сказал он. -- Значит, ты возвращаешься в наш мир
навсегда? Почему ж тогда ты не прощаешься с этим ледяным краем? Прими к
сведению, что во второй раз я тебя сюда не повезу!..
Словно поняв смысл обращенных к нему слов, Фрам медленно повернул
голову и долго глядел на покидаемые им навеки родные места. Потом отвернулся
и устремил взор вперед, к далекому миру, лежащему по ту сторону вечных льдов
и студеных вод сурового океана.
-- Весла на воду! Пошли! -- проговорил один из гребцов.
И действительно, Фрам, не дожидаясь охотников, залез в лодку. Он стоял
в ней, повернувшись спиной к берегу. Матросы пытались согнать его на берег.
Но Фрам словно слился с лодкой.
-- Итак... -- начал Отто.
-- Итак, мы берем его с собой! -- договорил Эгон. -- Таково его
желание. Высказать его он не может, но всем своим видом ясно показывает, что
это именно так.
Охотники спустились по скалистому берегу. Весла у гребцов были
наготове, чтобы погнать лодку к стоявшему в открытом море кораблю. Эгон
положил руку на шею медведя.
-- Дорогой Фрам, -- сказал он. -- Значит, ты возвращаешься в наш мир
навсегда? Почему ж тогда ты не прощаешься с этим ледяным краем? Прими к
сведению, что во второй раз я тебя сюда не повезу!..
Словно поняв смысл обращенных к нему слов, Фрам медленно повернул
голову и долго глядел на покидаемые им навеки родные места. Потом отвернулся
и устремил взор вперед, к далекому миру, лежащему по ту сторону вечных льдов
и студеных вод сурового океана.
-- Весла на воду! Пошли! -- проговорил один из гребцов.
 * * *
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. Прощальное представление цирка Струцкого
II. Фрам капризничает
Ш. После отъезда цирка
IV. В Ноевом ковчеге
V. Фрам родился далеко, в полярных льдах
VI. Человек, собака и ружье
VII. Ты будешь называться "Фрам"!
VIII. Назад к Ледовитому океану
IX. Пустынный остров на краю земли
X. Первая встреча
XI. Буффон Ледовитого океана
ХII. Друзья Фрама в далеких городах не забыли его
ХШ. Фрам находит себе маленького друга
XIV. Фрам расстается со своим маленьким другом по собственному желанию
XV. Нанук
XVI. Эпилог
НАПЕЧАТАНО В РУМЫНИИ
OCR-GVG-2005, примечание: Переводчик, вероятно, был румынский, в книге
было много ошибок, хотя издана книга очень добротно. Грубые грамматические я
пытался исправлять, а, вероятно, близкие к языку оригинала, но не верные с
точки зрения русской грамматики, я не исправлял (например, слово влекомые в
русском языке отсутствует и его нельзя исправить, а можно только заменить)
* * *
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. Прощальное представление цирка Струцкого
II. Фрам капризничает
Ш. После отъезда цирка
IV. В Ноевом ковчеге
V. Фрам родился далеко, в полярных льдах
VI. Человек, собака и ружье
VII. Ты будешь называться "Фрам"!
VIII. Назад к Ледовитому океану
IX. Пустынный остров на краю земли
X. Первая встреча
XI. Буффон Ледовитого океана
ХII. Друзья Фрама в далеких городах не забыли его
ХШ. Фрам находит себе маленького друга
XIV. Фрам расстается со своим маленьким другом по собственному желанию
XV. Нанук
XVI. Эпилог
НАПЕЧАТАНО В РУМЫНИИ
OCR-GVG-2005, примечание: Переводчик, вероятно, был румынский, в книге
было много ошибок, хотя издана книга очень добротно. Грубые грамматические я
пытался исправлять, а, вероятно, близкие к языку оригинала, но не верные с
точки зрения русской грамматики, я не исправлял (например, слово влекомые в
русском языке отсутствует и его нельзя исправить, а можно только заменить)