�Сирано Де Бержерак. Иной свет, или Государства и империи Луны�
---------------------------------------------------------------
(1649-1650)
Изд. "Правда"
OCR: Сергей Хлынин ║ http://epizodsspace.testpilot.ru/
Origin: http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/fant/sirano/s1.html ║ http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/fant/sirano/s1.html
---------------------------------------------------------------


 Светила полная Луна, небо было ясно и уже пробило девять часов вечера, когда
я и четверо моих друзей возвращались из одного дома в окрестностях Парижа.
Наше остроумие, очевидно, отточилось о камни мостовой, ибо в какую сторону
оно ни обращалось, всюду оно заострялось, и как далека ни была Луна, она не
могла от него спастись.
Наши взорьи утопали в великом светиле; один принимал его за небесное
слуховое окно, сквозь которое просвечивало сияние блаженных, другой,
убежденный в истинности старых басен, воображал, что, быть может, это Вакх*
там вверху содержит таверну и полную Луну повесил как вывеску; третий
утверждал, что это гладильная доска, на которой Диана* разглаживает
воротнички Аполлона, наконец, четвертый - что это, быть может, само Солнце,
что оно совлекло с себя одеяние своих лучей и в халате выглядывает сквозь
отверстие на то, что творится на свете в его отсутствие.
Что касается меня, воскликнул я, то желая присоединить свои восторги к
вашим и не восхищаясь тем острием изнуренного воображения, которым вы
погоняете время, чтобы заставить его двигаться быстрей, я думаю, что Луна -
это такой же мир как и наш и что Земля, в свою очередь, служит ей Луной. Мои
спутники ответили мне на это громким взрывом хохота. Точно так же, быть
может, продолжал я, там, на Луне, смеются теперь над тем, кто утверждает,
что этот земной шар есть мир. Но сколько я ни ссылался на то, что Пифагор,
Эпикур, Демокрит, а в наши дни Коперник и Кеплер, придерживались такого же
мнения, они только громче и громче хохотали.
Однако эта мысль, смелость которой нравилась моему нраву, еще сильнее
укрепилась во мне благодаря противоречию и так губоко в меня запала, что в
продолжении всего остального пути я вынашивал в себе тысячу различных
определений Луны, однако никак не мог разрешиться ими. По мере того как я
подкреплял в себе эту шутливую мысль почти серьезными доводами, я сам чуть
было не поверил в нее.
Но послушай, читатель, какое чудо или какая случайность помогли
провидению или судьбе утвердить меня на этом пути: вернувшись с прогулки, я
вошел в свою комнату, чтобы там отдохнуть, и увидел на столе открытую книгу,
которую я туда не клал. Я увидал, что эта книга моя, и потому спросил у
своего лакея, на каком основании он принес ее из кабинета; я в сущности
спросил его только для формы, ибо это был толстый лотарингец, душа которого
не выполняла никаких иных функций чем те, которые выполняет душа устрицы в
своей раковине. Он мне поклялся, что сюда ее мог доставить только я или
черт, что касается меня, я хорошо знал, что я не прикасался к этой книге уже
более года.
Я снова взглянул на нее: это была книга Кардано*, и хотя я не
намеревался ее читать, однако мои глаза как-то невольно упали на то самое
место, где у этого философа мы находим такой рассказ: он пишет, что,
занимаясь однажды вечером при свете сальной свечи, он увидел входивших
сквозь закрытые двери двух высоких стариков; после многих расспросов с его
стороны старики ему сказали, что они обитатели Луны, и в ту же минуту
исчезли.
Я был так удивлен, как тем, что увидел книгу, которая сама себя
принесла, так и тем, на какой странице она оказалась открытой и в какую
минуту все это произошло, что все это сцепление обстоятельств я считал за
внушение свыше, требовавшее от меня, чтобы я разъяснил людям, что Луна -
обитаемый мир. Как, думал я, после того, как я целый день проговорил об
одном предмете, книга, может быть единственная в мире, где специально
трактуется об этой материи, летит из моей библиотеки на стол, становится
способной рассуждать, открывается на том самом месте, где описано столь
чудесное происшествие, насильно притягивает к себе мой взор, внушает моей
фантазии нужные соображения, а моей воле нужные намерения. Без сомнения,
размышлял я дальше, мою книгу переложили те же старики, которые появились
перед этим великим человеком; они же открыли ее на этой странице, чтобы
избавить себя от труда держать мне те же речи, которые держали Кардану. Но,
прибавил я, как же мне объяснить себе эти сомнения иначе, как поднявшись на
Луну? И почему же нет, тотчас же отвечал сам себе.- Ведь восходил же
Прометей на небо, чтобы похитить огонь. Разве я менее отважен, чем он? И
какие же у меня основания не надеяться на такую же удачу?
За этими вспышками горячечного бреда последовала надежда, что мне
удастся совершить это чудное путешествие.
Чтобы довести дело до конца, я удалился в довольно уединенный дом в
деревне, где, предавшись моим мечтаниям и обдумав несколько возможностей их
осуществить, я поднялся на небо и вот каким образом.
Я прежде всего привязал вокруг себя множество склянок, наполненных
росой; солнечные лучи падали на них с такой силой, что тепло, притягивая их,
подняло меня на воздух и унесло так высоко, что я оказался дальше самых
высоких облаков. Но так как это притяжение заставляло меня подниматься
слишком быстро и вместо того, чтобы приближаться к Луне, как я рассчитывал,
я заметил, наоборот, что я от нее дальше, чем при моем отбытии, я стал
постепенно разбивать склянки одну за другой, пока не почувствовал, что
тяжесть моего тела перевешивает силу притяжения и что я спускаюсь на землю.
Светила полная Луна, небо было ясно и уже пробило девять часов вечера, когда
я и четверо моих друзей возвращались из одного дома в окрестностях Парижа.
Наше остроумие, очевидно, отточилось о камни мостовой, ибо в какую сторону
оно ни обращалось, всюду оно заострялось, и как далека ни была Луна, она не
могла от него спастись.
Наши взорьи утопали в великом светиле; один принимал его за небесное
слуховое окно, сквозь которое просвечивало сияние блаженных, другой,
убежденный в истинности старых басен, воображал, что, быть может, это Вакх*
там вверху содержит таверну и полную Луну повесил как вывеску; третий
утверждал, что это гладильная доска, на которой Диана* разглаживает
воротнички Аполлона, наконец, четвертый - что это, быть может, само Солнце,
что оно совлекло с себя одеяние своих лучей и в халате выглядывает сквозь
отверстие на то, что творится на свете в его отсутствие.
Что касается меня, воскликнул я, то желая присоединить свои восторги к
вашим и не восхищаясь тем острием изнуренного воображения, которым вы
погоняете время, чтобы заставить его двигаться быстрей, я думаю, что Луна -
это такой же мир как и наш и что Земля, в свою очередь, служит ей Луной. Мои
спутники ответили мне на это громким взрывом хохота. Точно так же, быть
может, продолжал я, там, на Луне, смеются теперь над тем, кто утверждает,
что этот земной шар есть мир. Но сколько я ни ссылался на то, что Пифагор,
Эпикур, Демокрит, а в наши дни Коперник и Кеплер, придерживались такого же
мнения, они только громче и громче хохотали.
Однако эта мысль, смелость которой нравилась моему нраву, еще сильнее
укрепилась во мне благодаря противоречию и так губоко в меня запала, что в
продолжении всего остального пути я вынашивал в себе тысячу различных
определений Луны, однако никак не мог разрешиться ими. По мере того как я
подкреплял в себе эту шутливую мысль почти серьезными доводами, я сам чуть
было не поверил в нее.
Но послушай, читатель, какое чудо или какая случайность помогли
провидению или судьбе утвердить меня на этом пути: вернувшись с прогулки, я
вошел в свою комнату, чтобы там отдохнуть, и увидел на столе открытую книгу,
которую я туда не клал. Я увидал, что эта книга моя, и потому спросил у
своего лакея, на каком основании он принес ее из кабинета; я в сущности
спросил его только для формы, ибо это был толстый лотарингец, душа которого
не выполняла никаких иных функций чем те, которые выполняет душа устрицы в
своей раковине. Он мне поклялся, что сюда ее мог доставить только я или
черт, что касается меня, я хорошо знал, что я не прикасался к этой книге уже
более года.
Я снова взглянул на нее: это была книга Кардано*, и хотя я не
намеревался ее читать, однако мои глаза как-то невольно упали на то самое
место, где у этого философа мы находим такой рассказ: он пишет, что,
занимаясь однажды вечером при свете сальной свечи, он увидел входивших
сквозь закрытые двери двух высоких стариков; после многих расспросов с его
стороны старики ему сказали, что они обитатели Луны, и в ту же минуту
исчезли.
Я был так удивлен, как тем, что увидел книгу, которая сама себя
принесла, так и тем, на какой странице она оказалась открытой и в какую
минуту все это произошло, что все это сцепление обстоятельств я считал за
внушение свыше, требовавшее от меня, чтобы я разъяснил людям, что Луна -
обитаемый мир. Как, думал я, после того, как я целый день проговорил об
одном предмете, книга, может быть единственная в мире, где специально
трактуется об этой материи, летит из моей библиотеки на стол, становится
способной рассуждать, открывается на том самом месте, где описано столь
чудесное происшествие, насильно притягивает к себе мой взор, внушает моей
фантазии нужные соображения, а моей воле нужные намерения. Без сомнения,
размышлял я дальше, мою книгу переложили те же старики, которые появились
перед этим великим человеком; они же открыли ее на этой странице, чтобы
избавить себя от труда держать мне те же речи, которые держали Кардану. Но,
прибавил я, как же мне объяснить себе эти сомнения иначе, как поднявшись на
Луну? И почему же нет, тотчас же отвечал сам себе.- Ведь восходил же
Прометей на небо, чтобы похитить огонь. Разве я менее отважен, чем он? И
какие же у меня основания не надеяться на такую же удачу?
За этими вспышками горячечного бреда последовала надежда, что мне
удастся совершить это чудное путешествие.
Чтобы довести дело до конца, я удалился в довольно уединенный дом в
деревне, где, предавшись моим мечтаниям и обдумав несколько возможностей их
осуществить, я поднялся на небо и вот каким образом.
Я прежде всего привязал вокруг себя множество склянок, наполненных
росой; солнечные лучи падали на них с такой силой, что тепло, притягивая их,
подняло меня на воздух и унесло так высоко, что я оказался дальше самых
высоких облаков. Но так как это притяжение заставляло меня подниматься
слишком быстро и вместо того, чтобы приближаться к Луне, как я рассчитывал,
я заметил, наоборот, что я от нее дальше, чем при моем отбытии, я стал
постепенно разбивать склянки одну за другой, пока не почувствовал, что
тяжесть моего тела перевешивает силу притяжения и что я спускаюсь на землю.
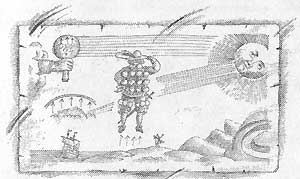 Я не ошибся, и скоро я упал на землю; судя по тому времени, когда я
начал свое путешествие, должен был наступить полдень. Между тем я увидел,
что Солнце стоит в своем зените и что там, где я нахожусь, полдень. Вы
можете себе представить мое изумление! Оно действительно было таково, что,
не зная, чему приписать такое чудо, я возымел дерзкую мысль, что я в честь
моей отваги вновь пригвоздил Солнце к небесам, дабы оно могло освещать столь
благородное предприятие. Мое изумление, однако, достигло еще большей
степени, когда я оглянулся вокруг себя и не узнал местности, в которой
находился. Мне казалось, что, поднявшись вверх по совершенно прямой линии, я
должен был спуститься на то самое место, откуда я начал свое путешествие.
Все в том же странном уборе я направился к какой-то хижине, заметив
поднимавшийся из нее дым; я едва дошел до нее на расстояние пистолетного
выстрела, как увидел себя окруженным множеством совершенно голых людей. Мне
показалось, что вид мой чрезвычайно их удивил, ибо я был первый человек,
одетый бутылками, которого им когда-либо приходилось видеть; они заметили,
кроме того, что когда я двигаюсь, я почти не касаюсь земли, и это
противоречило всему тому, чем они могли бы объяснить мой наряд: ведь они не
знали, что при малейшем движении, которое я сообщал своему телу, зной
полдневных солнечных лучей поднимал меня и всю росу вокруг меня и что если
бы моих склянок было достаточно, как в начале моего путешествия, я мог бы на
их глазах быть вознесен на воздух. Я хотел к ним подойти и заговорить с
ними, но страх, казалось, обратил их в птиц; в одно мгновение они
разлетелись по соседнему лесу. Мне, однако, удалось поймать одного из них,
ноги которого, по-видимому, изменили его сердцу. Я спросил его, произнося
слова с большим трудом (ибо задыхался), каково расстояние отсюда до Парижа,
с каких пор народ ходил голым во Франции и почему они с таким ужасом бежали
от меня. Человек, с которым я говорил, был старик с оливковым цветом лица,
он сперва бросился на колени и, подняв руки кверху над головой, открыл рот и
закрыл глаза. Он долго что-то бормотал сквозь зубы, но я не мог разобрать ни
одного членораздельного звука и принял его речь за хриплое щебетание немого.
Некоторое время спустя я заметил приближение отряда солдат, которые шли
с барабанным боем; двое из них отделились и подошли ко мне для
рекогносцировки. Когда они были достаточно близки, чтобы расслышать мои
слова, я просил их сказать мне, где я нахожусь. "Вы во Франции,- отвечали
они,- но какой черт привел вас в такой вид и почему же мы вас не знаем?
Разве корабли прибыли? Собираетесь ли вы сообщить об этом господину
губернатору? И почему вы разлили вашу водку в такое множество бутылок?" На
все это я возразил, что в такой вид привел меня не черт, что не знают они
меня потому, что им не могут быть известны все; что я не знал, что по Сене
ходят корабли в Париж; что мне нечего сообщать господину де Монбазону*, что
я нагружен не водкой. Ого,- сказали они и взяли меня под руки,- вы еще
хорохоритесь? Господин губернатор-то вас узнает". Они повели меня туда, где
стояла их часть, и здесь я узнал, что я действительно во Франции, но не в
Европе, ибо это была Новая Франция*. Некоторое время спустя я был
представлен вице-королю господину Монманьи*; он спросил меня, из какой я
страны, каково мое имя и мое звание; я ответил на все его вопросы и
рассказал о приятном и успешном исходе моего путешествия; поверил ли он мне
или сделал только вид, что поверил, я не знаю; как бы то ни было, он был так
любезен, что приказал отвести мне комнату в своем собственном доме. Для меня
было большим счастьем встретить человека, способного к возвышенным мыслям,
который притом не выразил никакого удивления, когда я ему сказал, что Земля,
очевидно, вращалась, пока я поднимался, ибо, начав свое воздушное
путешествие в двух милях от Парижа, я упал по линии, почти перпендикулярной
в Канаде. Вечером, когда я уже собрался ложиться спать, он вошел в мою
комнату и сказал: "Я бы не стал нарушать вашего покоя, если бы я не думал,
что человек, обладающий такой тайной силой совершить столь длинный путь в
полдня, должен также обладать способностью не уставать. Но вы не знаете, -
прибавил он,- какой забавный спор у меня только что был по вашему поводу с
нашими отцами иезуитами. Они настаивают на том, что вы колдун, и самое
большое снисхождение, на которое вы можете рассчитывать с их стороны, это
то, чтобы сойти за обманщика. Действительно, то движение, которое вы
приписываете Земле, разве это не удачный парадокс? Что касается меня, скажу
вам откровенно, почему я не разделяю ваших взглядов. Ведь выехав из Парижа
вчера, вы могли бы прибыть сюда сегодня, хо тя бы Земля и не вращалась; не
должно ли было привести вас сюда Солнце, поднявшее вас при помощи ваших
бутылок, так как, согласно Птоломею, Тихо Браге* и современным философам,
оно движется наискось от того пути, которое вы приписываете Земле. А затем,
почему вы считаете правдоподобным представление, что Солнце неподвижно,
когда мы видим, как оно движется? И почему вы предполагаеТе что Земля
вращается с такой быстротой, когда мы чувствуем, как она неподвижна под наши
ми ногами?" "Государь мой,- возражал я,- вот приблизительно те доводы, на
основании которых мы догадываемся обо всем том. Во-первых, самый здравый
смысл говорит за то, что Солнце помещается в центре вселенной, ибо все тела,
существующие в природе, нуждаются в его животворном огне, что оно обитает в
самом центре подвластного ему государства, чтобы немедленно удовлетворять
всем его потребностям, и что первопричина жизни находится в центре всех тел,
чтобы действие ее могло распространяться на них легко и равномерно. Точно
так же мудрая природа поместила детородные органы человека в середине его
тела, зернышко в сердцевине яблока, косточки в середине плода, точно так же
луковица сохраняет под защитой сотни окружающих ее кожиц драгоценный росток,
из которого миллионы новых луковиц почерпнут свое существование. Ибо это
яблоко само в себе маленькал вселенная, а зернышко, содержащее в себе больше
тепла, чем остальные его части, и есть солнце, распространяющее вокруг себя
тепло, хранителя целого яблока; росток с этой точки зрения тоже маленькое
солнце этого мирка, согревающее и питающее растительную соль этого
маленького тела. Исходя из этого предположения, я говорю, что Земля,
нуждаясь в свете, в тепле и в воздействии этого великого источника огня,
вращается вокруг него, чтобы получить от него силу, сохраняющую ее жизнь и
необходимую ей равномерно для всех ее частей. Было бы одинаково смешно
думать*, что это великое светило станет вращаться вокруг точки, до которой
ему нет никакого дела, как было бы смешно предположить при виде жареного
жаворонка, что вокруг него вертелась печь. Иначе, если бы Солнцу приходилось
выполнять эту работу, надо было бы думать (пришлось бы сказать), что
медицина нуждается в больном, что сильный должен подчиняться слабому,
знатный - служить простолюдину и что не корабль плывет вдоль берегов, а
берега движутся вокруг корабля. Если вам непонятно, каким образом может
вращаться такая тяжелая масса, скажите мне, пожалуйста, разве менее тяжелы
светила и небесный свод, который вы считаете таким плотным? Еще скорее можем
мы, убежденные в том, что Земля есть шар, заключить о ее движении на
основании ее формы. Но по чему вы предполагаете что небо также имеет форму
шара, когда знать вы этого не можете и когда ясно, что если оно не обладает
именно этой формой, оно не может вращаться. Я нисколько не укоряю вас за
ваши эксентрики, концентрики и ваши эпициклы, но относительно них вы будете
в состоянии дать мне лишь самые смутные объяснения, я же исключаю их из
своей системы. Будем говорить только об естественных причинах этого
движения. Ведь вам, картезианцам*, приходится прибегать к предпо ложению о
разумных существах, движущих ваши сферы и управляющих ими. Но я, не нарушая
покоя верховного существа, который, без сомнения, создал природу совершенной
и по мудрости своей завершил ее создание так, что, сделав ее совершенной для
одной цели, он не мог ее оставить несовершенной для другой, я, повторяю,
нахожу в самой Земле те силы, которые заставляют ее вращаться! Потому я
говорю, что солнечные лучи и исходящее из них действие, ударяя по Земле,
заставляют ее вращаться, как мы заставляем вращаться шар, ударяя его рукой;
точно так же испарения, постоянно поднимающиеся из недр Земли с той ее
стороны, на которую светит солнце, задержанные холодным воздухом среднего
пояса и отраженные от него, падают на нее обратно и, имея возможность
ударить ее только вкось, по необходимости заставляют ее вращаться вокруг
самой себя. Объяснение остальных двух движений еще менее сложно. Вдумайтесь,
пожалуйста..." На этих словах вице-король меня остановил: "Я предпочитаю,-
сказал он,- освободить вас от этого труда; я, кстати, читал об этом предмете
несколько книг Гассенди*, зато вы должны выслушать, что мне ответил однажды
один из наших отцов, поддерживающий вашу точку зрения: "Действительно,
говорил он, я представляю себе, что Земля может вращаться, однако не по тем
причинам, которые приводит Коперник, а потому что огонь ада заключен в
центре Земли, как нас учит об этом священное писание, и души осужденных на
вечные мучения, спасаясь от страшного пламени, карабкаются вверх, удаляясь
от него в направлении против земного свода, и таким образом заставляют Землю
вращаться, подобно тому как собака, когда бежит, заставляет вращаться
колесо, на нее надетое".
Мы стали расхваливать рвение почетного священника, а, окончив свой
панегирик, господин де Монманьи сказал, что его очень удивляет, почему же
система Птоломея, столь мало правдоподобная, была так распространена.
"Большинство людей,- отвечал я,- которые судят только на основании своих
чувств, поверили свидетельству своих глаз, и, подобно тому, как тот, кто,
сидя на корабле, плывущем вдоль берега, думает, что он сам неподвижен, а
двигается берег, точно так же и люди, вращаясь вместе с Землей вокруг неба,
думали, что само небо вращается вокруг них. Присовокупите к этому еще всю
невыносимую гордость человека, который убежден, что природа создана лишь для
него, как будто есть сколько-нибудь вероятия в том, что Солнце, огромное
тело, в четыреста тридцать четыре раза больше Земли*, было зажжено для того,
чтобы созревал его кизил и кочанилась капуста. Что касается до меня, то я
далек от того, чтобы сочувствовать дерзким мыслям, и думаю, что планеты -
это миры, окружающие Солнце, а неподвижные звезды - точно такие же солнца,
как наше, что они также окружены своими планетами, т. е. маленькими мирами,
которых мы отсюда не видим ввиду их малой величины и потому что их
отраженный свет до нас не доходит. Ибо как же по совести представить себе,
что все эти огромные шаровидные тела - пустыни и что только наша планета,
потому что мы по ней ползаем, была сотворена для дюжины высокомерных плутов.
Неужели же, если мы по Солнцу исчисляем дни и года, это значит, что Солнце
было сотворено для того, чтобы мы в темноте не стукались лбами об стену.
Нет, нет! Если этот видимый бог и светит человеку, то только случайно, как
факел короля случайно светит проходящему по улице вору".
"Но,- возразил он,- если, как вы утверждаете, неподвижные звезды - это
те же солнца, и сколько на небе неподвижных звезд, столько и солнц, из этого
можно вывести заключение, что мир бесконечен, ибо с достаточной вероятностью
можно предположить, что обитатели миров, окружающих неподвижную звезду,
которую вы принимаете за солнце, откроют над собой другие неподвижные
звезды, недоступные отсюда нашему взору,- и так до бесконечности".
"В этом нет никакого сомнения,- отвечал я,- подобно тому, как бог
создал бессмертную душу, он мог создать и бесконечный мир, если правда, что
вечность не что иное, как беспредельное время, а бесконечность -
безграничное пространство. Кроме того, если предположить, что мир не
бесконечен, нужно предположить, что и бог конечен, ибо он не может быть там,
где ничего нет, и не может увеличить обширность мира, не прибавив и к
собственной пространственности, начиная быть там, где его до сих пор не
было. Поэтому нужно думать, что подобно тому, как мы отсюда видим Юпитер и
Сатурн, точно так же, как находясь на той или другой планете, мы открыли бы
множество миров, которых отсюда не видим, и что именно так и построена
вселенная до бесконечиости"
"По чести,-возразил он,-что бы вы ни говорили, я совершенно не способен
понять, что такое бесконечность" "А скажите мне,- отвечал я,- понимаете ли
вы, что представляет из себя ничто, находящееся за пределами этого мира?
Вовсе не понимаете, ибо когда вы думаете об этом, то это ничто все-таки
представляете себе по меньшей мере в виде ветра или воздуха, а это уже есть
нечто. Но если вы не можете обнять бесконечность в целом, вы можете
представить ее себе по частям, ибо не трудно вообразить себе землю, огонь,
воду, воздух, звезды, небеса; бесконечкость же - это не что иное, как
беспредельная ткань всего этого. Если вы меня спросите, каким образом были
сотвореньт все эти миры, ибо священное писание говорит только об одном мире,
созданном богом, я вам отвечу, что оно говорит только о нашем мире, потому
что это единственный из миров, который бог взял на себя труд сотворить
собственной рукой, все же остальные миры, развешенные по лазури вселенной,
как те, которые мы видим, так и те, которых не видим,- это только пена,
выбрасываемая светилами, которые себя очищают. Действительно, как бы могли
существовать эти огромные источники огня, если бы они каким-то образом не
были связаны с той материей, которая их питает. И точно так же, как огонь
гонит далеко от себя золу, которая бы его заглушила; как золото,
расплавленное в горниле, отделяется, очищаясь от колчедана, уменьшающего его
вес; как сердце освобождается при помощи рвоты от несваримых материй,
давящих его, - так и Солнце каждый день выбрасывает из себя остатки материи,
питающей его пламя, и очищается от нее. Но когда вся эта материя, которая
его подлерживает, сгорит до конца, не сомневайтесь, что оно разольется во
все стороны, будет искать новой пищи и бросится на все миры, им же некогда
созданные, особенно на те, которые к нему всего ближе, и тогда этот великий
огонь смешает и расплавит все эти тела, а затем разгонит их во все стороны,
как и раньше; постепенно очистившись, он таким образом опять будет служить
солнцем этим маленьким мирам, которые он породил, вытаскивая их вон из своей
сферы. Вероятно, это и вызвало предсказание пифагорейцев о всемирном пожаре,
что вовсе не есть забавная выдумка, и Новая Франция, в которой мы находимся,
доставляет нам весьма убедительное тому доказательство. Ведь Америка, этот
обширный материк, представляет из себя половину всей суши, однако он долго
не был открыт нашими путешественниками, хотя они тысячу раз переплывали
через океан, и неудивительно, ибо его еще не существовало, точно так же, как
не существовало многих островов, полуостровов и гор, которые появились на
нашем земном шаре, когда Солнце, очищая себя от ржавчины*, отбросило ее
далеко от себя; сгустившись в тяжелые, плотные клубки, она была притянута к
центру нашего мира, может быть, постепенно мелкими частями, а может быть,
сразу целой массой. Эта мысль вовсе не так безрассудна, и святой Августин*,
наверное, одобрил бы ее, если бы открытие Америки произошло при нем, ибо
этот великий человек, ум которого был просвещен святым духом, утверждает,
что в его время Земля была плоская, как кухонная плита, и что она плавала
над водой, как апельсин, разрезанный пополам. Но если я когда-либо буду
иметь честь видеть вас во Франции и доставлю вам возможность наблюдать небо
через превосходную трубу, вы увидите, что некоторые темные места, которые
отсюда кажутся пятнами,- это целые миры, еще строящиеся".
Мои глаза совершенно смыкались, когда я кончал эту речь, и это
заставило господина де Монманьи со мной проститься. Как на другой день, так
и в следующие мы продолжали вести разговоры на ту же тему, но вскоре
затруднения, осложнившие управление провинцией, отразились и на наших
философских беседах, и я все более и более стал задумываться над тем, как бы
мне подняться на Луну. Как только она всходила, я отправлялся в лес и там
принимался мечтать о своем предприятии и о том, как бы довести его до
благополучного конца; наконец вечером, накануне Иванова дня, в то самое
время, когда в форте шел совет и разрешался вопрос о том, следует ли оказать
помощь дикарям против ирокезов*, я ушел один на склон небольшой горы,
поднимавшейся за нашим домом, и вот как я осуществил свое намерение. Уже
раньше я соорудил машину, которая, как я рассчитывал, могла поднять меня на
какую угодно высоту; думая, что в ней уже есть все необходимое, я в нее
уселся и сверху скалы пустился на воздух. Однако я, очевидно, не принял всех
нужных мер предосторожности, так как я тяжело свалил ся в долину. Хотя я и
был очень помят от падения, однако я не потерял мужества, вернулся в свою
комнату, достал мозг из бычачьих костей, натер им все тело, ибо я был разбит
от головы до ног. Подкрепив свое сердце бутылкой целебной настойки, я
отправился на поиски своей машины, но не нашел ее, так как кучка солдат,
которых послали в лес нарезать сучьев для праздничных костров, случайно
набрела на нее и принесла ее в форт. Долго рассуждали они о том, что бы это
могло быть, наконец напали на изобретенную мною пружину; тогда стали
говорить, что нужно привязать к машине как можно больше летучих ракет:
благодаря быстроте своего полета они унесут ее очень высоко; одновременно с
этим под действием пружины начнут махать большие крылья машины, и не
найдется ни одного человека, кто бы не принял ее за огненного дракона.
Долго я не мог найти ее, наконец разыскал посереди площади Квебека, в
ту минуту, когда собирались ее зажечь. Увидя, что дело моих рук в опасности,
я пришел в такое отчаяние, что побежал и схватил за руку солдата в ту
минуту, когда он подносил к ней зажженный фитиль; я вырвал фитиль из его рук
и бросился к своей машине, чтобы уничтожить горючий состав, который ее
окружал; но было уже поздно, и едва я вступил на нее ногами, как вдруг я
почувствовал, что поднимаюсь на облака. Ужас, овладевший мной, однако, не
настолько отразился на моих душевных способностях, чтобы я забыл все то, что
случилось со мной в эту минуту. Знайте же, что ракеты были расположены в
шесть рядов по шести ракет в каждом ряду и укрепленьи крючками,
сдерживающими каждую полдюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет,
перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий, так что
воспламеняющаяся селитра удаляла опасность в то самое время, как усиливала
огонь. Материал, наконец, был весь поглощен пламенем, горючий состав иссяк,
и когда я стал уже думать только о том, как сложить голову на вершине
какой-нибудь горы, я почувствовал, что хотя сам я совсем не двигаюсь,
однако, я продолжаю подниматься, а что машина моя со мной расстается, падает
на землю.
Это невероятное происшествие исполнило мое сердце такой необьтчайной
радостью, и я был так счастлив, что избежал верной гибели, что я имел
наглость начать по этому поводу философствовать. Итак, в то время как я
искал глазами и обдумывал головой, что же могло быть причиной всего этого, я
увидел свое опухшее тело, еще жирное от того бычачьего мозга, которым я
натер себя, чтобы залечить раны, полученные при падении; я понял тогда, что
Луна на ущербе (а в этой четверти она имеет обыкновение высасывать мозг из
костей животных), что она пьет тот мозг, которым я натерся и с тем большей
силой, чем больше я к ней приближаюсь, причем положение облаков, отделяющих
меня от нее, нисколько не ослабляло этой силы.
Когда, по расчету, сделанному мною много времени спустя, я пролетел три
четверти расстояния, отделяющего Землю от Луны, я почувствовал, что падаю
ногами кверху, хотя я ни разу не кувыркнулся; я бы даже не заметил такого
своего положения, если бы почувствовал на голове своей тяжесть своего тела.
Правда, я скоро сообразил, что не падаю на нашу Землю, ибо, хотя и находился
между двумя лунами, я ясно понимал, что удаляюсь от одной по мере
приближения к другой; я был уверен, что самая большая из этих лун - земной
шар, ибо после дня или двух такого путешествия она стала представляться мне
лишь большой золотой бляхой, как и другая луна, вследствие того, что
отдаленное отражение солнечных лучей совершенно сгладило все различие поясов
Земли и контуров тел. Ввиду этого я предположил, что спускаюсь к Луне, и
утвердился в этом предположении, когда вспомнил, что начал падать собственно
только после того, как пролетел три четверти пути. Ведь эта масса, говорил я
сам себе, меньше чем масса нашей Земли, поэтому сфера ее воздействия тоже
должна охватывать меньшее пространство, вследствие чего я позднее
почувствовал на себе силу ее притяжения.
Я, очевидно, очень долго падал, о чем могу только догадываться, так как
быстрота падения мешала мне что-либо замечать, и самое первое, что я могу
вспомнить, это то, что я очутился под деревом, запутавшись в трех или
четырех толстых ветках, которые треснули под ударом моего падения, и что
лицо мое было мокро от расплющенного на нем яблока.
К счастью, это место было, как вы вскоре узнаете, земным раем, а
дерево, на которое я упал, оказалось древом жизни*. Итак, вы понимаете, что,
не будь этого счастливого случая, я бы был тысячу раз убит. Часто
впоследствии я думал о распространенном в народе представлении, будто,
бросаясь с очень высокого места, человек умирает от удушения прежде, чем
коснется земли; из случившегося со мной происшествия я заключил, что это
ложь, или же, что живительный сок плода, который потек мне в рот, вернул в
тело мою душу, так как она еще не была далеко от него, и оно не успело еще
остыть и отвыкнуть от своих жизненных функций. Действительно, как только я
очутился на земле, всякая боль у меня прошла даже раньше того, чем она
исчезла из моей памяти, а о голоде, от которого я раньше сильно страдал, я
вспомнил только потому, что перестал ощущать его. Когда я поднялся, я едва
успел рассмотреть самую широкую из четырех больших рек, которые, сливаясь,
образовывали озеро, как мое обоняние исполнилось самым сладостным ароматом
от разлитого по этой местности благоухания незримой души трав. Я узнал
также, что подорожный камень здесь неровен и тверд лишь на вид и становится
мягким под шагами.
Прежде всего я увидел перекресток, где скрещивалось пять великолепных
аллей, обсаженных деревьями, которые по своей необычайной высоте, казалось,
поднимались до самого неба в виде высокоствольного леса. Оглядьивая их от
корня до самых верхушек и еще раз спускаясь взором от верхушек до подножия,
я усомнился в том, несет ли их земля или сами они несут землю, прицепившуюся
к их корням; их гордые вершины, казалось, тоже гнулись под тяжестью небесных
сводов, бремя которых они несли лишь с тяжелыми стонами. Их ветви,
распростертые к небесам, казалось, обнимали их, моля светила небесные
осенить их благосклонным и очищающим своим воздействием, и о том, чтобы
воспринять его еще чистым и не утратившим своей девственности от смешения с
земными элементами. Здесь со всех сторон цветы, единственный садовник
которых - природа, издают сладостный, хотя и дикий аромат, который
возбуждает и радует обоняние. Тут алый цветок шиповника, лазоревая фиалка,
растущая под терновником, не оставляют свободы для выбора, и одна вам
кажется прекраснее другой; здесь весна не сменяется другими временами года,
здесь не вырастает ядовитое растение, а если оно и появляется, то сейчас же
погибает; здесь ручьи веселым журчанием рассказывают камням о своих
путешествиях; здесь тысячи пернатых певцов наполняют лес звуком своих
мелодичных песен; сборище этих трепещущих божественных музыкантов так
велико, что кажется, будто каждый лист этого леса превратился в соловья. Эхо
так восхищается их мелодиями, что, слушая, как оно их повторяет, кажется,
будто оно само хочет их выучить. Рядом с этим лесом видны две поляны, их
сплошная веселая зелень кажется изумрудом, которому нет конца. Весна,
рассыпая разнообразные краски по сотням мелких цветочков, смешивает их с вос
хитительной небрежностью и оттенки их перебрасывает с одного цветка на
другой; и не знаешь, друг от друга ли бегут эти цветьг, волнуемые летним
зефиром, или же они убегают от него, чтобы спастись от шаловливых его ласк.
Этот луг можно было бы даже принять за океан, ибо он безбрежен, как море, и
мой взор, испуганный тем, что забежал так далеко и не увидел края, поспешил
послать туда мою мысль; мысль же моя, сомневаясь в том, что это конец мира,
хотела убедить себя, что красота этих мест, быть может, заставила небо
соединиться с землей. Среди этого великолепного и обширного цветочного ковра
серебряной струей пробивается ключ; трава, окаймляющая его, пестрит
кувшинками, лютиками, фиалками и сотней других мелких цветов; они теснятся к
воде, будто каждый из них спешит полюбоваться на свое отражение. Но ручей
еще в колыбели; он только что родился, и на его юном и гладком лице нет ни
одной морщинки. Большие изгибы, которые он делает, по тысячу раз возвращаясь
к месту своего рождения, показывают, что он очень неохотно покидает свою
родину, и, как бы устыдившись того, что его ласкают в присутствии матери, он
журча отталкивает мою руку, которая хочет к нему прикоснуться. Животные,
подходившие к ручью, чтобы утолить свою жажду, более разумные, чем животные
нашей Земли, выражали свое удивление тому, что с неба льется свет, между тем
как они видят солнце в ручье; они не решаются склониться к краю воды из
опасения упасть на небо.
Я должен вам признаться, что при виде стольких красот я ощутил то
приятное и болезненное чувство, которое, говорят, испытывает эмбрион в ту
минуту, когда вливается в него душа. Старые волосы упали с меня и уступили
место другим, более густым и более мягким. Я почувствовал, как загорелась во
мне молодая кровь, мое лицо покрылось румянцем, моя естественная теплота
незаметно и гармонически проникла все мое существо, одним словом, я оказался
помолодевшим на четырнадцать лет.
Я прошел приблизительно с полмили в лесу жасминов и мирт, когда
заметил, что в тени что-то зашевелилось. Это был юноша, величественная
красота которого заставила меня с благоговением пасть перед ним на колени.
Он встал, чтобы помешать этому. "Не мне,- сказал он,- а богу ты должен
поклоняться". "Вы видите человека,- сказал я,- потрясенного этими чудесами
настолько, что он не знает, чем он должен прежде всего восхищаться, ибо,
прибыв сюда из мира, который вы здесь, без сомнения, считаете Луной, я
предполагал, что попал в тот мир, который мои соотечественники с своей
стороны точно так же называют Луной; а между тем я очутился в раю, у ног
божества, которое не хочет, чтобы ему поклонялись". "Вы совершенно правы, за
исключением того звания бога, которое вы мне приписываете,- отвечал он,-
между тем я только его тварь, но эта земля действительно есть Луна, которую
вы видите с земного шара, а место, где вы сейчас находитесь, это земной рай,
куда никто никогда не проникал за исключением шести человек: Адама, Евы,
Эноха*, меня - я старый Илия*,- евангелиста Иоанна* и вас. Вам хорошо
известно, как двое первых были отсюда изгнаны, но вы не знаете, как они
попали в ваш мир. Так знайте же, что после того как они оба вкусили
запретного плода, Адам, боясь, что бог, гневаясь на его присутствие, усилит
его наказание, стал думать о том, что Луна, т. е. ваша Земля,- единственное
убежище, где он может укрыться от преследований своего творца. В то время
воображение человека, еще не развращенное ни распутством, ни грубой пищей,
ни болезнями, было так сильно, что страстного, возгоревшегося в Адаме
желания скрыться в этом убежище было достаточно для того, чтобы он был туда
вознесен, тем более, что тело его, охваченное пламенем энтузиазма, сделалось
совершенно легким; ведь мы имеем примеры того, как некоторые философы,
воображение которых было напряженно направлено на одну мысль, были восхищены
на небо в том состоянии, которое вы называете экстазом. Ева, которая по
немощи, свойственной ее полу, была слабой и менее пламенной, вероятно, не
имела бы достаточно силы воображения, чтобы напряжением воли побороть
тяжесть материи. Но так как прошло очень мало времени с тех пор, как она
вышла из ребра своего мужа, симпатия, которая еще связывала эту часть с ее
целым, увлекала и ее за ним, по мере того как он поднимался, точно так же,
как за янтарем тянется соломинка, как магнитная стрелка поворачивается к
северу, откуда она была оторвана. Так и Адам притянул к себе эту часть
самого себя подобно тому, как море притягивает к себе реки, которые из него
же вышли. Прибыв на вашу землю, они поселились в местности между
Месопотамией и Аравией. Евреи знали его под именем Адама, язычники - под
именем Прометея. О Прометее поэты создали басню, будто он похитил огонь с
неба, они при этом имели в виду его потомков, которых он наделил душой столь
же совершенной, какой была его собственная душа, данная ему богом. Итак,
ради того чтобы обитать в вашей земле, первый человек оставил эту землю
безлюдной. Но премудрый не захотел, чтобы такая прекрасная местность
оставалась необитаемой: несколько веков спустя он допустил, чтобы Энох,
наскучив обществом людей, которые стали развращаться, захотел их покинуть.
Однако одно только убежище, казалось этому святому человеку, могло спасти
его от честолюбия его родичей, перерезывавших друг другу горло ради того,
чтобы разделить между собою вашу землю - это убежище и была та благодатная
страна, о которой ему так много рассказывал его предок, Адам. Однако как
туда подняться? Лестница Иакова* в то время еще не была изобретена. Но
благодать всевышнего осенила его, и он обратил внимание на то, как небесный
огонь нисходит на жертвоприношения праведных и тех, кто угоден господу,
согласно слов из его уст: благоухание жертвы праведника дошло до меня.
Однажды, когда это божественное пламя с ожесточением пожирало жертву,
приносимую предвечному, он наполнил поднимавшимся от огня дымом два больших
сосуда, которые герметически закупорил, замазал и привязал себе под мышки.
Тогда пар, устремляясь кверху, но не имея возможности проникнуть сквозь
металл, стал поднимать сосуды вверх и вместе с ними поднял этого святого
человека. Когда он таким образом долетел до Луны и окинул взором этот чудный
сад, наплыв радости, почти сверхъестественный, подсказал ему, что это то
самое место, где когда-то жил его праотец. Он быстро отвязал сосуды,
привязанные к его плечам наподобие крыльев, и сделал это так удачно, что как
только он приблизился к Луне на расстояние четырех сажень, он расстался со
своими поплавками. Расстояние это, однако, было еще настолько велико, что
при падении он мог бы сильно пострадать, но его спасла его широкая одежда, в
которую врывался ветер, раздувая ее, а также сила его пламенной любви. Что
касается его сосудов, то они поднимались все выше и выше, пока бог не
вправил их в небо. И теперь они все еще там и составляют то, что называется
созвездием Весов; каждый день мы ощущаем наполняющее их до сих пор
благоухание от жертвы, принесенной праведником, и испытываем то
благоприятное воздействие, которое они оказали на гороскоп Людовика
Справедливого*, родившегося под знаком их.
Я не ошибся, и скоро я упал на землю; судя по тому времени, когда я
начал свое путешествие, должен был наступить полдень. Между тем я увидел,
что Солнце стоит в своем зените и что там, где я нахожусь, полдень. Вы
можете себе представить мое изумление! Оно действительно было таково, что,
не зная, чему приписать такое чудо, я возымел дерзкую мысль, что я в честь
моей отваги вновь пригвоздил Солнце к небесам, дабы оно могло освещать столь
благородное предприятие. Мое изумление, однако, достигло еще большей
степени, когда я оглянулся вокруг себя и не узнал местности, в которой
находился. Мне казалось, что, поднявшись вверх по совершенно прямой линии, я
должен был спуститься на то самое место, откуда я начал свое путешествие.
Все в том же странном уборе я направился к какой-то хижине, заметив
поднимавшийся из нее дым; я едва дошел до нее на расстояние пистолетного
выстрела, как увидел себя окруженным множеством совершенно голых людей. Мне
показалось, что вид мой чрезвычайно их удивил, ибо я был первый человек,
одетый бутылками, которого им когда-либо приходилось видеть; они заметили,
кроме того, что когда я двигаюсь, я почти не касаюсь земли, и это
противоречило всему тому, чем они могли бы объяснить мой наряд: ведь они не
знали, что при малейшем движении, которое я сообщал своему телу, зной
полдневных солнечных лучей поднимал меня и всю росу вокруг меня и что если
бы моих склянок было достаточно, как в начале моего путешествия, я мог бы на
их глазах быть вознесен на воздух. Я хотел к ним подойти и заговорить с
ними, но страх, казалось, обратил их в птиц; в одно мгновение они
разлетелись по соседнему лесу. Мне, однако, удалось поймать одного из них,
ноги которого, по-видимому, изменили его сердцу. Я спросил его, произнося
слова с большим трудом (ибо задыхался), каково расстояние отсюда до Парижа,
с каких пор народ ходил голым во Франции и почему они с таким ужасом бежали
от меня. Человек, с которым я говорил, был старик с оливковым цветом лица,
он сперва бросился на колени и, подняв руки кверху над головой, открыл рот и
закрыл глаза. Он долго что-то бормотал сквозь зубы, но я не мог разобрать ни
одного членораздельного звука и принял его речь за хриплое щебетание немого.
Некоторое время спустя я заметил приближение отряда солдат, которые шли
с барабанным боем; двое из них отделились и подошли ко мне для
рекогносцировки. Когда они были достаточно близки, чтобы расслышать мои
слова, я просил их сказать мне, где я нахожусь. "Вы во Франции,- отвечали
они,- но какой черт привел вас в такой вид и почему же мы вас не знаем?
Разве корабли прибыли? Собираетесь ли вы сообщить об этом господину
губернатору? И почему вы разлили вашу водку в такое множество бутылок?" На
все это я возразил, что в такой вид привел меня не черт, что не знают они
меня потому, что им не могут быть известны все; что я не знал, что по Сене
ходят корабли в Париж; что мне нечего сообщать господину де Монбазону*, что
я нагружен не водкой. Ого,- сказали они и взяли меня под руки,- вы еще
хорохоритесь? Господин губернатор-то вас узнает". Они повели меня туда, где
стояла их часть, и здесь я узнал, что я действительно во Франции, но не в
Европе, ибо это была Новая Франция*. Некоторое время спустя я был
представлен вице-королю господину Монманьи*; он спросил меня, из какой я
страны, каково мое имя и мое звание; я ответил на все его вопросы и
рассказал о приятном и успешном исходе моего путешествия; поверил ли он мне
или сделал только вид, что поверил, я не знаю; как бы то ни было, он был так
любезен, что приказал отвести мне комнату в своем собственном доме. Для меня
было большим счастьем встретить человека, способного к возвышенным мыслям,
который притом не выразил никакого удивления, когда я ему сказал, что Земля,
очевидно, вращалась, пока я поднимался, ибо, начав свое воздушное
путешествие в двух милях от Парижа, я упал по линии, почти перпендикулярной
в Канаде. Вечером, когда я уже собрался ложиться спать, он вошел в мою
комнату и сказал: "Я бы не стал нарушать вашего покоя, если бы я не думал,
что человек, обладающий такой тайной силой совершить столь длинный путь в
полдня, должен также обладать способностью не уставать. Но вы не знаете, -
прибавил он,- какой забавный спор у меня только что был по вашему поводу с
нашими отцами иезуитами. Они настаивают на том, что вы колдун, и самое
большое снисхождение, на которое вы можете рассчитывать с их стороны, это
то, чтобы сойти за обманщика. Действительно, то движение, которое вы
приписываете Земле, разве это не удачный парадокс? Что касается меня, скажу
вам откровенно, почему я не разделяю ваших взглядов. Ведь выехав из Парижа
вчера, вы могли бы прибыть сюда сегодня, хо тя бы Земля и не вращалась; не
должно ли было привести вас сюда Солнце, поднявшее вас при помощи ваших
бутылок, так как, согласно Птоломею, Тихо Браге* и современным философам,
оно движется наискось от того пути, которое вы приписываете Земле. А затем,
почему вы считаете правдоподобным представление, что Солнце неподвижно,
когда мы видим, как оно движется? И почему вы предполагаеТе что Земля
вращается с такой быстротой, когда мы чувствуем, как она неподвижна под наши
ми ногами?" "Государь мой,- возражал я,- вот приблизительно те доводы, на
основании которых мы догадываемся обо всем том. Во-первых, самый здравый
смысл говорит за то, что Солнце помещается в центре вселенной, ибо все тела,
существующие в природе, нуждаются в его животворном огне, что оно обитает в
самом центре подвластного ему государства, чтобы немедленно удовлетворять
всем его потребностям, и что первопричина жизни находится в центре всех тел,
чтобы действие ее могло распространяться на них легко и равномерно. Точно
так же мудрая природа поместила детородные органы человека в середине его
тела, зернышко в сердцевине яблока, косточки в середине плода, точно так же
луковица сохраняет под защитой сотни окружающих ее кожиц драгоценный росток,
из которого миллионы новых луковиц почерпнут свое существование. Ибо это
яблоко само в себе маленькал вселенная, а зернышко, содержащее в себе больше
тепла, чем остальные его части, и есть солнце, распространяющее вокруг себя
тепло, хранителя целого яблока; росток с этой точки зрения тоже маленькое
солнце этого мирка, согревающее и питающее растительную соль этого
маленького тела. Исходя из этого предположения, я говорю, что Земля,
нуждаясь в свете, в тепле и в воздействии этого великого источника огня,
вращается вокруг него, чтобы получить от него силу, сохраняющую ее жизнь и
необходимую ей равномерно для всех ее частей. Было бы одинаково смешно
думать*, что это великое светило станет вращаться вокруг точки, до которой
ему нет никакого дела, как было бы смешно предположить при виде жареного
жаворонка, что вокруг него вертелась печь. Иначе, если бы Солнцу приходилось
выполнять эту работу, надо было бы думать (пришлось бы сказать), что
медицина нуждается в больном, что сильный должен подчиняться слабому,
знатный - служить простолюдину и что не корабль плывет вдоль берегов, а
берега движутся вокруг корабля. Если вам непонятно, каким образом может
вращаться такая тяжелая масса, скажите мне, пожалуйста, разве менее тяжелы
светила и небесный свод, который вы считаете таким плотным? Еще скорее можем
мы, убежденные в том, что Земля есть шар, заключить о ее движении на
основании ее формы. Но по чему вы предполагаете что небо также имеет форму
шара, когда знать вы этого не можете и когда ясно, что если оно не обладает
именно этой формой, оно не может вращаться. Я нисколько не укоряю вас за
ваши эксентрики, концентрики и ваши эпициклы, но относительно них вы будете
в состоянии дать мне лишь самые смутные объяснения, я же исключаю их из
своей системы. Будем говорить только об естественных причинах этого
движения. Ведь вам, картезианцам*, приходится прибегать к предпо ложению о
разумных существах, движущих ваши сферы и управляющих ими. Но я, не нарушая
покоя верховного существа, который, без сомнения, создал природу совершенной
и по мудрости своей завершил ее создание так, что, сделав ее совершенной для
одной цели, он не мог ее оставить несовершенной для другой, я, повторяю,
нахожу в самой Земле те силы, которые заставляют ее вращаться! Потому я
говорю, что солнечные лучи и исходящее из них действие, ударяя по Земле,
заставляют ее вращаться, как мы заставляем вращаться шар, ударяя его рукой;
точно так же испарения, постоянно поднимающиеся из недр Земли с той ее
стороны, на которую светит солнце, задержанные холодным воздухом среднего
пояса и отраженные от него, падают на нее обратно и, имея возможность
ударить ее только вкось, по необходимости заставляют ее вращаться вокруг
самой себя. Объяснение остальных двух движений еще менее сложно. Вдумайтесь,
пожалуйста..." На этих словах вице-король меня остановил: "Я предпочитаю,-
сказал он,- освободить вас от этого труда; я, кстати, читал об этом предмете
несколько книг Гассенди*, зато вы должны выслушать, что мне ответил однажды
один из наших отцов, поддерживающий вашу точку зрения: "Действительно,
говорил он, я представляю себе, что Земля может вращаться, однако не по тем
причинам, которые приводит Коперник, а потому что огонь ада заключен в
центре Земли, как нас учит об этом священное писание, и души осужденных на
вечные мучения, спасаясь от страшного пламени, карабкаются вверх, удаляясь
от него в направлении против земного свода, и таким образом заставляют Землю
вращаться, подобно тому как собака, когда бежит, заставляет вращаться
колесо, на нее надетое".
Мы стали расхваливать рвение почетного священника, а, окончив свой
панегирик, господин де Монманьи сказал, что его очень удивляет, почему же
система Птоломея, столь мало правдоподобная, была так распространена.
"Большинство людей,- отвечал я,- которые судят только на основании своих
чувств, поверили свидетельству своих глаз, и, подобно тому, как тот, кто,
сидя на корабле, плывущем вдоль берега, думает, что он сам неподвижен, а
двигается берег, точно так же и люди, вращаясь вместе с Землей вокруг неба,
думали, что само небо вращается вокруг них. Присовокупите к этому еще всю
невыносимую гордость человека, который убежден, что природа создана лишь для
него, как будто есть сколько-нибудь вероятия в том, что Солнце, огромное
тело, в четыреста тридцать четыре раза больше Земли*, было зажжено для того,
чтобы созревал его кизил и кочанилась капуста. Что касается до меня, то я
далек от того, чтобы сочувствовать дерзким мыслям, и думаю, что планеты -
это миры, окружающие Солнце, а неподвижные звезды - точно такие же солнца,
как наше, что они также окружены своими планетами, т. е. маленькими мирами,
которых мы отсюда не видим ввиду их малой величины и потому что их
отраженный свет до нас не доходит. Ибо как же по совести представить себе,
что все эти огромные шаровидные тела - пустыни и что только наша планета,
потому что мы по ней ползаем, была сотворена для дюжины высокомерных плутов.
Неужели же, если мы по Солнцу исчисляем дни и года, это значит, что Солнце
было сотворено для того, чтобы мы в темноте не стукались лбами об стену.
Нет, нет! Если этот видимый бог и светит человеку, то только случайно, как
факел короля случайно светит проходящему по улице вору".
"Но,- возразил он,- если, как вы утверждаете, неподвижные звезды - это
те же солнца, и сколько на небе неподвижных звезд, столько и солнц, из этого
можно вывести заключение, что мир бесконечен, ибо с достаточной вероятностью
можно предположить, что обитатели миров, окружающих неподвижную звезду,
которую вы принимаете за солнце, откроют над собой другие неподвижные
звезды, недоступные отсюда нашему взору,- и так до бесконечности".
"В этом нет никакого сомнения,- отвечал я,- подобно тому, как бог
создал бессмертную душу, он мог создать и бесконечный мир, если правда, что
вечность не что иное, как беспредельное время, а бесконечность -
безграничное пространство. Кроме того, если предположить, что мир не
бесконечен, нужно предположить, что и бог конечен, ибо он не может быть там,
где ничего нет, и не может увеличить обширность мира, не прибавив и к
собственной пространственности, начиная быть там, где его до сих пор не
было. Поэтому нужно думать, что подобно тому, как мы отсюда видим Юпитер и
Сатурн, точно так же, как находясь на той или другой планете, мы открыли бы
множество миров, которых отсюда не видим, и что именно так и построена
вселенная до бесконечиости"
"По чести,-возразил он,-что бы вы ни говорили, я совершенно не способен
понять, что такое бесконечность" "А скажите мне,- отвечал я,- понимаете ли
вы, что представляет из себя ничто, находящееся за пределами этого мира?
Вовсе не понимаете, ибо когда вы думаете об этом, то это ничто все-таки
представляете себе по меньшей мере в виде ветра или воздуха, а это уже есть
нечто. Но если вы не можете обнять бесконечность в целом, вы можете
представить ее себе по частям, ибо не трудно вообразить себе землю, огонь,
воду, воздух, звезды, небеса; бесконечкость же - это не что иное, как
беспредельная ткань всего этого. Если вы меня спросите, каким образом были
сотвореньт все эти миры, ибо священное писание говорит только об одном мире,
созданном богом, я вам отвечу, что оно говорит только о нашем мире, потому
что это единственный из миров, который бог взял на себя труд сотворить
собственной рукой, все же остальные миры, развешенные по лазури вселенной,
как те, которые мы видим, так и те, которых не видим,- это только пена,
выбрасываемая светилами, которые себя очищают. Действительно, как бы могли
существовать эти огромные источники огня, если бы они каким-то образом не
были связаны с той материей, которая их питает. И точно так же, как огонь
гонит далеко от себя золу, которая бы его заглушила; как золото,
расплавленное в горниле, отделяется, очищаясь от колчедана, уменьшающего его
вес; как сердце освобождается при помощи рвоты от несваримых материй,
давящих его, - так и Солнце каждый день выбрасывает из себя остатки материи,
питающей его пламя, и очищается от нее. Но когда вся эта материя, которая
его подлерживает, сгорит до конца, не сомневайтесь, что оно разольется во
все стороны, будет искать новой пищи и бросится на все миры, им же некогда
созданные, особенно на те, которые к нему всего ближе, и тогда этот великий
огонь смешает и расплавит все эти тела, а затем разгонит их во все стороны,
как и раньше; постепенно очистившись, он таким образом опять будет служить
солнцем этим маленьким мирам, которые он породил, вытаскивая их вон из своей
сферы. Вероятно, это и вызвало предсказание пифагорейцев о всемирном пожаре,
что вовсе не есть забавная выдумка, и Новая Франция, в которой мы находимся,
доставляет нам весьма убедительное тому доказательство. Ведь Америка, этот
обширный материк, представляет из себя половину всей суши, однако он долго
не был открыт нашими путешественниками, хотя они тысячу раз переплывали
через океан, и неудивительно, ибо его еще не существовало, точно так же, как
не существовало многих островов, полуостровов и гор, которые появились на
нашем земном шаре, когда Солнце, очищая себя от ржавчины*, отбросило ее
далеко от себя; сгустившись в тяжелые, плотные клубки, она была притянута к
центру нашего мира, может быть, постепенно мелкими частями, а может быть,
сразу целой массой. Эта мысль вовсе не так безрассудна, и святой Августин*,
наверное, одобрил бы ее, если бы открытие Америки произошло при нем, ибо
этот великий человек, ум которого был просвещен святым духом, утверждает,
что в его время Земля была плоская, как кухонная плита, и что она плавала
над водой, как апельсин, разрезанный пополам. Но если я когда-либо буду
иметь честь видеть вас во Франции и доставлю вам возможность наблюдать небо
через превосходную трубу, вы увидите, что некоторые темные места, которые
отсюда кажутся пятнами,- это целые миры, еще строящиеся".
Мои глаза совершенно смыкались, когда я кончал эту речь, и это
заставило господина де Монманьи со мной проститься. Как на другой день, так
и в следующие мы продолжали вести разговоры на ту же тему, но вскоре
затруднения, осложнившие управление провинцией, отразились и на наших
философских беседах, и я все более и более стал задумываться над тем, как бы
мне подняться на Луну. Как только она всходила, я отправлялся в лес и там
принимался мечтать о своем предприятии и о том, как бы довести его до
благополучного конца; наконец вечером, накануне Иванова дня, в то самое
время, когда в форте шел совет и разрешался вопрос о том, следует ли оказать
помощь дикарям против ирокезов*, я ушел один на склон небольшой горы,
поднимавшейся за нашим домом, и вот как я осуществил свое намерение. Уже
раньше я соорудил машину, которая, как я рассчитывал, могла поднять меня на
какую угодно высоту; думая, что в ней уже есть все необходимое, я в нее
уселся и сверху скалы пустился на воздух. Однако я, очевидно, не принял всех
нужных мер предосторожности, так как я тяжело свалил ся в долину. Хотя я и
был очень помят от падения, однако я не потерял мужества, вернулся в свою
комнату, достал мозг из бычачьих костей, натер им все тело, ибо я был разбит
от головы до ног. Подкрепив свое сердце бутылкой целебной настойки, я
отправился на поиски своей машины, но не нашел ее, так как кучка солдат,
которых послали в лес нарезать сучьев для праздничных костров, случайно
набрела на нее и принесла ее в форт. Долго рассуждали они о том, что бы это
могло быть, наконец напали на изобретенную мною пружину; тогда стали
говорить, что нужно привязать к машине как можно больше летучих ракет:
благодаря быстроте своего полета они унесут ее очень высоко; одновременно с
этим под действием пружины начнут махать большие крылья машины, и не
найдется ни одного человека, кто бы не принял ее за огненного дракона.
Долго я не мог найти ее, наконец разыскал посереди площади Квебека, в
ту минуту, когда собирались ее зажечь. Увидя, что дело моих рук в опасности,
я пришел в такое отчаяние, что побежал и схватил за руку солдата в ту
минуту, когда он подносил к ней зажженный фитиль; я вырвал фитиль из его рук
и бросился к своей машине, чтобы уничтожить горючий состав, который ее
окружал; но было уже поздно, и едва я вступил на нее ногами, как вдруг я
почувствовал, что поднимаюсь на облака. Ужас, овладевший мной, однако, не
настолько отразился на моих душевных способностях, чтобы я забыл все то, что
случилось со мной в эту минуту. Знайте же, что ракеты были расположены в
шесть рядов по шести ракет в каждом ряду и укрепленьи крючками,
сдерживающими каждую полдюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет,
перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий, так что
воспламеняющаяся селитра удаляла опасность в то самое время, как усиливала
огонь. Материал, наконец, был весь поглощен пламенем, горючий состав иссяк,
и когда я стал уже думать только о том, как сложить голову на вершине
какой-нибудь горы, я почувствовал, что хотя сам я совсем не двигаюсь,
однако, я продолжаю подниматься, а что машина моя со мной расстается, падает
на землю.
Это невероятное происшествие исполнило мое сердце такой необьтчайной
радостью, и я был так счастлив, что избежал верной гибели, что я имел
наглость начать по этому поводу философствовать. Итак, в то время как я
искал глазами и обдумывал головой, что же могло быть причиной всего этого, я
увидел свое опухшее тело, еще жирное от того бычачьего мозга, которым я
натер себя, чтобы залечить раны, полученные при падении; я понял тогда, что
Луна на ущербе (а в этой четверти она имеет обыкновение высасывать мозг из
костей животных), что она пьет тот мозг, которым я натерся и с тем большей
силой, чем больше я к ней приближаюсь, причем положение облаков, отделяющих
меня от нее, нисколько не ослабляло этой силы.
Когда, по расчету, сделанному мною много времени спустя, я пролетел три
четверти расстояния, отделяющего Землю от Луны, я почувствовал, что падаю
ногами кверху, хотя я ни разу не кувыркнулся; я бы даже не заметил такого
своего положения, если бы почувствовал на голове своей тяжесть своего тела.
Правда, я скоро сообразил, что не падаю на нашу Землю, ибо, хотя и находился
между двумя лунами, я ясно понимал, что удаляюсь от одной по мере
приближения к другой; я был уверен, что самая большая из этих лун - земной
шар, ибо после дня или двух такого путешествия она стала представляться мне
лишь большой золотой бляхой, как и другая луна, вследствие того, что
отдаленное отражение солнечных лучей совершенно сгладило все различие поясов
Земли и контуров тел. Ввиду этого я предположил, что спускаюсь к Луне, и
утвердился в этом предположении, когда вспомнил, что начал падать собственно
только после того, как пролетел три четверти пути. Ведь эта масса, говорил я
сам себе, меньше чем масса нашей Земли, поэтому сфера ее воздействия тоже
должна охватывать меньшее пространство, вследствие чего я позднее
почувствовал на себе силу ее притяжения.
Я, очевидно, очень долго падал, о чем могу только догадываться, так как
быстрота падения мешала мне что-либо замечать, и самое первое, что я могу
вспомнить, это то, что я очутился под деревом, запутавшись в трех или
четырех толстых ветках, которые треснули под ударом моего падения, и что
лицо мое было мокро от расплющенного на нем яблока.
К счастью, это место было, как вы вскоре узнаете, земным раем, а
дерево, на которое я упал, оказалось древом жизни*. Итак, вы понимаете, что,
не будь этого счастливого случая, я бы был тысячу раз убит. Часто
впоследствии я думал о распространенном в народе представлении, будто,
бросаясь с очень высокого места, человек умирает от удушения прежде, чем
коснется земли; из случившегося со мной происшествия я заключил, что это
ложь, или же, что живительный сок плода, который потек мне в рот, вернул в
тело мою душу, так как она еще не была далеко от него, и оно не успело еще
остыть и отвыкнуть от своих жизненных функций. Действительно, как только я
очутился на земле, всякая боль у меня прошла даже раньше того, чем она
исчезла из моей памяти, а о голоде, от которого я раньше сильно страдал, я
вспомнил только потому, что перестал ощущать его. Когда я поднялся, я едва
успел рассмотреть самую широкую из четырех больших рек, которые, сливаясь,
образовывали озеро, как мое обоняние исполнилось самым сладостным ароматом
от разлитого по этой местности благоухания незримой души трав. Я узнал
также, что подорожный камень здесь неровен и тверд лишь на вид и становится
мягким под шагами.
Прежде всего я увидел перекресток, где скрещивалось пять великолепных
аллей, обсаженных деревьями, которые по своей необычайной высоте, казалось,
поднимались до самого неба в виде высокоствольного леса. Оглядьивая их от
корня до самых верхушек и еще раз спускаясь взором от верхушек до подножия,
я усомнился в том, несет ли их земля или сами они несут землю, прицепившуюся
к их корням; их гордые вершины, казалось, тоже гнулись под тяжестью небесных
сводов, бремя которых они несли лишь с тяжелыми стонами. Их ветви,
распростертые к небесам, казалось, обнимали их, моля светила небесные
осенить их благосклонным и очищающим своим воздействием, и о том, чтобы
воспринять его еще чистым и не утратившим своей девственности от смешения с
земными элементами. Здесь со всех сторон цветы, единственный садовник
которых - природа, издают сладостный, хотя и дикий аромат, который
возбуждает и радует обоняние. Тут алый цветок шиповника, лазоревая фиалка,
растущая под терновником, не оставляют свободы для выбора, и одна вам
кажется прекраснее другой; здесь весна не сменяется другими временами года,
здесь не вырастает ядовитое растение, а если оно и появляется, то сейчас же
погибает; здесь ручьи веселым журчанием рассказывают камням о своих
путешествиях; здесь тысячи пернатых певцов наполняют лес звуком своих
мелодичных песен; сборище этих трепещущих божественных музыкантов так
велико, что кажется, будто каждый лист этого леса превратился в соловья. Эхо
так восхищается их мелодиями, что, слушая, как оно их повторяет, кажется,
будто оно само хочет их выучить. Рядом с этим лесом видны две поляны, их
сплошная веселая зелень кажется изумрудом, которому нет конца. Весна,
рассыпая разнообразные краски по сотням мелких цветочков, смешивает их с вос
хитительной небрежностью и оттенки их перебрасывает с одного цветка на
другой; и не знаешь, друг от друга ли бегут эти цветьг, волнуемые летним
зефиром, или же они убегают от него, чтобы спастись от шаловливых его ласк.
Этот луг можно было бы даже принять за океан, ибо он безбрежен, как море, и
мой взор, испуганный тем, что забежал так далеко и не увидел края, поспешил
послать туда мою мысль; мысль же моя, сомневаясь в том, что это конец мира,
хотела убедить себя, что красота этих мест, быть может, заставила небо
соединиться с землей. Среди этого великолепного и обширного цветочного ковра
серебряной струей пробивается ключ; трава, окаймляющая его, пестрит
кувшинками, лютиками, фиалками и сотней других мелких цветов; они теснятся к
воде, будто каждый из них спешит полюбоваться на свое отражение. Но ручей
еще в колыбели; он только что родился, и на его юном и гладком лице нет ни
одной морщинки. Большие изгибы, которые он делает, по тысячу раз возвращаясь
к месту своего рождения, показывают, что он очень неохотно покидает свою
родину, и, как бы устыдившись того, что его ласкают в присутствии матери, он
журча отталкивает мою руку, которая хочет к нему прикоснуться. Животные,
подходившие к ручью, чтобы утолить свою жажду, более разумные, чем животные
нашей Земли, выражали свое удивление тому, что с неба льется свет, между тем
как они видят солнце в ручье; они не решаются склониться к краю воды из
опасения упасть на небо.
Я должен вам признаться, что при виде стольких красот я ощутил то
приятное и болезненное чувство, которое, говорят, испытывает эмбрион в ту
минуту, когда вливается в него душа. Старые волосы упали с меня и уступили
место другим, более густым и более мягким. Я почувствовал, как загорелась во
мне молодая кровь, мое лицо покрылось румянцем, моя естественная теплота
незаметно и гармонически проникла все мое существо, одним словом, я оказался
помолодевшим на четырнадцать лет.
Я прошел приблизительно с полмили в лесу жасминов и мирт, когда
заметил, что в тени что-то зашевелилось. Это был юноша, величественная
красота которого заставила меня с благоговением пасть перед ним на колени.
Он встал, чтобы помешать этому. "Не мне,- сказал он,- а богу ты должен
поклоняться". "Вы видите человека,- сказал я,- потрясенного этими чудесами
настолько, что он не знает, чем он должен прежде всего восхищаться, ибо,
прибыв сюда из мира, который вы здесь, без сомнения, считаете Луной, я
предполагал, что попал в тот мир, который мои соотечественники с своей
стороны точно так же называют Луной; а между тем я очутился в раю, у ног
божества, которое не хочет, чтобы ему поклонялись". "Вы совершенно правы, за
исключением того звания бога, которое вы мне приписываете,- отвечал он,-
между тем я только его тварь, но эта земля действительно есть Луна, которую
вы видите с земного шара, а место, где вы сейчас находитесь, это земной рай,
куда никто никогда не проникал за исключением шести человек: Адама, Евы,
Эноха*, меня - я старый Илия*,- евангелиста Иоанна* и вас. Вам хорошо
известно, как двое первых были отсюда изгнаны, но вы не знаете, как они
попали в ваш мир. Так знайте же, что после того как они оба вкусили
запретного плода, Адам, боясь, что бог, гневаясь на его присутствие, усилит
его наказание, стал думать о том, что Луна, т. е. ваша Земля,- единственное
убежище, где он может укрыться от преследований своего творца. В то время
воображение человека, еще не развращенное ни распутством, ни грубой пищей,
ни болезнями, было так сильно, что страстного, возгоревшегося в Адаме
желания скрыться в этом убежище было достаточно для того, чтобы он был туда
вознесен, тем более, что тело его, охваченное пламенем энтузиазма, сделалось
совершенно легким; ведь мы имеем примеры того, как некоторые философы,
воображение которых было напряженно направлено на одну мысль, были восхищены
на небо в том состоянии, которое вы называете экстазом. Ева, которая по
немощи, свойственной ее полу, была слабой и менее пламенной, вероятно, не
имела бы достаточно силы воображения, чтобы напряжением воли побороть
тяжесть материи. Но так как прошло очень мало времени с тех пор, как она
вышла из ребра своего мужа, симпатия, которая еще связывала эту часть с ее
целым, увлекала и ее за ним, по мере того как он поднимался, точно так же,
как за янтарем тянется соломинка, как магнитная стрелка поворачивается к
северу, откуда она была оторвана. Так и Адам притянул к себе эту часть
самого себя подобно тому, как море притягивает к себе реки, которые из него
же вышли. Прибыв на вашу землю, они поселились в местности между
Месопотамией и Аравией. Евреи знали его под именем Адама, язычники - под
именем Прометея. О Прометее поэты создали басню, будто он похитил огонь с
неба, они при этом имели в виду его потомков, которых он наделил душой столь
же совершенной, какой была его собственная душа, данная ему богом. Итак,
ради того чтобы обитать в вашей земле, первый человек оставил эту землю
безлюдной. Но премудрый не захотел, чтобы такая прекрасная местность
оставалась необитаемой: несколько веков спустя он допустил, чтобы Энох,
наскучив обществом людей, которые стали развращаться, захотел их покинуть.
Однако одно только убежище, казалось этому святому человеку, могло спасти
его от честолюбия его родичей, перерезывавших друг другу горло ради того,
чтобы разделить между собою вашу землю - это убежище и была та благодатная
страна, о которой ему так много рассказывал его предок, Адам. Однако как
туда подняться? Лестница Иакова* в то время еще не была изобретена. Но
благодать всевышнего осенила его, и он обратил внимание на то, как небесный
огонь нисходит на жертвоприношения праведных и тех, кто угоден господу,
согласно слов из его уст: благоухание жертвы праведника дошло до меня.
Однажды, когда это божественное пламя с ожесточением пожирало жертву,
приносимую предвечному, он наполнил поднимавшимся от огня дымом два больших
сосуда, которые герметически закупорил, замазал и привязал себе под мышки.
Тогда пар, устремляясь кверху, но не имея возможности проникнуть сквозь
металл, стал поднимать сосуды вверх и вместе с ними поднял этого святого
человека. Когда он таким образом долетел до Луны и окинул взором этот чудный
сад, наплыв радости, почти сверхъестественный, подсказал ему, что это то
самое место, где когда-то жил его праотец. Он быстро отвязал сосуды,
привязанные к его плечам наподобие крыльев, и сделал это так удачно, что как
только он приблизился к Луне на расстояние четырех сажень, он расстался со
своими поплавками. Расстояние это, однако, было еще настолько велико, что
при падении он мог бы сильно пострадать, но его спасла его широкая одежда, в
которую врывался ветер, раздувая ее, а также сила его пламенной любви. Что
касается его сосудов, то они поднимались все выше и выше, пока бог не
вправил их в небо. И теперь они все еще там и составляют то, что называется
созвездием Весов; каждый день мы ощущаем наполняющее их до сих пор
благоухание от жертвы, принесенной праведником, и испытываем то
благоприятное воздействие, которое они оказали на гороскоп Людовика
Справедливого*, родившегося под знаком их.
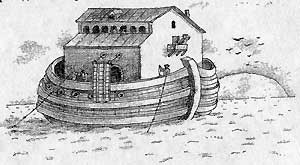 Энох, однако, не сразу попал в этот сад, а только некоторое время
спустя. Это было во время потопа, когда ваша Земля исчезла под водами и сами
воды поднялись на такую страшную высоту, что ковчег плыл в небесах на одном
уровне с Луной. Обитатели ковчега увидели ее через окно, но не узнали ее и
подумали, что это маленький участок земли, почему-то не затопленный водой;
это случилось потому, что солнечный свет, отраженный от этого огромного,
непрозрачного тела, казался им очень слабым ввиду близости ковчега к Луне и
ввиду того, что сам ковчег попал в сферу этого отраженного света. Только
одна из дочерей Ноя, по имени Ахав, с криком и визгом настаивала на том, что
это несомненно Луна. Она, вероятно, заметила, как ковчег приближался к этому
светилу по мере того, как поднимался на водах. Сколько ей ни доказывали,
что, когда бросили якорь, в воде оказалось лишь пятнадцать локтей глубины,
она все стояла на своем и отвечала, что якорь, очевидно, попал на хребет
кита, которого и приняли за Землю, она же с своей стороны совершенно
убеждена, что они пристают именно к самой Луне. Наконец, так как всякий
соглашается с мнением себе подобных, все остальные женщины убедили друг
друга в том же. И вот они, не обращая внимания на запрещение мужчин,
спустили в море лодку. Ахав, как самая смелая из них, захотела первая
испытать опасность. Она весело бросилась в лодку, и к ней присоединились бы
все остальные женщины, если бы поднявшаяся волна не отделила лодки от
ковчега. Сколько ни кричали ей вслед, сколько ни обзывали ее лунатиком,
сколько ни уверяли, что по ее вине всех женщин обвинят в том, что у них в
голове четверть месяца, она только смеялась в ответ на все это. И вот она
поплыла вон из мира. Звери последовали ее примеру и большинство птиц, с
нетерпением переносивших первое заключение, ограничившее их свободу, и
почувствовавших в своих крыльях достаточно силы, чтобы отважиться на это
путешествие, вылетели вон и долетели до суши. Даже некоторые четвероногие
животные, из самых храбрых, бросились вплавь. Их вышло около тысячи, прежде
чем сыновьям Ноя удалось закрыть двери хлевов и стойл, которые открыли
настежь вырывавшиеся оттуда звери. Большинство из них доплыло
Энох, однако, не сразу попал в этот сад, а только некоторое время
спустя. Это было во время потопа, когда ваша Земля исчезла под водами и сами
воды поднялись на такую страшную высоту, что ковчег плыл в небесах на одном
уровне с Луной. Обитатели ковчега увидели ее через окно, но не узнали ее и
подумали, что это маленький участок земли, почему-то не затопленный водой;
это случилось потому, что солнечный свет, отраженный от этого огромного,
непрозрачного тела, казался им очень слабым ввиду близости ковчега к Луне и
ввиду того, что сам ковчег попал в сферу этого отраженного света. Только
одна из дочерей Ноя, по имени Ахав, с криком и визгом настаивала на том, что
это несомненно Луна. Она, вероятно, заметила, как ковчег приближался к этому
светилу по мере того, как поднимался на водах. Сколько ей ни доказывали,
что, когда бросили якорь, в воде оказалось лишь пятнадцать локтей глубины,
она все стояла на своем и отвечала, что якорь, очевидно, попал на хребет
кита, которого и приняли за Землю, она же с своей стороны совершенно
убеждена, что они пристают именно к самой Луне. Наконец, так как всякий
соглашается с мнением себе подобных, все остальные женщины убедили друг
друга в том же. И вот они, не обращая внимания на запрещение мужчин,
спустили в море лодку. Ахав, как самая смелая из них, захотела первая
испытать опасность. Она весело бросилась в лодку, и к ней присоединились бы
все остальные женщины, если бы поднявшаяся волна не отделила лодки от
ковчега. Сколько ни кричали ей вслед, сколько ни обзывали ее лунатиком,
сколько ни уверяли, что по ее вине всех женщин обвинят в том, что у них в
голове четверть месяца, она только смеялась в ответ на все это. И вот она
поплыла вон из мира. Звери последовали ее примеру и большинство птиц, с
нетерпением переносивших первое заключение, ограничившее их свободу, и
почувствовавших в своих крыльях достаточно силы, чтобы отважиться на это
путешествие, вылетели вон и долетели до суши. Даже некоторые четвероногие
животные, из самых храбрых, бросились вплавь. Их вышло около тысячи, прежде
чем сыновьям Ноя удалось закрыть двери хлевов и стойл, которые открыли
настежь вырывавшиеся оттуда звери. Большинство из них доплыло

 Светила полная Луна, небо было ясно и уже пробило девять часов вечера, когда
я и четверо моих друзей возвращались из одного дома в окрестностях Парижа.
Наше остроумие, очевидно, отточилось о камни мостовой, ибо в какую сторону
оно ни обращалось, всюду оно заострялось, и как далека ни была Луна, она не
могла от него спастись.
Наши взорьи утопали в великом светиле; один принимал его за небесное
слуховое окно, сквозь которое просвечивало сияние блаженных, другой,
убежденный в истинности старых басен, воображал, что, быть может, это Вакх*
там вверху содержит таверну и полную Луну повесил как вывеску; третий
утверждал, что это гладильная доска, на которой Диана* разглаживает
воротнички Аполлона, наконец, четвертый - что это, быть может, само Солнце,
что оно совлекло с себя одеяние своих лучей и в халате выглядывает сквозь
отверстие на то, что творится на свете в его отсутствие.
Что касается меня, воскликнул я, то желая присоединить свои восторги к
вашим и не восхищаясь тем острием изнуренного воображения, которым вы
погоняете время, чтобы заставить его двигаться быстрей, я думаю, что Луна -
это такой же мир как и наш и что Земля, в свою очередь, служит ей Луной. Мои
спутники ответили мне на это громким взрывом хохота. Точно так же, быть
может, продолжал я, там, на Луне, смеются теперь над тем, кто утверждает,
что этот земной шар есть мир. Но сколько я ни ссылался на то, что Пифагор,
Эпикур, Демокрит, а в наши дни Коперник и Кеплер, придерживались такого же
мнения, они только громче и громче хохотали.
Однако эта мысль, смелость которой нравилась моему нраву, еще сильнее
укрепилась во мне благодаря противоречию и так губоко в меня запала, что в
продолжении всего остального пути я вынашивал в себе тысячу различных
определений Луны, однако никак не мог разрешиться ими. По мере того как я
подкреплял в себе эту шутливую мысль почти серьезными доводами, я сам чуть
было не поверил в нее.
Но послушай, читатель, какое чудо или какая случайность помогли
провидению или судьбе утвердить меня на этом пути: вернувшись с прогулки, я
вошел в свою комнату, чтобы там отдохнуть, и увидел на столе открытую книгу,
которую я туда не клал. Я увидал, что эта книга моя, и потому спросил у
своего лакея, на каком основании он принес ее из кабинета; я в сущности
спросил его только для формы, ибо это был толстый лотарингец, душа которого
не выполняла никаких иных функций чем те, которые выполняет душа устрицы в
своей раковине. Он мне поклялся, что сюда ее мог доставить только я или
черт, что касается меня, я хорошо знал, что я не прикасался к этой книге уже
более года.
Я снова взглянул на нее: это была книга Кардано*, и хотя я не
намеревался ее читать, однако мои глаза как-то невольно упали на то самое
место, где у этого философа мы находим такой рассказ: он пишет, что,
занимаясь однажды вечером при свете сальной свечи, он увидел входивших
сквозь закрытые двери двух высоких стариков; после многих расспросов с его
стороны старики ему сказали, что они обитатели Луны, и в ту же минуту
исчезли.
Я был так удивлен, как тем, что увидел книгу, которая сама себя
принесла, так и тем, на какой странице она оказалась открытой и в какую
минуту все это произошло, что все это сцепление обстоятельств я считал за
внушение свыше, требовавшее от меня, чтобы я разъяснил людям, что Луна -
обитаемый мир. Как, думал я, после того, как я целый день проговорил об
одном предмете, книга, может быть единственная в мире, где специально
трактуется об этой материи, летит из моей библиотеки на стол, становится
способной рассуждать, открывается на том самом месте, где описано столь
чудесное происшествие, насильно притягивает к себе мой взор, внушает моей
фантазии нужные соображения, а моей воле нужные намерения. Без сомнения,
размышлял я дальше, мою книгу переложили те же старики, которые появились
перед этим великим человеком; они же открыли ее на этой странице, чтобы
избавить себя от труда держать мне те же речи, которые держали Кардану. Но,
прибавил я, как же мне объяснить себе эти сомнения иначе, как поднявшись на
Луну? И почему же нет, тотчас же отвечал сам себе.- Ведь восходил же
Прометей на небо, чтобы похитить огонь. Разве я менее отважен, чем он? И
какие же у меня основания не надеяться на такую же удачу?
За этими вспышками горячечного бреда последовала надежда, что мне
удастся совершить это чудное путешествие.
Чтобы довести дело до конца, я удалился в довольно уединенный дом в
деревне, где, предавшись моим мечтаниям и обдумав несколько возможностей их
осуществить, я поднялся на небо и вот каким образом.
Я прежде всего привязал вокруг себя множество склянок, наполненных
росой; солнечные лучи падали на них с такой силой, что тепло, притягивая их,
подняло меня на воздух и унесло так высоко, что я оказался дальше самых
высоких облаков. Но так как это притяжение заставляло меня подниматься
слишком быстро и вместо того, чтобы приближаться к Луне, как я рассчитывал,
я заметил, наоборот, что я от нее дальше, чем при моем отбытии, я стал
постепенно разбивать склянки одну за другой, пока не почувствовал, что
тяжесть моего тела перевешивает силу притяжения и что я спускаюсь на землю.
Светила полная Луна, небо было ясно и уже пробило девять часов вечера, когда
я и четверо моих друзей возвращались из одного дома в окрестностях Парижа.
Наше остроумие, очевидно, отточилось о камни мостовой, ибо в какую сторону
оно ни обращалось, всюду оно заострялось, и как далека ни была Луна, она не
могла от него спастись.
Наши взорьи утопали в великом светиле; один принимал его за небесное
слуховое окно, сквозь которое просвечивало сияние блаженных, другой,
убежденный в истинности старых басен, воображал, что, быть может, это Вакх*
там вверху содержит таверну и полную Луну повесил как вывеску; третий
утверждал, что это гладильная доска, на которой Диана* разглаживает
воротнички Аполлона, наконец, четвертый - что это, быть может, само Солнце,
что оно совлекло с себя одеяние своих лучей и в халате выглядывает сквозь
отверстие на то, что творится на свете в его отсутствие.
Что касается меня, воскликнул я, то желая присоединить свои восторги к
вашим и не восхищаясь тем острием изнуренного воображения, которым вы
погоняете время, чтобы заставить его двигаться быстрей, я думаю, что Луна -
это такой же мир как и наш и что Земля, в свою очередь, служит ей Луной. Мои
спутники ответили мне на это громким взрывом хохота. Точно так же, быть
может, продолжал я, там, на Луне, смеются теперь над тем, кто утверждает,
что этот земной шар есть мир. Но сколько я ни ссылался на то, что Пифагор,
Эпикур, Демокрит, а в наши дни Коперник и Кеплер, придерживались такого же
мнения, они только громче и громче хохотали.
Однако эта мысль, смелость которой нравилась моему нраву, еще сильнее
укрепилась во мне благодаря противоречию и так губоко в меня запала, что в
продолжении всего остального пути я вынашивал в себе тысячу различных
определений Луны, однако никак не мог разрешиться ими. По мере того как я
подкреплял в себе эту шутливую мысль почти серьезными доводами, я сам чуть
было не поверил в нее.
Но послушай, читатель, какое чудо или какая случайность помогли
провидению или судьбе утвердить меня на этом пути: вернувшись с прогулки, я
вошел в свою комнату, чтобы там отдохнуть, и увидел на столе открытую книгу,
которую я туда не клал. Я увидал, что эта книга моя, и потому спросил у
своего лакея, на каком основании он принес ее из кабинета; я в сущности
спросил его только для формы, ибо это был толстый лотарингец, душа которого
не выполняла никаких иных функций чем те, которые выполняет душа устрицы в
своей раковине. Он мне поклялся, что сюда ее мог доставить только я или
черт, что касается меня, я хорошо знал, что я не прикасался к этой книге уже
более года.
Я снова взглянул на нее: это была книга Кардано*, и хотя я не
намеревался ее читать, однако мои глаза как-то невольно упали на то самое
место, где у этого философа мы находим такой рассказ: он пишет, что,
занимаясь однажды вечером при свете сальной свечи, он увидел входивших
сквозь закрытые двери двух высоких стариков; после многих расспросов с его
стороны старики ему сказали, что они обитатели Луны, и в ту же минуту
исчезли.
Я был так удивлен, как тем, что увидел книгу, которая сама себя
принесла, так и тем, на какой странице она оказалась открытой и в какую
минуту все это произошло, что все это сцепление обстоятельств я считал за
внушение свыше, требовавшее от меня, чтобы я разъяснил людям, что Луна -
обитаемый мир. Как, думал я, после того, как я целый день проговорил об
одном предмете, книга, может быть единственная в мире, где специально
трактуется об этой материи, летит из моей библиотеки на стол, становится
способной рассуждать, открывается на том самом месте, где описано столь
чудесное происшествие, насильно притягивает к себе мой взор, внушает моей
фантазии нужные соображения, а моей воле нужные намерения. Без сомнения,
размышлял я дальше, мою книгу переложили те же старики, которые появились
перед этим великим человеком; они же открыли ее на этой странице, чтобы
избавить себя от труда держать мне те же речи, которые держали Кардану. Но,
прибавил я, как же мне объяснить себе эти сомнения иначе, как поднявшись на
Луну? И почему же нет, тотчас же отвечал сам себе.- Ведь восходил же
Прометей на небо, чтобы похитить огонь. Разве я менее отважен, чем он? И
какие же у меня основания не надеяться на такую же удачу?
За этими вспышками горячечного бреда последовала надежда, что мне
удастся совершить это чудное путешествие.
Чтобы довести дело до конца, я удалился в довольно уединенный дом в
деревне, где, предавшись моим мечтаниям и обдумав несколько возможностей их
осуществить, я поднялся на небо и вот каким образом.
Я прежде всего привязал вокруг себя множество склянок, наполненных
росой; солнечные лучи падали на них с такой силой, что тепло, притягивая их,
подняло меня на воздух и унесло так высоко, что я оказался дальше самых
высоких облаков. Но так как это притяжение заставляло меня подниматься
слишком быстро и вместо того, чтобы приближаться к Луне, как я рассчитывал,
я заметил, наоборот, что я от нее дальше, чем при моем отбытии, я стал
постепенно разбивать склянки одну за другой, пока не почувствовал, что
тяжесть моего тела перевешивает силу притяжения и что я спускаюсь на землю.
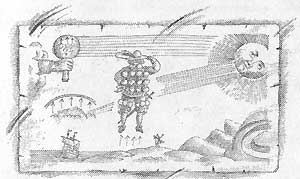 Я не ошибся, и скоро я упал на землю; судя по тому времени, когда я
начал свое путешествие, должен был наступить полдень. Между тем я увидел,
что Солнце стоит в своем зените и что там, где я нахожусь, полдень. Вы
можете себе представить мое изумление! Оно действительно было таково, что,
не зная, чему приписать такое чудо, я возымел дерзкую мысль, что я в честь
моей отваги вновь пригвоздил Солнце к небесам, дабы оно могло освещать столь
благородное предприятие. Мое изумление, однако, достигло еще большей
степени, когда я оглянулся вокруг себя и не узнал местности, в которой
находился. Мне казалось, что, поднявшись вверх по совершенно прямой линии, я
должен был спуститься на то самое место, откуда я начал свое путешествие.
Все в том же странном уборе я направился к какой-то хижине, заметив
поднимавшийся из нее дым; я едва дошел до нее на расстояние пистолетного
выстрела, как увидел себя окруженным множеством совершенно голых людей. Мне
показалось, что вид мой чрезвычайно их удивил, ибо я был первый человек,
одетый бутылками, которого им когда-либо приходилось видеть; они заметили,
кроме того, что когда я двигаюсь, я почти не касаюсь земли, и это
противоречило всему тому, чем они могли бы объяснить мой наряд: ведь они не
знали, что при малейшем движении, которое я сообщал своему телу, зной
полдневных солнечных лучей поднимал меня и всю росу вокруг меня и что если
бы моих склянок было достаточно, как в начале моего путешествия, я мог бы на
их глазах быть вознесен на воздух. Я хотел к ним подойти и заговорить с
ними, но страх, казалось, обратил их в птиц; в одно мгновение они
разлетелись по соседнему лесу. Мне, однако, удалось поймать одного из них,
ноги которого, по-видимому, изменили его сердцу. Я спросил его, произнося
слова с большим трудом (ибо задыхался), каково расстояние отсюда до Парижа,
с каких пор народ ходил голым во Франции и почему они с таким ужасом бежали
от меня. Человек, с которым я говорил, был старик с оливковым цветом лица,
он сперва бросился на колени и, подняв руки кверху над головой, открыл рот и
закрыл глаза. Он долго что-то бормотал сквозь зубы, но я не мог разобрать ни
одного членораздельного звука и принял его речь за хриплое щебетание немого.
Некоторое время спустя я заметил приближение отряда солдат, которые шли
с барабанным боем; двое из них отделились и подошли ко мне для
рекогносцировки. Когда они были достаточно близки, чтобы расслышать мои
слова, я просил их сказать мне, где я нахожусь. "Вы во Франции,- отвечали
они,- но какой черт привел вас в такой вид и почему же мы вас не знаем?
Разве корабли прибыли? Собираетесь ли вы сообщить об этом господину
губернатору? И почему вы разлили вашу водку в такое множество бутылок?" На
все это я возразил, что в такой вид привел меня не черт, что не знают они
меня потому, что им не могут быть известны все; что я не знал, что по Сене
ходят корабли в Париж; что мне нечего сообщать господину де Монбазону*, что
я нагружен не водкой. Ого,- сказали они и взяли меня под руки,- вы еще
хорохоритесь? Господин губернатор-то вас узнает". Они повели меня туда, где
стояла их часть, и здесь я узнал, что я действительно во Франции, но не в
Европе, ибо это была Новая Франция*. Некоторое время спустя я был
представлен вице-королю господину Монманьи*; он спросил меня, из какой я
страны, каково мое имя и мое звание; я ответил на все его вопросы и
рассказал о приятном и успешном исходе моего путешествия; поверил ли он мне
или сделал только вид, что поверил, я не знаю; как бы то ни было, он был так
любезен, что приказал отвести мне комнату в своем собственном доме. Для меня
было большим счастьем встретить человека, способного к возвышенным мыслям,
который притом не выразил никакого удивления, когда я ему сказал, что Земля,
очевидно, вращалась, пока я поднимался, ибо, начав свое воздушное
путешествие в двух милях от Парижа, я упал по линии, почти перпендикулярной
в Канаде. Вечером, когда я уже собрался ложиться спать, он вошел в мою
комнату и сказал: "Я бы не стал нарушать вашего покоя, если бы я не думал,
что человек, обладающий такой тайной силой совершить столь длинный путь в
полдня, должен также обладать способностью не уставать. Но вы не знаете, -
прибавил он,- какой забавный спор у меня только что был по вашему поводу с
нашими отцами иезуитами. Они настаивают на том, что вы колдун, и самое
большое снисхождение, на которое вы можете рассчитывать с их стороны, это
то, чтобы сойти за обманщика. Действительно, то движение, которое вы
приписываете Земле, разве это не удачный парадокс? Что касается меня, скажу
вам откровенно, почему я не разделяю ваших взглядов. Ведь выехав из Парижа
вчера, вы могли бы прибыть сюда сегодня, хо тя бы Земля и не вращалась; не
должно ли было привести вас сюда Солнце, поднявшее вас при помощи ваших
бутылок, так как, согласно Птоломею, Тихо Браге* и современным философам,
оно движется наискось от того пути, которое вы приписываете Земле. А затем,
почему вы считаете правдоподобным представление, что Солнце неподвижно,
когда мы видим, как оно движется? И почему вы предполагаеТе что Земля
вращается с такой быстротой, когда мы чувствуем, как она неподвижна под наши
ми ногами?" "Государь мой,- возражал я,- вот приблизительно те доводы, на
основании которых мы догадываемся обо всем том. Во-первых, самый здравый
смысл говорит за то, что Солнце помещается в центре вселенной, ибо все тела,
существующие в природе, нуждаются в его животворном огне, что оно обитает в
самом центре подвластного ему государства, чтобы немедленно удовлетворять
всем его потребностям, и что первопричина жизни находится в центре всех тел,
чтобы действие ее могло распространяться на них легко и равномерно. Точно
так же мудрая природа поместила детородные органы человека в середине его
тела, зернышко в сердцевине яблока, косточки в середине плода, точно так же
луковица сохраняет под защитой сотни окружающих ее кожиц драгоценный росток,
из которого миллионы новых луковиц почерпнут свое существование. Ибо это
яблоко само в себе маленькал вселенная, а зернышко, содержащее в себе больше
тепла, чем остальные его части, и есть солнце, распространяющее вокруг себя
тепло, хранителя целого яблока; росток с этой точки зрения тоже маленькое
солнце этого мирка, согревающее и питающее растительную соль этого
маленького тела. Исходя из этого предположения, я говорю, что Земля,
нуждаясь в свете, в тепле и в воздействии этого великого источника огня,
вращается вокруг него, чтобы получить от него силу, сохраняющую ее жизнь и
необходимую ей равномерно для всех ее частей. Было бы одинаково смешно
думать*, что это великое светило станет вращаться вокруг точки, до которой
ему нет никакого дела, как было бы смешно предположить при виде жареного
жаворонка, что вокруг него вертелась печь. Иначе, если бы Солнцу приходилось
выполнять эту работу, надо было бы думать (пришлось бы сказать), что
медицина нуждается в больном, что сильный должен подчиняться слабому,
знатный - служить простолюдину и что не корабль плывет вдоль берегов, а
берега движутся вокруг корабля. Если вам непонятно, каким образом может
вращаться такая тяжелая масса, скажите мне, пожалуйста, разве менее тяжелы
светила и небесный свод, который вы считаете таким плотным? Еще скорее можем
мы, убежденные в том, что Земля есть шар, заключить о ее движении на
основании ее формы. Но по чему вы предполагаете что небо также имеет форму
шара, когда знать вы этого не можете и когда ясно, что если оно не обладает
именно этой формой, оно не может вращаться. Я нисколько не укоряю вас за
ваши эксентрики, концентрики и ваши эпициклы, но относительно них вы будете
в состоянии дать мне лишь самые смутные объяснения, я же исключаю их из
своей системы. Будем говорить только об естественных причинах этого
движения. Ведь вам, картезианцам*, приходится прибегать к предпо ложению о
разумных существах, движущих ваши сферы и управляющих ими. Но я, не нарушая
покоя верховного существа, который, без сомнения, создал природу совершенной
и по мудрости своей завершил ее создание так, что, сделав ее совершенной для
одной цели, он не мог ее оставить несовершенной для другой, я, повторяю,
нахожу в самой Земле те силы, которые заставляют ее вращаться! Потому я
говорю, что солнечные лучи и исходящее из них действие, ударяя по Земле,
заставляют ее вращаться, как мы заставляем вращаться шар, ударяя его рукой;
точно так же испарения, постоянно поднимающиеся из недр Земли с той ее
стороны, на которую светит солнце, задержанные холодным воздухом среднего
пояса и отраженные от него, падают на нее обратно и, имея возможность
ударить ее только вкось, по необходимости заставляют ее вращаться вокруг
самой себя. Объяснение остальных двух движений еще менее сложно. Вдумайтесь,
пожалуйста..." На этих словах вице-король меня остановил: "Я предпочитаю,-
сказал он,- освободить вас от этого труда; я, кстати, читал об этом предмете
несколько книг Гассенди*, зато вы должны выслушать, что мне ответил однажды
один из наших отцов, поддерживающий вашу точку зрения: "Действительно,
говорил он, я представляю себе, что Земля может вращаться, однако не по тем
причинам, которые приводит Коперник, а потому что огонь ада заключен в
центре Земли, как нас учит об этом священное писание, и души осужденных на
вечные мучения, спасаясь от страшного пламени, карабкаются вверх, удаляясь
от него в направлении против земного свода, и таким образом заставляют Землю
вращаться, подобно тому как собака, когда бежит, заставляет вращаться
колесо, на нее надетое".
Мы стали расхваливать рвение почетного священника, а, окончив свой
панегирик, господин де Монманьи сказал, что его очень удивляет, почему же
система Птоломея, столь мало правдоподобная, была так распространена.
"Большинство людей,- отвечал я,- которые судят только на основании своих
чувств, поверили свидетельству своих глаз, и, подобно тому, как тот, кто,
сидя на корабле, плывущем вдоль берега, думает, что он сам неподвижен, а
двигается берег, точно так же и люди, вращаясь вместе с Землей вокруг неба,
думали, что само небо вращается вокруг них. Присовокупите к этому еще всю
невыносимую гордость человека, который убежден, что природа создана лишь для
него, как будто есть сколько-нибудь вероятия в том, что Солнце, огромное
тело, в четыреста тридцать четыре раза больше Земли*, было зажжено для того,
чтобы созревал его кизил и кочанилась капуста. Что касается до меня, то я
далек от того, чтобы сочувствовать дерзким мыслям, и думаю, что планеты -
это миры, окружающие Солнце, а неподвижные звезды - точно такие же солнца,
как наше, что они также окружены своими планетами, т. е. маленькими мирами,
которых мы отсюда не видим ввиду их малой величины и потому что их
отраженный свет до нас не доходит. Ибо как же по совести представить себе,
что все эти огромные шаровидные тела - пустыни и что только наша планета,
потому что мы по ней ползаем, была сотворена для дюжины высокомерных плутов.
Неужели же, если мы по Солнцу исчисляем дни и года, это значит, что Солнце
было сотворено для того, чтобы мы в темноте не стукались лбами об стену.
Нет, нет! Если этот видимый бог и светит человеку, то только случайно, как
факел короля случайно светит проходящему по улице вору".
"Но,- возразил он,- если, как вы утверждаете, неподвижные звезды - это
те же солнца, и сколько на небе неподвижных звезд, столько и солнц, из этого
можно вывести заключение, что мир бесконечен, ибо с достаточной вероятностью
можно предположить, что обитатели миров, окружающих неподвижную звезду,
которую вы принимаете за солнце, откроют над собой другие неподвижные
звезды, недоступные отсюда нашему взору,- и так до бесконечности".
"В этом нет никакого сомнения,- отвечал я,- подобно тому, как бог
создал бессмертную душу, он мог создать и бесконечный мир, если правда, что
вечность не что иное, как беспредельное время, а бесконечность -
безграничное пространство. Кроме того, если предположить, что мир не
бесконечен, нужно предположить, что и бог конечен, ибо он не может быть там,
где ничего нет, и не может увеличить обширность мира, не прибавив и к
собственной пространственности, начиная быть там, где его до сих пор не
было. Поэтому нужно думать, что подобно тому, как мы отсюда видим Юпитер и
Сатурн, точно так же, как находясь на той или другой планете, мы открыли бы
множество миров, которых отсюда не видим, и что именно так и построена
вселенная до бесконечиости"
"По чести,-возразил он,-что бы вы ни говорили, я совершенно не способен
понять, что такое бесконечность" "А скажите мне,- отвечал я,- понимаете ли
вы, что представляет из себя ничто, находящееся за пределами этого мира?
Вовсе не понимаете, ибо когда вы думаете об этом, то это ничто все-таки
представляете себе по меньшей мере в виде ветра или воздуха, а это уже есть
нечто. Но если вы не можете обнять бесконечность в целом, вы можете
представить ее себе по частям, ибо не трудно вообразить себе землю, огонь,
воду, воздух, звезды, небеса; бесконечкость же - это не что иное, как
беспредельная ткань всего этого. Если вы меня спросите, каким образом были
сотвореньт все эти миры, ибо священное писание говорит только об одном мире,
созданном богом, я вам отвечу, что оно говорит только о нашем мире, потому
что это единственный из миров, который бог взял на себя труд сотворить
собственной рукой, все же остальные миры, развешенные по лазури вселенной,
как те, которые мы видим, так и те, которых не видим,- это только пена,
выбрасываемая светилами, которые себя очищают. Действительно, как бы могли
существовать эти огромные источники огня, если бы они каким-то образом не
были связаны с той материей, которая их питает. И точно так же, как огонь
гонит далеко от себя золу, которая бы его заглушила; как золото,
расплавленное в горниле, отделяется, очищаясь от колчедана, уменьшающего его
вес; как сердце освобождается при помощи рвоты от несваримых материй,
давящих его, - так и Солнце каждый день выбрасывает из себя остатки материи,
питающей его пламя, и очищается от нее. Но когда вся эта материя, которая
его подлерживает, сгорит до конца, не сомневайтесь, что оно разольется во
все стороны, будет искать новой пищи и бросится на все миры, им же некогда
созданные, особенно на те, которые к нему всего ближе, и тогда этот великий
огонь смешает и расплавит все эти тела, а затем разгонит их во все стороны,
как и раньше; постепенно очистившись, он таким образом опять будет служить
солнцем этим маленьким мирам, которые он породил, вытаскивая их вон из своей
сферы. Вероятно, это и вызвало предсказание пифагорейцев о всемирном пожаре,
что вовсе не есть забавная выдумка, и Новая Франция, в которой мы находимся,
доставляет нам весьма убедительное тому доказательство. Ведь Америка, этот
обширный материк, представляет из себя половину всей суши, однако он долго
не был открыт нашими путешественниками, хотя они тысячу раз переплывали
через океан, и неудивительно, ибо его еще не существовало, точно так же, как
не существовало многих островов, полуостровов и гор, которые появились на
нашем земном шаре, когда Солнце, очищая себя от ржавчины*, отбросило ее
далеко от себя; сгустившись в тяжелые, плотные клубки, она была притянута к
центру нашего мира, может быть, постепенно мелкими частями, а может быть,
сразу целой массой. Эта мысль вовсе не так безрассудна, и святой Августин*,
наверное, одобрил бы ее, если бы открытие Америки произошло при нем, ибо
этот великий человек, ум которого был просвещен святым духом, утверждает,
что в его время Земля была плоская, как кухонная плита, и что она плавала
над водой, как апельсин, разрезанный пополам. Но если я когда-либо буду
иметь честь видеть вас во Франции и доставлю вам возможность наблюдать небо
через превосходную трубу, вы увидите, что некоторые темные места, которые
отсюда кажутся пятнами,- это целые миры, еще строящиеся".
Мои глаза совершенно смыкались, когда я кончал эту речь, и это
заставило господина де Монманьи со мной проститься. Как на другой день, так
и в следующие мы продолжали вести разговоры на ту же тему, но вскоре
затруднения, осложнившие управление провинцией, отразились и на наших
философских беседах, и я все более и более стал задумываться над тем, как бы
мне подняться на Луну. Как только она всходила, я отправлялся в лес и там
принимался мечтать о своем предприятии и о том, как бы довести его до
благополучного конца; наконец вечером, накануне Иванова дня, в то самое
время, когда в форте шел совет и разрешался вопрос о том, следует ли оказать
помощь дикарям против ирокезов*, я ушел один на склон небольшой горы,
поднимавшейся за нашим домом, и вот как я осуществил свое намерение. Уже
раньше я соорудил машину, которая, как я рассчитывал, могла поднять меня на
какую угодно высоту; думая, что в ней уже есть все необходимое, я в нее
уселся и сверху скалы пустился на воздух. Однако я, очевидно, не принял всех
нужных мер предосторожности, так как я тяжело свалил ся в долину. Хотя я и
был очень помят от падения, однако я не потерял мужества, вернулся в свою
комнату, достал мозг из бычачьих костей, натер им все тело, ибо я был разбит
от головы до ног. Подкрепив свое сердце бутылкой целебной настойки, я
отправился на поиски своей машины, но не нашел ее, так как кучка солдат,
которых послали в лес нарезать сучьев для праздничных костров, случайно
набрела на нее и принесла ее в форт. Долго рассуждали они о том, что бы это
могло быть, наконец напали на изобретенную мною пружину; тогда стали
говорить, что нужно привязать к машине как можно больше летучих ракет:
благодаря быстроте своего полета они унесут ее очень высоко; одновременно с
этим под действием пружины начнут махать большие крылья машины, и не
найдется ни одного человека, кто бы не принял ее за огненного дракона.
Долго я не мог найти ее, наконец разыскал посереди площади Квебека, в
ту минуту, когда собирались ее зажечь. Увидя, что дело моих рук в опасности,
я пришел в такое отчаяние, что побежал и схватил за руку солдата в ту
минуту, когда он подносил к ней зажженный фитиль; я вырвал фитиль из его рук
и бросился к своей машине, чтобы уничтожить горючий состав, который ее
окружал; но было уже поздно, и едва я вступил на нее ногами, как вдруг я
почувствовал, что поднимаюсь на облака. Ужас, овладевший мной, однако, не
настолько отразился на моих душевных способностях, чтобы я забыл все то, что
случилось со мной в эту минуту. Знайте же, что ракеты были расположены в
шесть рядов по шести ракет в каждом ряду и укрепленьи крючками,
сдерживающими каждую полдюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет,
перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий, так что
воспламеняющаяся селитра удаляла опасность в то самое время, как усиливала
огонь. Материал, наконец, был весь поглощен пламенем, горючий состав иссяк,
и когда я стал уже думать только о том, как сложить голову на вершине
какой-нибудь горы, я почувствовал, что хотя сам я совсем не двигаюсь,
однако, я продолжаю подниматься, а что машина моя со мной расстается, падает
на землю.
Это невероятное происшествие исполнило мое сердце такой необьтчайной
радостью, и я был так счастлив, что избежал верной гибели, что я имел
наглость начать по этому поводу философствовать. Итак, в то время как я
искал глазами и обдумывал головой, что же могло быть причиной всего этого, я
увидел свое опухшее тело, еще жирное от того бычачьего мозга, которым я
натер себя, чтобы залечить раны, полученные при падении; я понял тогда, что
Луна на ущербе (а в этой четверти она имеет обыкновение высасывать мозг из
костей животных), что она пьет тот мозг, которым я натерся и с тем большей
силой, чем больше я к ней приближаюсь, причем положение облаков, отделяющих
меня от нее, нисколько не ослабляло этой силы.
Когда, по расчету, сделанному мною много времени спустя, я пролетел три
четверти расстояния, отделяющего Землю от Луны, я почувствовал, что падаю
ногами кверху, хотя я ни разу не кувыркнулся; я бы даже не заметил такого
своего положения, если бы почувствовал на голове своей тяжесть своего тела.
Правда, я скоро сообразил, что не падаю на нашу Землю, ибо, хотя и находился
между двумя лунами, я ясно понимал, что удаляюсь от одной по мере
приближения к другой; я был уверен, что самая большая из этих лун - земной
шар, ибо после дня или двух такого путешествия она стала представляться мне
лишь большой золотой бляхой, как и другая луна, вследствие того, что
отдаленное отражение солнечных лучей совершенно сгладило все различие поясов
Земли и контуров тел. Ввиду этого я предположил, что спускаюсь к Луне, и
утвердился в этом предположении, когда вспомнил, что начал падать собственно
только после того, как пролетел три четверти пути. Ведь эта масса, говорил я
сам себе, меньше чем масса нашей Земли, поэтому сфера ее воздействия тоже
должна охватывать меньшее пространство, вследствие чего я позднее
почувствовал на себе силу ее притяжения.
Я, очевидно, очень долго падал, о чем могу только догадываться, так как
быстрота падения мешала мне что-либо замечать, и самое первое, что я могу
вспомнить, это то, что я очутился под деревом, запутавшись в трех или
четырех толстых ветках, которые треснули под ударом моего падения, и что
лицо мое было мокро от расплющенного на нем яблока.
К счастью, это место было, как вы вскоре узнаете, земным раем, а
дерево, на которое я упал, оказалось древом жизни*. Итак, вы понимаете, что,
не будь этого счастливого случая, я бы был тысячу раз убит. Часто
впоследствии я думал о распространенном в народе представлении, будто,
бросаясь с очень высокого места, человек умирает от удушения прежде, чем
коснется земли; из случившегося со мной происшествия я заключил, что это
ложь, или же, что живительный сок плода, который потек мне в рот, вернул в
тело мою душу, так как она еще не была далеко от него, и оно не успело еще
остыть и отвыкнуть от своих жизненных функций. Действительно, как только я
очутился на земле, всякая боль у меня прошла даже раньше того, чем она
исчезла из моей памяти, а о голоде, от которого я раньше сильно страдал, я
вспомнил только потому, что перестал ощущать его. Когда я поднялся, я едва
успел рассмотреть самую широкую из четырех больших рек, которые, сливаясь,
образовывали озеро, как мое обоняние исполнилось самым сладостным ароматом
от разлитого по этой местности благоухания незримой души трав. Я узнал
также, что подорожный камень здесь неровен и тверд лишь на вид и становится
мягким под шагами.
Прежде всего я увидел перекресток, где скрещивалось пять великолепных
аллей, обсаженных деревьями, которые по своей необычайной высоте, казалось,
поднимались до самого неба в виде высокоствольного леса. Оглядьивая их от
корня до самых верхушек и еще раз спускаясь взором от верхушек до подножия,
я усомнился в том, несет ли их земля или сами они несут землю, прицепившуюся
к их корням; их гордые вершины, казалось, тоже гнулись под тяжестью небесных
сводов, бремя которых они несли лишь с тяжелыми стонами. Их ветви,
распростертые к небесам, казалось, обнимали их, моля светила небесные
осенить их благосклонным и очищающим своим воздействием, и о том, чтобы
воспринять его еще чистым и не утратившим своей девственности от смешения с
земными элементами. Здесь со всех сторон цветы, единственный садовник
которых - природа, издают сладостный, хотя и дикий аромат, который
возбуждает и радует обоняние. Тут алый цветок шиповника, лазоревая фиалка,
растущая под терновником, не оставляют свободы для выбора, и одна вам
кажется прекраснее другой; здесь весна не сменяется другими временами года,
здесь не вырастает ядовитое растение, а если оно и появляется, то сейчас же
погибает; здесь ручьи веселым журчанием рассказывают камням о своих
путешествиях; здесь тысячи пернатых певцов наполняют лес звуком своих
мелодичных песен; сборище этих трепещущих божественных музыкантов так
велико, что кажется, будто каждый лист этого леса превратился в соловья. Эхо
так восхищается их мелодиями, что, слушая, как оно их повторяет, кажется,
будто оно само хочет их выучить. Рядом с этим лесом видны две поляны, их
сплошная веселая зелень кажется изумрудом, которому нет конца. Весна,
рассыпая разнообразные краски по сотням мелких цветочков, смешивает их с вос
хитительной небрежностью и оттенки их перебрасывает с одного цветка на
другой; и не знаешь, друг от друга ли бегут эти цветьг, волнуемые летним
зефиром, или же они убегают от него, чтобы спастись от шаловливых его ласк.
Этот луг можно было бы даже принять за океан, ибо он безбрежен, как море, и
мой взор, испуганный тем, что забежал так далеко и не увидел края, поспешил
послать туда мою мысль; мысль же моя, сомневаясь в том, что это конец мира,
хотела убедить себя, что красота этих мест, быть может, заставила небо
соединиться с землей. Среди этого великолепного и обширного цветочного ковра
серебряной струей пробивается ключ; трава, окаймляющая его, пестрит
кувшинками, лютиками, фиалками и сотней других мелких цветов; они теснятся к
воде, будто каждый из них спешит полюбоваться на свое отражение. Но ручей
еще в колыбели; он только что родился, и на его юном и гладком лице нет ни
одной морщинки. Большие изгибы, которые он делает, по тысячу раз возвращаясь
к месту своего рождения, показывают, что он очень неохотно покидает свою
родину, и, как бы устыдившись того, что его ласкают в присутствии матери, он
журча отталкивает мою руку, которая хочет к нему прикоснуться. Животные,
подходившие к ручью, чтобы утолить свою жажду, более разумные, чем животные
нашей Земли, выражали свое удивление тому, что с неба льется свет, между тем
как они видят солнце в ручье; они не решаются склониться к краю воды из
опасения упасть на небо.
Я должен вам признаться, что при виде стольких красот я ощутил то
приятное и болезненное чувство, которое, говорят, испытывает эмбрион в ту
минуту, когда вливается в него душа. Старые волосы упали с меня и уступили
место другим, более густым и более мягким. Я почувствовал, как загорелась во
мне молодая кровь, мое лицо покрылось румянцем, моя естественная теплота
незаметно и гармонически проникла все мое существо, одним словом, я оказался
помолодевшим на четырнадцать лет.
Я прошел приблизительно с полмили в лесу жасминов и мирт, когда
заметил, что в тени что-то зашевелилось. Это был юноша, величественная
красота которого заставила меня с благоговением пасть перед ним на колени.
Он встал, чтобы помешать этому. "Не мне,- сказал он,- а богу ты должен
поклоняться". "Вы видите человека,- сказал я,- потрясенного этими чудесами
настолько, что он не знает, чем он должен прежде всего восхищаться, ибо,
прибыв сюда из мира, который вы здесь, без сомнения, считаете Луной, я
предполагал, что попал в тот мир, который мои соотечественники с своей
стороны точно так же называют Луной; а между тем я очутился в раю, у ног
божества, которое не хочет, чтобы ему поклонялись". "Вы совершенно правы, за
исключением того звания бога, которое вы мне приписываете,- отвечал он,-
между тем я только его тварь, но эта земля действительно есть Луна, которую
вы видите с земного шара, а место, где вы сейчас находитесь, это земной рай,
куда никто никогда не проникал за исключением шести человек: Адама, Евы,
Эноха*, меня - я старый Илия*,- евангелиста Иоанна* и вас. Вам хорошо
известно, как двое первых были отсюда изгнаны, но вы не знаете, как они
попали в ваш мир. Так знайте же, что после того как они оба вкусили
запретного плода, Адам, боясь, что бог, гневаясь на его присутствие, усилит
его наказание, стал думать о том, что Луна, т. е. ваша Земля,- единственное
убежище, где он может укрыться от преследований своего творца. В то время
воображение человека, еще не развращенное ни распутством, ни грубой пищей,
ни болезнями, было так сильно, что страстного, возгоревшегося в Адаме
желания скрыться в этом убежище было достаточно для того, чтобы он был туда
вознесен, тем более, что тело его, охваченное пламенем энтузиазма, сделалось
совершенно легким; ведь мы имеем примеры того, как некоторые философы,
воображение которых было напряженно направлено на одну мысль, были восхищены
на небо в том состоянии, которое вы называете экстазом. Ева, которая по
немощи, свойственной ее полу, была слабой и менее пламенной, вероятно, не
имела бы достаточно силы воображения, чтобы напряжением воли побороть
тяжесть материи. Но так как прошло очень мало времени с тех пор, как она
вышла из ребра своего мужа, симпатия, которая еще связывала эту часть с ее
целым, увлекала и ее за ним, по мере того как он поднимался, точно так же,
как за янтарем тянется соломинка, как магнитная стрелка поворачивается к
северу, откуда она была оторвана. Так и Адам притянул к себе эту часть
самого себя подобно тому, как море притягивает к себе реки, которые из него
же вышли. Прибыв на вашу землю, они поселились в местности между
Месопотамией и Аравией. Евреи знали его под именем Адама, язычники - под
именем Прометея. О Прометее поэты создали басню, будто он похитил огонь с
неба, они при этом имели в виду его потомков, которых он наделил душой столь
же совершенной, какой была его собственная душа, данная ему богом. Итак,
ради того чтобы обитать в вашей земле, первый человек оставил эту землю
безлюдной. Но премудрый не захотел, чтобы такая прекрасная местность
оставалась необитаемой: несколько веков спустя он допустил, чтобы Энох,
наскучив обществом людей, которые стали развращаться, захотел их покинуть.
Однако одно только убежище, казалось этому святому человеку, могло спасти
его от честолюбия его родичей, перерезывавших друг другу горло ради того,
чтобы разделить между собою вашу землю - это убежище и была та благодатная
страна, о которой ему так много рассказывал его предок, Адам. Однако как
туда подняться? Лестница Иакова* в то время еще не была изобретена. Но
благодать всевышнего осенила его, и он обратил внимание на то, как небесный
огонь нисходит на жертвоприношения праведных и тех, кто угоден господу,
согласно слов из его уст: благоухание жертвы праведника дошло до меня.
Однажды, когда это божественное пламя с ожесточением пожирало жертву,
приносимую предвечному, он наполнил поднимавшимся от огня дымом два больших
сосуда, которые герметически закупорил, замазал и привязал себе под мышки.
Тогда пар, устремляясь кверху, но не имея возможности проникнуть сквозь
металл, стал поднимать сосуды вверх и вместе с ними поднял этого святого
человека. Когда он таким образом долетел до Луны и окинул взором этот чудный
сад, наплыв радости, почти сверхъестественный, подсказал ему, что это то
самое место, где когда-то жил его праотец. Он быстро отвязал сосуды,
привязанные к его плечам наподобие крыльев, и сделал это так удачно, что как
только он приблизился к Луне на расстояние четырех сажень, он расстался со
своими поплавками. Расстояние это, однако, было еще настолько велико, что
при падении он мог бы сильно пострадать, но его спасла его широкая одежда, в
которую врывался ветер, раздувая ее, а также сила его пламенной любви. Что
касается его сосудов, то они поднимались все выше и выше, пока бог не
вправил их в небо. И теперь они все еще там и составляют то, что называется
созвездием Весов; каждый день мы ощущаем наполняющее их до сих пор
благоухание от жертвы, принесенной праведником, и испытываем то
благоприятное воздействие, которое они оказали на гороскоп Людовика
Справедливого*, родившегося под знаком их.
Я не ошибся, и скоро я упал на землю; судя по тому времени, когда я
начал свое путешествие, должен был наступить полдень. Между тем я увидел,
что Солнце стоит в своем зените и что там, где я нахожусь, полдень. Вы
можете себе представить мое изумление! Оно действительно было таково, что,
не зная, чему приписать такое чудо, я возымел дерзкую мысль, что я в честь
моей отваги вновь пригвоздил Солнце к небесам, дабы оно могло освещать столь
благородное предприятие. Мое изумление, однако, достигло еще большей
степени, когда я оглянулся вокруг себя и не узнал местности, в которой
находился. Мне казалось, что, поднявшись вверх по совершенно прямой линии, я
должен был спуститься на то самое место, откуда я начал свое путешествие.
Все в том же странном уборе я направился к какой-то хижине, заметив
поднимавшийся из нее дым; я едва дошел до нее на расстояние пистолетного
выстрела, как увидел себя окруженным множеством совершенно голых людей. Мне
показалось, что вид мой чрезвычайно их удивил, ибо я был первый человек,
одетый бутылками, которого им когда-либо приходилось видеть; они заметили,
кроме того, что когда я двигаюсь, я почти не касаюсь земли, и это
противоречило всему тому, чем они могли бы объяснить мой наряд: ведь они не
знали, что при малейшем движении, которое я сообщал своему телу, зной
полдневных солнечных лучей поднимал меня и всю росу вокруг меня и что если
бы моих склянок было достаточно, как в начале моего путешествия, я мог бы на
их глазах быть вознесен на воздух. Я хотел к ним подойти и заговорить с
ними, но страх, казалось, обратил их в птиц; в одно мгновение они
разлетелись по соседнему лесу. Мне, однако, удалось поймать одного из них,
ноги которого, по-видимому, изменили его сердцу. Я спросил его, произнося
слова с большим трудом (ибо задыхался), каково расстояние отсюда до Парижа,
с каких пор народ ходил голым во Франции и почему они с таким ужасом бежали
от меня. Человек, с которым я говорил, был старик с оливковым цветом лица,
он сперва бросился на колени и, подняв руки кверху над головой, открыл рот и
закрыл глаза. Он долго что-то бормотал сквозь зубы, но я не мог разобрать ни
одного членораздельного звука и принял его речь за хриплое щебетание немого.
Некоторое время спустя я заметил приближение отряда солдат, которые шли
с барабанным боем; двое из них отделились и подошли ко мне для
рекогносцировки. Когда они были достаточно близки, чтобы расслышать мои
слова, я просил их сказать мне, где я нахожусь. "Вы во Франции,- отвечали
они,- но какой черт привел вас в такой вид и почему же мы вас не знаем?
Разве корабли прибыли? Собираетесь ли вы сообщить об этом господину
губернатору? И почему вы разлили вашу водку в такое множество бутылок?" На
все это я возразил, что в такой вид привел меня не черт, что не знают они
меня потому, что им не могут быть известны все; что я не знал, что по Сене
ходят корабли в Париж; что мне нечего сообщать господину де Монбазону*, что
я нагружен не водкой. Ого,- сказали они и взяли меня под руки,- вы еще
хорохоритесь? Господин губернатор-то вас узнает". Они повели меня туда, где
стояла их часть, и здесь я узнал, что я действительно во Франции, но не в
Европе, ибо это была Новая Франция*. Некоторое время спустя я был
представлен вице-королю господину Монманьи*; он спросил меня, из какой я
страны, каково мое имя и мое звание; я ответил на все его вопросы и
рассказал о приятном и успешном исходе моего путешествия; поверил ли он мне
или сделал только вид, что поверил, я не знаю; как бы то ни было, он был так
любезен, что приказал отвести мне комнату в своем собственном доме. Для меня
было большим счастьем встретить человека, способного к возвышенным мыслям,
который притом не выразил никакого удивления, когда я ему сказал, что Земля,
очевидно, вращалась, пока я поднимался, ибо, начав свое воздушное
путешествие в двух милях от Парижа, я упал по линии, почти перпендикулярной
в Канаде. Вечером, когда я уже собрался ложиться спать, он вошел в мою
комнату и сказал: "Я бы не стал нарушать вашего покоя, если бы я не думал,
что человек, обладающий такой тайной силой совершить столь длинный путь в
полдня, должен также обладать способностью не уставать. Но вы не знаете, -
прибавил он,- какой забавный спор у меня только что был по вашему поводу с
нашими отцами иезуитами. Они настаивают на том, что вы колдун, и самое
большое снисхождение, на которое вы можете рассчитывать с их стороны, это
то, чтобы сойти за обманщика. Действительно, то движение, которое вы
приписываете Земле, разве это не удачный парадокс? Что касается меня, скажу
вам откровенно, почему я не разделяю ваших взглядов. Ведь выехав из Парижа
вчера, вы могли бы прибыть сюда сегодня, хо тя бы Земля и не вращалась; не
должно ли было привести вас сюда Солнце, поднявшее вас при помощи ваших
бутылок, так как, согласно Птоломею, Тихо Браге* и современным философам,
оно движется наискось от того пути, которое вы приписываете Земле. А затем,
почему вы считаете правдоподобным представление, что Солнце неподвижно,
когда мы видим, как оно движется? И почему вы предполагаеТе что Земля
вращается с такой быстротой, когда мы чувствуем, как она неподвижна под наши
ми ногами?" "Государь мой,- возражал я,- вот приблизительно те доводы, на
основании которых мы догадываемся обо всем том. Во-первых, самый здравый
смысл говорит за то, что Солнце помещается в центре вселенной, ибо все тела,
существующие в природе, нуждаются в его животворном огне, что оно обитает в
самом центре подвластного ему государства, чтобы немедленно удовлетворять
всем его потребностям, и что первопричина жизни находится в центре всех тел,
чтобы действие ее могло распространяться на них легко и равномерно. Точно
так же мудрая природа поместила детородные органы человека в середине его
тела, зернышко в сердцевине яблока, косточки в середине плода, точно так же
луковица сохраняет под защитой сотни окружающих ее кожиц драгоценный росток,
из которого миллионы новых луковиц почерпнут свое существование. Ибо это
яблоко само в себе маленькал вселенная, а зернышко, содержащее в себе больше
тепла, чем остальные его части, и есть солнце, распространяющее вокруг себя
тепло, хранителя целого яблока; росток с этой точки зрения тоже маленькое
солнце этого мирка, согревающее и питающее растительную соль этого
маленького тела. Исходя из этого предположения, я говорю, что Земля,
нуждаясь в свете, в тепле и в воздействии этого великого источника огня,
вращается вокруг него, чтобы получить от него силу, сохраняющую ее жизнь и
необходимую ей равномерно для всех ее частей. Было бы одинаково смешно
думать*, что это великое светило станет вращаться вокруг точки, до которой
ему нет никакого дела, как было бы смешно предположить при виде жареного
жаворонка, что вокруг него вертелась печь. Иначе, если бы Солнцу приходилось
выполнять эту работу, надо было бы думать (пришлось бы сказать), что
медицина нуждается в больном, что сильный должен подчиняться слабому,
знатный - служить простолюдину и что не корабль плывет вдоль берегов, а
берега движутся вокруг корабля. Если вам непонятно, каким образом может
вращаться такая тяжелая масса, скажите мне, пожалуйста, разве менее тяжелы
светила и небесный свод, который вы считаете таким плотным? Еще скорее можем
мы, убежденные в том, что Земля есть шар, заключить о ее движении на
основании ее формы. Но по чему вы предполагаете что небо также имеет форму
шара, когда знать вы этого не можете и когда ясно, что если оно не обладает
именно этой формой, оно не может вращаться. Я нисколько не укоряю вас за
ваши эксентрики, концентрики и ваши эпициклы, но относительно них вы будете
в состоянии дать мне лишь самые смутные объяснения, я же исключаю их из
своей системы. Будем говорить только об естественных причинах этого
движения. Ведь вам, картезианцам*, приходится прибегать к предпо ложению о
разумных существах, движущих ваши сферы и управляющих ими. Но я, не нарушая
покоя верховного существа, который, без сомнения, создал природу совершенной
и по мудрости своей завершил ее создание так, что, сделав ее совершенной для
одной цели, он не мог ее оставить несовершенной для другой, я, повторяю,
нахожу в самой Земле те силы, которые заставляют ее вращаться! Потому я
говорю, что солнечные лучи и исходящее из них действие, ударяя по Земле,
заставляют ее вращаться, как мы заставляем вращаться шар, ударяя его рукой;
точно так же испарения, постоянно поднимающиеся из недр Земли с той ее
стороны, на которую светит солнце, задержанные холодным воздухом среднего
пояса и отраженные от него, падают на нее обратно и, имея возможность
ударить ее только вкось, по необходимости заставляют ее вращаться вокруг
самой себя. Объяснение остальных двух движений еще менее сложно. Вдумайтесь,
пожалуйста..." На этих словах вице-король меня остановил: "Я предпочитаю,-
сказал он,- освободить вас от этого труда; я, кстати, читал об этом предмете
несколько книг Гассенди*, зато вы должны выслушать, что мне ответил однажды
один из наших отцов, поддерживающий вашу точку зрения: "Действительно,
говорил он, я представляю себе, что Земля может вращаться, однако не по тем
причинам, которые приводит Коперник, а потому что огонь ада заключен в
центре Земли, как нас учит об этом священное писание, и души осужденных на
вечные мучения, спасаясь от страшного пламени, карабкаются вверх, удаляясь
от него в направлении против земного свода, и таким образом заставляют Землю
вращаться, подобно тому как собака, когда бежит, заставляет вращаться
колесо, на нее надетое".
Мы стали расхваливать рвение почетного священника, а, окончив свой
панегирик, господин де Монманьи сказал, что его очень удивляет, почему же
система Птоломея, столь мало правдоподобная, была так распространена.
"Большинство людей,- отвечал я,- которые судят только на основании своих
чувств, поверили свидетельству своих глаз, и, подобно тому, как тот, кто,
сидя на корабле, плывущем вдоль берега, думает, что он сам неподвижен, а
двигается берег, точно так же и люди, вращаясь вместе с Землей вокруг неба,
думали, что само небо вращается вокруг них. Присовокупите к этому еще всю
невыносимую гордость человека, который убежден, что природа создана лишь для
него, как будто есть сколько-нибудь вероятия в том, что Солнце, огромное
тело, в четыреста тридцать четыре раза больше Земли*, было зажжено для того,
чтобы созревал его кизил и кочанилась капуста. Что касается до меня, то я
далек от того, чтобы сочувствовать дерзким мыслям, и думаю, что планеты -
это миры, окружающие Солнце, а неподвижные звезды - точно такие же солнца,
как наше, что они также окружены своими планетами, т. е. маленькими мирами,
которых мы отсюда не видим ввиду их малой величины и потому что их
отраженный свет до нас не доходит. Ибо как же по совести представить себе,
что все эти огромные шаровидные тела - пустыни и что только наша планета,
потому что мы по ней ползаем, была сотворена для дюжины высокомерных плутов.
Неужели же, если мы по Солнцу исчисляем дни и года, это значит, что Солнце
было сотворено для того, чтобы мы в темноте не стукались лбами об стену.
Нет, нет! Если этот видимый бог и светит человеку, то только случайно, как
факел короля случайно светит проходящему по улице вору".
"Но,- возразил он,- если, как вы утверждаете, неподвижные звезды - это
те же солнца, и сколько на небе неподвижных звезд, столько и солнц, из этого
можно вывести заключение, что мир бесконечен, ибо с достаточной вероятностью
можно предположить, что обитатели миров, окружающих неподвижную звезду,
которую вы принимаете за солнце, откроют над собой другие неподвижные
звезды, недоступные отсюда нашему взору,- и так до бесконечности".
"В этом нет никакого сомнения,- отвечал я,- подобно тому, как бог
создал бессмертную душу, он мог создать и бесконечный мир, если правда, что
вечность не что иное, как беспредельное время, а бесконечность -
безграничное пространство. Кроме того, если предположить, что мир не
бесконечен, нужно предположить, что и бог конечен, ибо он не может быть там,
где ничего нет, и не может увеличить обширность мира, не прибавив и к
собственной пространственности, начиная быть там, где его до сих пор не
было. Поэтому нужно думать, что подобно тому, как мы отсюда видим Юпитер и
Сатурн, точно так же, как находясь на той или другой планете, мы открыли бы
множество миров, которых отсюда не видим, и что именно так и построена
вселенная до бесконечиости"
"По чести,-возразил он,-что бы вы ни говорили, я совершенно не способен
понять, что такое бесконечность" "А скажите мне,- отвечал я,- понимаете ли
вы, что представляет из себя ничто, находящееся за пределами этого мира?
Вовсе не понимаете, ибо когда вы думаете об этом, то это ничто все-таки
представляете себе по меньшей мере в виде ветра или воздуха, а это уже есть
нечто. Но если вы не можете обнять бесконечность в целом, вы можете
представить ее себе по частям, ибо не трудно вообразить себе землю, огонь,
воду, воздух, звезды, небеса; бесконечкость же - это не что иное, как
беспредельная ткань всего этого. Если вы меня спросите, каким образом были
сотвореньт все эти миры, ибо священное писание говорит только об одном мире,
созданном богом, я вам отвечу, что оно говорит только о нашем мире, потому
что это единственный из миров, который бог взял на себя труд сотворить
собственной рукой, все же остальные миры, развешенные по лазури вселенной,
как те, которые мы видим, так и те, которых не видим,- это только пена,
выбрасываемая светилами, которые себя очищают. Действительно, как бы могли
существовать эти огромные источники огня, если бы они каким-то образом не
были связаны с той материей, которая их питает. И точно так же, как огонь
гонит далеко от себя золу, которая бы его заглушила; как золото,
расплавленное в горниле, отделяется, очищаясь от колчедана, уменьшающего его
вес; как сердце освобождается при помощи рвоты от несваримых материй,
давящих его, - так и Солнце каждый день выбрасывает из себя остатки материи,
питающей его пламя, и очищается от нее. Но когда вся эта материя, которая
его подлерживает, сгорит до конца, не сомневайтесь, что оно разольется во
все стороны, будет искать новой пищи и бросится на все миры, им же некогда
созданные, особенно на те, которые к нему всего ближе, и тогда этот великий
огонь смешает и расплавит все эти тела, а затем разгонит их во все стороны,
как и раньше; постепенно очистившись, он таким образом опять будет служить
солнцем этим маленьким мирам, которые он породил, вытаскивая их вон из своей
сферы. Вероятно, это и вызвало предсказание пифагорейцев о всемирном пожаре,
что вовсе не есть забавная выдумка, и Новая Франция, в которой мы находимся,
доставляет нам весьма убедительное тому доказательство. Ведь Америка, этот
обширный материк, представляет из себя половину всей суши, однако он долго
не был открыт нашими путешественниками, хотя они тысячу раз переплывали
через океан, и неудивительно, ибо его еще не существовало, точно так же, как
не существовало многих островов, полуостровов и гор, которые появились на
нашем земном шаре, когда Солнце, очищая себя от ржавчины*, отбросило ее
далеко от себя; сгустившись в тяжелые, плотные клубки, она была притянута к
центру нашего мира, может быть, постепенно мелкими частями, а может быть,
сразу целой массой. Эта мысль вовсе не так безрассудна, и святой Августин*,
наверное, одобрил бы ее, если бы открытие Америки произошло при нем, ибо
этот великий человек, ум которого был просвещен святым духом, утверждает,
что в его время Земля была плоская, как кухонная плита, и что она плавала
над водой, как апельсин, разрезанный пополам. Но если я когда-либо буду
иметь честь видеть вас во Франции и доставлю вам возможность наблюдать небо
через превосходную трубу, вы увидите, что некоторые темные места, которые
отсюда кажутся пятнами,- это целые миры, еще строящиеся".
Мои глаза совершенно смыкались, когда я кончал эту речь, и это
заставило господина де Монманьи со мной проститься. Как на другой день, так
и в следующие мы продолжали вести разговоры на ту же тему, но вскоре
затруднения, осложнившие управление провинцией, отразились и на наших
философских беседах, и я все более и более стал задумываться над тем, как бы
мне подняться на Луну. Как только она всходила, я отправлялся в лес и там
принимался мечтать о своем предприятии и о том, как бы довести его до
благополучного конца; наконец вечером, накануне Иванова дня, в то самое
время, когда в форте шел совет и разрешался вопрос о том, следует ли оказать
помощь дикарям против ирокезов*, я ушел один на склон небольшой горы,
поднимавшейся за нашим домом, и вот как я осуществил свое намерение. Уже
раньше я соорудил машину, которая, как я рассчитывал, могла поднять меня на
какую угодно высоту; думая, что в ней уже есть все необходимое, я в нее
уселся и сверху скалы пустился на воздух. Однако я, очевидно, не принял всех
нужных мер предосторожности, так как я тяжело свалил ся в долину. Хотя я и
был очень помят от падения, однако я не потерял мужества, вернулся в свою
комнату, достал мозг из бычачьих костей, натер им все тело, ибо я был разбит
от головы до ног. Подкрепив свое сердце бутылкой целебной настойки, я
отправился на поиски своей машины, но не нашел ее, так как кучка солдат,
которых послали в лес нарезать сучьев для праздничных костров, случайно
набрела на нее и принесла ее в форт. Долго рассуждали они о том, что бы это
могло быть, наконец напали на изобретенную мною пружину; тогда стали
говорить, что нужно привязать к машине как можно больше летучих ракет:
благодаря быстроте своего полета они унесут ее очень высоко; одновременно с
этим под действием пружины начнут махать большие крылья машины, и не
найдется ни одного человека, кто бы не принял ее за огненного дракона.
Долго я не мог найти ее, наконец разыскал посереди площади Квебека, в
ту минуту, когда собирались ее зажечь. Увидя, что дело моих рук в опасности,
я пришел в такое отчаяние, что побежал и схватил за руку солдата в ту
минуту, когда он подносил к ней зажженный фитиль; я вырвал фитиль из его рук
и бросился к своей машине, чтобы уничтожить горючий состав, который ее
окружал; но было уже поздно, и едва я вступил на нее ногами, как вдруг я
почувствовал, что поднимаюсь на облака. Ужас, овладевший мной, однако, не
настолько отразился на моих душевных способностях, чтобы я забыл все то, что
случилось со мной в эту минуту. Знайте же, что ракеты были расположены в
шесть рядов по шести ракет в каждом ряду и укрепленьи крючками,
сдерживающими каждую полдюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет,
перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий, так что
воспламеняющаяся селитра удаляла опасность в то самое время, как усиливала
огонь. Материал, наконец, был весь поглощен пламенем, горючий состав иссяк,
и когда я стал уже думать только о том, как сложить голову на вершине
какой-нибудь горы, я почувствовал, что хотя сам я совсем не двигаюсь,
однако, я продолжаю подниматься, а что машина моя со мной расстается, падает
на землю.
Это невероятное происшествие исполнило мое сердце такой необьтчайной
радостью, и я был так счастлив, что избежал верной гибели, что я имел
наглость начать по этому поводу философствовать. Итак, в то время как я
искал глазами и обдумывал головой, что же могло быть причиной всего этого, я
увидел свое опухшее тело, еще жирное от того бычачьего мозга, которым я
натер себя, чтобы залечить раны, полученные при падении; я понял тогда, что
Луна на ущербе (а в этой четверти она имеет обыкновение высасывать мозг из
костей животных), что она пьет тот мозг, которым я натерся и с тем большей
силой, чем больше я к ней приближаюсь, причем положение облаков, отделяющих
меня от нее, нисколько не ослабляло этой силы.
Когда, по расчету, сделанному мною много времени спустя, я пролетел три
четверти расстояния, отделяющего Землю от Луны, я почувствовал, что падаю
ногами кверху, хотя я ни разу не кувыркнулся; я бы даже не заметил такого
своего положения, если бы почувствовал на голове своей тяжесть своего тела.
Правда, я скоро сообразил, что не падаю на нашу Землю, ибо, хотя и находился
между двумя лунами, я ясно понимал, что удаляюсь от одной по мере
приближения к другой; я был уверен, что самая большая из этих лун - земной
шар, ибо после дня или двух такого путешествия она стала представляться мне
лишь большой золотой бляхой, как и другая луна, вследствие того, что
отдаленное отражение солнечных лучей совершенно сгладило все различие поясов
Земли и контуров тел. Ввиду этого я предположил, что спускаюсь к Луне, и
утвердился в этом предположении, когда вспомнил, что начал падать собственно
только после того, как пролетел три четверти пути. Ведь эта масса, говорил я
сам себе, меньше чем масса нашей Земли, поэтому сфера ее воздействия тоже
должна охватывать меньшее пространство, вследствие чего я позднее
почувствовал на себе силу ее притяжения.
Я, очевидно, очень долго падал, о чем могу только догадываться, так как
быстрота падения мешала мне что-либо замечать, и самое первое, что я могу
вспомнить, это то, что я очутился под деревом, запутавшись в трех или
четырех толстых ветках, которые треснули под ударом моего падения, и что
лицо мое было мокро от расплющенного на нем яблока.
К счастью, это место было, как вы вскоре узнаете, земным раем, а
дерево, на которое я упал, оказалось древом жизни*. Итак, вы понимаете, что,
не будь этого счастливого случая, я бы был тысячу раз убит. Часто
впоследствии я думал о распространенном в народе представлении, будто,
бросаясь с очень высокого места, человек умирает от удушения прежде, чем
коснется земли; из случившегося со мной происшествия я заключил, что это
ложь, или же, что живительный сок плода, который потек мне в рот, вернул в
тело мою душу, так как она еще не была далеко от него, и оно не успело еще
остыть и отвыкнуть от своих жизненных функций. Действительно, как только я
очутился на земле, всякая боль у меня прошла даже раньше того, чем она
исчезла из моей памяти, а о голоде, от которого я раньше сильно страдал, я
вспомнил только потому, что перестал ощущать его. Когда я поднялся, я едва
успел рассмотреть самую широкую из четырех больших рек, которые, сливаясь,
образовывали озеро, как мое обоняние исполнилось самым сладостным ароматом
от разлитого по этой местности благоухания незримой души трав. Я узнал
также, что подорожный камень здесь неровен и тверд лишь на вид и становится
мягким под шагами.
Прежде всего я увидел перекресток, где скрещивалось пять великолепных
аллей, обсаженных деревьями, которые по своей необычайной высоте, казалось,
поднимались до самого неба в виде высокоствольного леса. Оглядьивая их от
корня до самых верхушек и еще раз спускаясь взором от верхушек до подножия,
я усомнился в том, несет ли их земля или сами они несут землю, прицепившуюся
к их корням; их гордые вершины, казалось, тоже гнулись под тяжестью небесных
сводов, бремя которых они несли лишь с тяжелыми стонами. Их ветви,
распростертые к небесам, казалось, обнимали их, моля светила небесные
осенить их благосклонным и очищающим своим воздействием, и о том, чтобы
воспринять его еще чистым и не утратившим своей девственности от смешения с
земными элементами. Здесь со всех сторон цветы, единственный садовник
которых - природа, издают сладостный, хотя и дикий аромат, который
возбуждает и радует обоняние. Тут алый цветок шиповника, лазоревая фиалка,
растущая под терновником, не оставляют свободы для выбора, и одна вам
кажется прекраснее другой; здесь весна не сменяется другими временами года,
здесь не вырастает ядовитое растение, а если оно и появляется, то сейчас же
погибает; здесь ручьи веселым журчанием рассказывают камням о своих
путешествиях; здесь тысячи пернатых певцов наполняют лес звуком своих
мелодичных песен; сборище этих трепещущих божественных музыкантов так
велико, что кажется, будто каждый лист этого леса превратился в соловья. Эхо
так восхищается их мелодиями, что, слушая, как оно их повторяет, кажется,
будто оно само хочет их выучить. Рядом с этим лесом видны две поляны, их
сплошная веселая зелень кажется изумрудом, которому нет конца. Весна,
рассыпая разнообразные краски по сотням мелких цветочков, смешивает их с вос
хитительной небрежностью и оттенки их перебрасывает с одного цветка на
другой; и не знаешь, друг от друга ли бегут эти цветьг, волнуемые летним
зефиром, или же они убегают от него, чтобы спастись от шаловливых его ласк.
Этот луг можно было бы даже принять за океан, ибо он безбрежен, как море, и
мой взор, испуганный тем, что забежал так далеко и не увидел края, поспешил
послать туда мою мысль; мысль же моя, сомневаясь в том, что это конец мира,
хотела убедить себя, что красота этих мест, быть может, заставила небо
соединиться с землей. Среди этого великолепного и обширного цветочного ковра
серебряной струей пробивается ключ; трава, окаймляющая его, пестрит
кувшинками, лютиками, фиалками и сотней других мелких цветов; они теснятся к
воде, будто каждый из них спешит полюбоваться на свое отражение. Но ручей
еще в колыбели; он только что родился, и на его юном и гладком лице нет ни
одной морщинки. Большие изгибы, которые он делает, по тысячу раз возвращаясь
к месту своего рождения, показывают, что он очень неохотно покидает свою
родину, и, как бы устыдившись того, что его ласкают в присутствии матери, он
журча отталкивает мою руку, которая хочет к нему прикоснуться. Животные,
подходившие к ручью, чтобы утолить свою жажду, более разумные, чем животные
нашей Земли, выражали свое удивление тому, что с неба льется свет, между тем
как они видят солнце в ручье; они не решаются склониться к краю воды из
опасения упасть на небо.
Я должен вам признаться, что при виде стольких красот я ощутил то
приятное и болезненное чувство, которое, говорят, испытывает эмбрион в ту
минуту, когда вливается в него душа. Старые волосы упали с меня и уступили
место другим, более густым и более мягким. Я почувствовал, как загорелась во
мне молодая кровь, мое лицо покрылось румянцем, моя естественная теплота
незаметно и гармонически проникла все мое существо, одним словом, я оказался
помолодевшим на четырнадцать лет.
Я прошел приблизительно с полмили в лесу жасминов и мирт, когда
заметил, что в тени что-то зашевелилось. Это был юноша, величественная
красота которого заставила меня с благоговением пасть перед ним на колени.
Он встал, чтобы помешать этому. "Не мне,- сказал он,- а богу ты должен
поклоняться". "Вы видите человека,- сказал я,- потрясенного этими чудесами
настолько, что он не знает, чем он должен прежде всего восхищаться, ибо,
прибыв сюда из мира, который вы здесь, без сомнения, считаете Луной, я
предполагал, что попал в тот мир, который мои соотечественники с своей
стороны точно так же называют Луной; а между тем я очутился в раю, у ног
божества, которое не хочет, чтобы ему поклонялись". "Вы совершенно правы, за
исключением того звания бога, которое вы мне приписываете,- отвечал он,-
между тем я только его тварь, но эта земля действительно есть Луна, которую
вы видите с земного шара, а место, где вы сейчас находитесь, это земной рай,
куда никто никогда не проникал за исключением шести человек: Адама, Евы,
Эноха*, меня - я старый Илия*,- евангелиста Иоанна* и вас. Вам хорошо
известно, как двое первых были отсюда изгнаны, но вы не знаете, как они
попали в ваш мир. Так знайте же, что после того как они оба вкусили
запретного плода, Адам, боясь, что бог, гневаясь на его присутствие, усилит
его наказание, стал думать о том, что Луна, т. е. ваша Земля,- единственное
убежище, где он может укрыться от преследований своего творца. В то время
воображение человека, еще не развращенное ни распутством, ни грубой пищей,
ни болезнями, было так сильно, что страстного, возгоревшегося в Адаме
желания скрыться в этом убежище было достаточно для того, чтобы он был туда
вознесен, тем более, что тело его, охваченное пламенем энтузиазма, сделалось
совершенно легким; ведь мы имеем примеры того, как некоторые философы,
воображение которых было напряженно направлено на одну мысль, были восхищены
на небо в том состоянии, которое вы называете экстазом. Ева, которая по
немощи, свойственной ее полу, была слабой и менее пламенной, вероятно, не
имела бы достаточно силы воображения, чтобы напряжением воли побороть
тяжесть материи. Но так как прошло очень мало времени с тех пор, как она
вышла из ребра своего мужа, симпатия, которая еще связывала эту часть с ее
целым, увлекала и ее за ним, по мере того как он поднимался, точно так же,
как за янтарем тянется соломинка, как магнитная стрелка поворачивается к
северу, откуда она была оторвана. Так и Адам притянул к себе эту часть
самого себя подобно тому, как море притягивает к себе реки, которые из него
же вышли. Прибыв на вашу землю, они поселились в местности между
Месопотамией и Аравией. Евреи знали его под именем Адама, язычники - под
именем Прометея. О Прометее поэты создали басню, будто он похитил огонь с
неба, они при этом имели в виду его потомков, которых он наделил душой столь
же совершенной, какой была его собственная душа, данная ему богом. Итак,
ради того чтобы обитать в вашей земле, первый человек оставил эту землю
безлюдной. Но премудрый не захотел, чтобы такая прекрасная местность
оставалась необитаемой: несколько веков спустя он допустил, чтобы Энох,
наскучив обществом людей, которые стали развращаться, захотел их покинуть.
Однако одно только убежище, казалось этому святому человеку, могло спасти
его от честолюбия его родичей, перерезывавших друг другу горло ради того,
чтобы разделить между собою вашу землю - это убежище и была та благодатная
страна, о которой ему так много рассказывал его предок, Адам. Однако как
туда подняться? Лестница Иакова* в то время еще не была изобретена. Но
благодать всевышнего осенила его, и он обратил внимание на то, как небесный
огонь нисходит на жертвоприношения праведных и тех, кто угоден господу,
согласно слов из его уст: благоухание жертвы праведника дошло до меня.
Однажды, когда это божественное пламя с ожесточением пожирало жертву,
приносимую предвечному, он наполнил поднимавшимся от огня дымом два больших
сосуда, которые герметически закупорил, замазал и привязал себе под мышки.
Тогда пар, устремляясь кверху, но не имея возможности проникнуть сквозь
металл, стал поднимать сосуды вверх и вместе с ними поднял этого святого
человека. Когда он таким образом долетел до Луны и окинул взором этот чудный
сад, наплыв радости, почти сверхъестественный, подсказал ему, что это то
самое место, где когда-то жил его праотец. Он быстро отвязал сосуды,
привязанные к его плечам наподобие крыльев, и сделал это так удачно, что как
только он приблизился к Луне на расстояние четырех сажень, он расстался со
своими поплавками. Расстояние это, однако, было еще настолько велико, что
при падении он мог бы сильно пострадать, но его спасла его широкая одежда, в
которую врывался ветер, раздувая ее, а также сила его пламенной любви. Что
касается его сосудов, то они поднимались все выше и выше, пока бог не
вправил их в небо. И теперь они все еще там и составляют то, что называется
созвездием Весов; каждый день мы ощущаем наполняющее их до сих пор
благоухание от жертвы, принесенной праведником, и испытываем то
благоприятное воздействие, которое они оказали на гороскоп Людовика
Справедливого*, родившегося под знаком их.
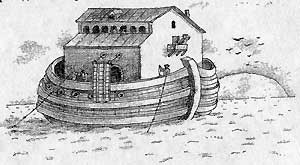 Энох, однако, не сразу попал в этот сад, а только некоторое время
спустя. Это было во время потопа, когда ваша Земля исчезла под водами и сами
воды поднялись на такую страшную высоту, что ковчег плыл в небесах на одном
уровне с Луной. Обитатели ковчега увидели ее через окно, но не узнали ее и
подумали, что это маленький участок земли, почему-то не затопленный водой;
это случилось потому, что солнечный свет, отраженный от этого огромного,
непрозрачного тела, казался им очень слабым ввиду близости ковчега к Луне и
ввиду того, что сам ковчег попал в сферу этого отраженного света. Только
одна из дочерей Ноя, по имени Ахав, с криком и визгом настаивала на том, что
это несомненно Луна. Она, вероятно, заметила, как ковчег приближался к этому
светилу по мере того, как поднимался на водах. Сколько ей ни доказывали,
что, когда бросили якорь, в воде оказалось лишь пятнадцать локтей глубины,
она все стояла на своем и отвечала, что якорь, очевидно, попал на хребет
кита, которого и приняли за Землю, она же с своей стороны совершенно
убеждена, что они пристают именно к самой Луне. Наконец, так как всякий
соглашается с мнением себе подобных, все остальные женщины убедили друг
друга в том же. И вот они, не обращая внимания на запрещение мужчин,
спустили в море лодку. Ахав, как самая смелая из них, захотела первая
испытать опасность. Она весело бросилась в лодку, и к ней присоединились бы
все остальные женщины, если бы поднявшаяся волна не отделила лодки от
ковчега. Сколько ни кричали ей вслед, сколько ни обзывали ее лунатиком,
сколько ни уверяли, что по ее вине всех женщин обвинят в том, что у них в
голове четверть месяца, она только смеялась в ответ на все это. И вот она
поплыла вон из мира. Звери последовали ее примеру и большинство птиц, с
нетерпением переносивших первое заключение, ограничившее их свободу, и
почувствовавших в своих крыльях достаточно силы, чтобы отважиться на это
путешествие, вылетели вон и долетели до суши. Даже некоторые четвероногие
животные, из самых храбрых, бросились вплавь. Их вышло около тысячи, прежде
чем сыновьям Ноя удалось закрыть двери хлевов и стойл, которые открыли
настежь вырывавшиеся оттуда звери. Большинство из них доплыло
Энох, однако, не сразу попал в этот сад, а только некоторое время
спустя. Это было во время потопа, когда ваша Земля исчезла под водами и сами
воды поднялись на такую страшную высоту, что ковчег плыл в небесах на одном
уровне с Луной. Обитатели ковчега увидели ее через окно, но не узнали ее и
подумали, что это маленький участок земли, почему-то не затопленный водой;
это случилось потому, что солнечный свет, отраженный от этого огромного,
непрозрачного тела, казался им очень слабым ввиду близости ковчега к Луне и
ввиду того, что сам ковчег попал в сферу этого отраженного света. Только
одна из дочерей Ноя, по имени Ахав, с криком и визгом настаивала на том, что
это несомненно Луна. Она, вероятно, заметила, как ковчег приближался к этому
светилу по мере того, как поднимался на водах. Сколько ей ни доказывали,
что, когда бросили якорь, в воде оказалось лишь пятнадцать локтей глубины,
она все стояла на своем и отвечала, что якорь, очевидно, попал на хребет
кита, которого и приняли за Землю, она же с своей стороны совершенно
убеждена, что они пристают именно к самой Луне. Наконец, так как всякий
соглашается с мнением себе подобных, все остальные женщины убедили друг
друга в том же. И вот они, не обращая внимания на запрещение мужчин,
спустили в море лодку. Ахав, как самая смелая из них, захотела первая
испытать опасность. Она весело бросилась в лодку, и к ней присоединились бы
все остальные женщины, если бы поднявшаяся волна не отделила лодки от
ковчега. Сколько ни кричали ей вслед, сколько ни обзывали ее лунатиком,
сколько ни уверяли, что по ее вине всех женщин обвинят в том, что у них в
голове четверть месяца, она только смеялась в ответ на все это. И вот она
поплыла вон из мира. Звери последовали ее примеру и большинство птиц, с
нетерпением переносивших первое заключение, ограничившее их свободу, и
почувствовавших в своих крыльях достаточно силы, чтобы отважиться на это
путешествие, вылетели вон и долетели до суши. Даже некоторые четвероногие
животные, из самых храбрых, бросились вплавь. Их вышло около тысячи, прежде
чем сыновьям Ноя удалось закрыть двери хлевов и стойл, которые открыли
настежь вырывавшиеся оттуда звери. Большинство из них доплыло